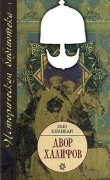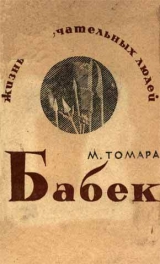
Текст книги "Бабек"
Автор книги: Михаил Томара
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Арабские гарнизоны были размещены в разных пунктах области, главной базой их стал город Марага. Как и в других областях халифата, заключенные договоры не соблюдались жадными Оммайядами. Притеснения и придирки легко приводили к местным бунтам, а этого было достаточно, чтоб правительство могло считать договоры нарушенными и приступить к новому «завоеванию», т. е. к отобранию земель и обращению движимого имущества жителей в военную добычу. В результате жители обнищали, земли стали казенными, однако сельское население не обращалось в рабство, а оставлялось на своих участках в крепостной зависимости у новых господ. Некоторые земли Оммайяды раздали во владение арабским главарям; так, Мохаммед ибн ар Равад из племени Азд получил Тавризский округ, Али ибн Морра – Карызский округ, людям из племени Гамдан даны земли в Миане; некоторые земли остались во владений доказавших свою преданность дехканов.
Большая же часть Азербайджана была отдана во владение правителю области Мервану, члену семьи правящей династии. Живя на месте, правитель видел бедственное положение своих крестьян, понял, что его собственные доходы зависят от под'ема их благосостояния; он «оживил» земли, т. е. провел искусственное орошение, помог крестьянам инвентарем, так что их положение было несколько лучше, чем в других местах.
Положение крестьян резко изменилось с падением династии Оммайядов и воцарением Аббасидов. Имения Мервана перешли опять в казну, а к началу девятого века были отданы халифом Гарун аль Рашидом частью жене, Зобеиде, частью дочерям. Принцессы, конечно, никогда не посещали своих азербайджанских имений, только требовали от управляющего денег и денег, которые тратили на безумную роскошь и на «богоугодные» дела. Так, Тае Зобеида истратила более семисот тысяч рублей золотом на устройство водопровода в Мекке, где нехватало питьевой воды для паломников, и на колодцы на пути паломников из Багдада. Управляющие имениями и их агенты в селениях не забывали себя, и невероятное угнетение и выжимание последних средств у крестьян усилилось. Жаловаться на принцесс, конечно, было некуда. Крестьяне, по большей части хуремиты, бросали землю, уходили в горы и вступали в открытую борьбу с угнетателями.
Бабек
Яркое южное солнце освещало покрытую вечным снегом вершину горы Себелан у Ардебиля. Глубокий снег лежал и в ущельях и на скалах вокруг горы, на которой стояла неприступная крепость Базз между Ардебилем и Арраном. В крепости шел пир горой. Раздавались веселые песни, звучали флейты, кимвалы и мандолины. Вино лилось рекой, кабаны, зайцы и другая снедь, воспрещенная кораном, лежали перед пирующими. Среди загорелых воинов сидели женщины с открытыми лицами, и когда из ближней деревни раздался с минарета голос муэдзина, призывающий к послеобеденной молитве, никто из пирующих не встал, не совершил омовения и не сотворил молитвы. Все это происходило через двести лет после смерти Мохаммеда, в пределах империи халифов, когда правила «благочестивейшая, богом благословенная» династия Аббасидов, когда царствовал Абдалла эль Мамун, «достойный доверия» (подразумевается – божья).
По какому случаю этот пир, и кто были эти дерзкие люди, осмелившиеся открыто нарушать все заветы ислама, пить вино, есть запретные кушанья, глядеть в открытые лица женщин и не совершать в установленные часы предписанных законом молитв?
То были «неверные разбойники, низкая чернь», как их называют мусульманские историки, то были восставшие против властей крестьяне, то были, по официальной терминологии мусульманских богословов, хуремиты.
А пировали они по случаю выборов нового вождя вместо недавно умершего Джавизана и по случаю женитьбы нового избранника на вдове покойного.
Джавизан вернулся с удачного похода, но вернулся смертельно раненый и на третий день умер. Вдова умершего позвала к себе молодого человека из отряда Джавизана – Бабека и сказала ему: «Ты человек решительный и с головой. Приготовься к завтрашнему утру, я соберу приверженцев мужа и сообщу им, что покойный сказал мне перед смертью: «Передай моим товарищам, – я знаю, что сегодня ночью должен умереть, – что душа моя перейдет из моего тела в тело Бабека, сольется с его душой, и он с вашей помощью достигнет такого могущества, которого еще никто из нас не достигал, истребит сильных мира сего, восстановит учение Маздака; презренный среди вас достигнет почета и униженные возвысятся».
Утром на следующий день на зов вдовы собрались все воины отряда Джавизана, и она сообщила им, что покойный поручил ей передать свою последнюю волю относительно своего преемника. Они спросили: «Почему же он сам не сказал нам этого перед смертью?» Она ответила: «Вы разбрелись по вашим селеньям, и если б он разослал гонцов, чтоб созвать вac, то арабы узнали бы об этом и воспользовались его беспомощным состоянием. Поэтому он обязал меня созвать вас, чтобы вы выслушали его завещание и выполнили его». «Говори, – сказали крестьяне, – мы ему повиновались, когда он был жив, и не пойдем против воли умершего». Вдова сказала: «Вот его последние слова: – Я должен умереть этой ночью, душа моя перейдет в тело этого юноши, моего слуги (и он указал на Бабека). Я решил передать ему власть над моими соратниками и, как только умру, сообщи им. Проклят тот, кто будет против этого и чья воля будет противоречить моей». «Мы согласны», ответили они.
Тогда она приказала им привести быка, зарезать его, содрать с него шкуру, разостлать ее, поставить на ней кубок с вином, а вокруг него положить ломти хлеба. Затем она стала вызывать всех одного за другим, говоря: «Поставь ноги на кожу, возьми ломоть хлеба, обмокни его в вино, с'ешь его и скажи: «Верю в тебя, дух Бабека, как верил раньше в дух Джавизана». Затем возьми руку Бабека, нагнись и поцелуй ее». Так сделали все присутствовавшие. После этого все уселись, начался пир и веселье. Трижды они выпили. Тогда вдова Джавизана взяла связку благовонных трав и передала ее Бабеку. Это и был их свадебный обряд. Все встали и поклонились им в знак того, что они одобряют этот брак.
Так рассказывает про первое выступление Бабека на общественном поприще арабский писатель Мохаммед ибн Исхак, черпая сам эти сведения из старинной книги «Ахбар Бабек» («Известия о Бабеке»), до нас не дошедшей.
Кто же был Бабек, ставший вождем хуремитов?
Мы не имеем точных сведений о годе рождения Бабека, но из косвенных указаний можно заключить, что он родился в 798–800 году. Имя отца его было Абдалла. Абдалла был набатеянином из Мадиана. Чисто арабское имя – Абдалла – указывает на то, что он был мусульманином. Как многие жители Савада, покоренного арабами, он внешне принял ислам, так как переход в ислам сопровождался разными привилегиями, а главное – освобождением от подушной подати.
Абдалла не остался жить в Мадаине, а перебрался в Азербайджан, где снискивал себе пропитание, по-видимому, весьма скудное, торговлей в разнос растительным маслом. С бурдюком масла за спиной он бродил по горам и долинам восточного Азербайджана и однажды попал в селение Билалабад округа Мимед. Тут он познакомился с девушкой, имени которой не называют источники, указывая только, что она была одноглазая. Она сошлась с Абдаллой без всяких обрядов и официальных разрешений, не испросив согласия отца, из чего нужно полагать, что семья ее принадлежала к секте хуремитов. Однажды женщины их села, проходя мимо зарослей тростника, услышали звуки набатейских песен и смех. Заинтересованные, они вошли в тростник и застали там эту девушку в об'ятиях незнакомого человека. Абдалла убежал. Женщины были правоверными мусульманками, они схватили несчастную жену Абдаллы за волосы, потащили в село, где подвергли всяким издевательствам, как распутную девку.
Эти издевательства и побои оставили неизгладимый след в сердце жены Абдаллы, усилили ее хуремитские убеждения, которые она и передала потом своим детям.
Во избежание дальнейших гонений пришлось Абдалле оформить, брак; спросив свадьбу, он основался в Билалабаде, но не бросил своей торговли и продолжал бродить по Азербайджану. Однажды вблизи Ардебиля, около горы Себелан, он подвегся нападению какого-то прохожего, вступил с ним в борьбу, ранил его, но сам получил смертельную рану, от которой, вернувшись домой, вскоре умер.
Умирая, Абдалла оставил жену и двоих детей – Хасана и Абдаллу. Старший сын Хасан потом прославился под своим иранским именем – Бабек. Трудно было бедной женщине, оставшейся без всяких средств, в полуразвалившейся хижине, кормить и воспитать ребят. Она поступила в няньки к детям в зажиточный дом и тем поддерживала семью, пока Бабек не достиг десятилетнего возраста. Тогда он поступил в пастухи и пас чужие стада, своим скудным заработком помогая матери.
Как то бывало с многими другими выдающимися людьми, стяжавшими себе любовь и преданность народных масс, о периоде его детства сложились легенды, в которых сельский люд хотел видеть предзнаменование его великого будущего. Одну из таких легенд передает Мохаммед ибн Исхак: «Однажды Бабек долго не возвращался домой, и мать, встревоженная его отсутствием, пошла его искать. После долгих поисков, она нашла его среди стада коров, которых он пас; он спал под деревом, совершенно голый. Дело было в полдень. Взглянув на сына, она увидела, что под каждым его волосом выступила кровь. Когда она его разбудила и он встал, кровь начала менять цвет и стала невидимой. Тут она поняла, что ее сын призван к великим делам, и что пролито будет много крови в его жизни».
Достигнув более зрелого возраста, он поступил в погонщики верблюдов к караванщику аль Шибль ибн Мунки аль Азди, жившему в округе Сарат вблизи Мимеда, и с караванами исходил многие села и города Азербайджана и Аррана. Этот период жизни Бабека был чрезвычайно важен для развития его ума и расширения кругозора. Он избег той тупой ограниченности, которая является уделом крестьянина, сиднем сидящего в своем селении и ничего не знающего, кроме узких интересов своей ближайшей округи. Он увидел нищету, угнетение и притеснения крестьянства Азербайджана со стороны арабов и их туземных приспешников, всю неправду и вымогательства судей и сборщиков податей. Он, несомненно, встречался с многими тайными хуремитами, которыми кишели северные провинции халифата, и в это-то время его молодой ум проникся жаждой изменить положение крестьян, изгнать притеснителей и поработителей, низвергнуть сильных мира сего, а презренным и угнетенным дать почет и благосостояние. В своих странствованиях он встречался с людьми, которые еще помнили то время, когда иранское крестьянство отозвалось на зов Абу Муслима и поднялось против своих угнетателей-арабов и их правителей, когда оно свергло Оммайядов и возвело на престол халифов из дома Аббаса. Они помнили, какие надежды таились в сердцах угнетенных и какое горькое постигло их разочарование, как еще тяжелее начало давить их бремя податей и повинностей, когда у власти стали новые правители.
И своим быстрым умом он понял, что нечего ждать крестьянству от своих туземных властителей, что союз с ними принесет крестьянству лишь разочарование и еще более тяжкую нищету; ненависть к ним глубоко запала в его сердце, и недоверие к ним не оставляло его в самые критические минуты жизни.
Встречался он и с людьми, которые помнили, как сорок лет тому назад восстал в Мавераннахре Ата, прозванный Моканной, в которого, по верованию хуремитов, вселилась душа Абу Муслима; как во главе крестьянства восточного Ирана он два года наносил поражение за поражением войскам халифа, как поднялось в то же время крестьянство Хорасана и как разрозненность восставших привела к разгрому, сперва хорасанцев, затем и Моканна, который еще долго защищался в своей крепости Санам и, наконец, не видя спасения, отравил себя и своих последних приверженцев и погиб в пламени подожженного им дворца.
Период странствований по градам и весям Азербайджана и соседних областей имел большое значение в жизни Бабека еще и потому, что ему пришлось наглядно изучить топографию этих мест. Ему стали известны проходы и перевалы, неприступные скалы, источники питьевой воды, селения, где живут единомышленники, подходы к крепостям, где стояли арабские гарнизоны. Это знакомство дало ему возможность, когда он стал во главе восстания, организовать оборону, размещать засады, сделать свои позиции настолько неприступными, что все силы и вся мощь громадной империи разбивались об них в течение двадцати двух лет, и только предательство смогло погубить его.
Водительством караванов не ограничилась деятельность Бабека в его ученические годы. После нескольких лет он бросил службу у эль Азди и отправился в Тавриз искать работы. Тавриз не был тогда столицей Азербайджана и не был тем большим городом, важнейшим центром Ирана, каким он стал в настоящее время. Главными городами в то время были попеременно Марага и Ардебиль. Все же Тавриз был городом с развитой кустарной промышленностью. Города Ирана еще до арабского завоевания славились искусством своих ремесленников; и в то время, как селения продолжали жить натуральным хозяйством, в городах уже оборачивались деньги, товары покупались и продавались, ремесленники работали на рынок, и почти каждый город имел свою специальность, славился тем или иным изделием; такие изделия вывозились даже из города и находили сбыт в столице. Во времена Аббасидов развитию промышленности содействовала и система обложения, которая устанавливала с городов дань не только деньгами, но и товарами местной продукции. Так, города Хузистана должны были поставлять в казну халифов 30 тысяч фунтов рафинированного сахара, города Фарса 30 тысяч бутылок розовой воды, города Седжистана 30 штук полосатых шелковых материй и 2 тысячи фунтов рафинада, Джоржан давал тысячу штук шелковых материй, Табаристан и Демавенд – шестьсот ковров.
Ремесленники были об'единены в союзы, весьма сходные с европейскими цехами средневековья: они также заботились о совершенствовании своих изделий и также усиленно эксплоатировали своих учеников и подмастерий. Впрочем и сами делались жертвами вымогательств и притеснений со стороны арабских властей, правителей, начальников полиции и других, которые охотно забирали у них товары, а затем забывали платить за них, или облагали ремесленников всякими поборами, не предусмотренными законом ислама.
В Тавризе Бабек познакомился с взглядами и надеждами ремесленников-хозяев и их рабочих, встретил у них ту же ненависть к завоевателям, то же озлобление против властей. Среди рабочих в мастерских было много хуремитов, а в хозяевах он видел союзников, по крайней мере на первое время, пока не будут изгнаны насильники. Тавриз закончил революционное воспитание Бабека, сделал из него убежденного врага арабской власти, туземных властителей и всех угнетателей трудящихся масс.
Когда ему минуло восемнадцать лет, он покинул Тавриз и вернулся к матери в Билалабад, чтобы помогать ей в хозяйстве. Тут случилось событие, которое открыло ему широкую дорогу, дало возможность выдвинуться и стать во главе хуремитов своей округи.
Недалеко от Билалабада, на горе Базз, стояла крепостца, владельцем которой был некий Джавизан ибн Сагрук. Судя по имени, он был перс, не перешедший в мусульманство; известно, что он был хуремитом и возглавлял местную организацию. Мы не знаем его происхождения: был ли он мелким феодалом, дехканом или вышел из крестьянской среды. Арабские писатели говорят о нем, как о разбойнике, но богатом, вечно враждовавшем с таким же, как он, соседом Абу Имраном из-за того, кто будет властвовать над окружающим населением. Враг Джавизана, судя по имени, был мусульманином, и даже арабом, так как только арабы, как мы знаем, титуловались почетными именами, начинающимися со слова «абу» (отец).
Джавизан собрал беглецов хуремитов и создал вооруженный отряд. Гористая местность, скалы и ущелья дали ему возможность не только укрывать свой отряд от преследований, но и создать на неприступной горе Базз крепость, которую историки и описывают как владение Джавизана. Вполне естественно, что Абу Имран, как араб, враждовал с Джавизаном и старался истребить его и его отряд.
Район деятельности Джавизана органичивался окрестными горами. Летом он делал набеги, нападал на проходившие вблизи его крепости купеческие караваны или отбивал скот местных помещиков, который на лето в этих странах выгоняется на горные пастбища. Зимой он сидел в своей крепости, либо отправлялся для реализации добычи, причем ему приходилось выбирать рынки подальше от своего места жительства, чтобы не быть узнанным.
Однажды зимой он погнал две тысячи овец на продажу в Зенджан, город, лежавший в 500 километрах от Базза. Удачно продав скот, он со своим отрядом возвращался домой. В горах Мимедского округа его застигла снежная буря. Пришлось остановиться на ночлег. Случилось это как раз вблизи Билалабада. Джавизан обратился к местному джазиру (сельскому старшине), чтобы тот указал ему дом ночлега. Старшина не посмел отказать человеку, окруженному вооруженными людьми, но решил сплавить его подальше, на окраину села.
Джавизан и его отряды были направлены к матери Бабека. Бедная вдова ничем не могла угостить прибывших: у ней самой ничего не было; она смогла только зажечь костер, чтобы гости обогрелись. Бабек тем временем присматривал за их вьючными животными. Чтобы накормить своих людей, Джавизан позвал Бабека, дал ему денег и послал в селение купить провизии. Когда тот вернулся с припасами и мать стала готовить ужин, Джавизан вступил в разговор с юношей; он был поражен его толковыми ответами, его развитием, его знакомством с местностью и, главное, его нескрываемой ненавистью к иноземным угнетателям народа и местным их приспешникам. Он понял, что Бабек не похож на рядового крестьянина, что он может стать его деятельным помощником и в случае надобности надежным заместителем. Он пригласил его присоединиться к отряду; Бабек сослался на невозможность оставить мать.
Тогда Джавизан обратился к матери и сказал:
– Я живу на горе Базз, у меня хорошее состояние. Мне нужен твой сын и я хочу взять его с собой; я сделаю его своим управляющим. Тебе же, которая лишится из-за этого помощника, буду платить ежемесячно пятьдесят дирхем.
Вдова ответила:
– Ты, кажется, действительно, благословен имуществом, видно, что ты богат. Доверяю тебе моего сына. Бери его.
Так попал Бабек в отряд Джавизана.
На следующее утро Джавизан двинулся в путь, направляясь в свою крепость. Бабек ехал с ним. На пути в Базз они подверглись нападению со стороны Абу Имрана. Абу Имран был разбит и пал в схватке, но и Джавизан получил колотую рану, оказавшуюся смертельной. Его с трудом принесли в Базз, и через три дня он умер, оставив Бабека в качестве своего преемника.
Судьба благоприятствовала Бабеку. Отряд, предводителем которого он сделался, состоял из воинов, уже закаленных в боях при прежнем начальнике. Большею частью они были открытыми хуремитами, но среди них были и мусульмане, впрочем, как говорят мусульманские источники, исключительно из чужестранцев (т. е. из неарабов) и из отпущенных на волю рабов, следовательно, из неполноправных групп населения. Несомненно, эти мусульмане принадлежали к еретическим сектам ислама, близким по верованиям к хуремитам. Такова, например, была секта измаилитов, или батинитов, хотя признававших Мохаммеда как пророка и Коран как слово божье, но толковавших его сплошь аллегорически, веровавших в переселение душ и не считавшихся с обрядной стороной ислама и его бытовыми постановлениями о пище, питье, браке и т. п. Измаилитов мы встречаем в позднейшей истории халифата как самых опасных его врагов, много содействовавших его упадку и крушению.
С этим небольшим, но испытанным отрядом Бабек решил выступить открыто против халифа, не ограничиваясь той мелкой партизанской войной, которую вел Джавизан.
Территория, на которой протекало восстание, благоприятствовала повстанцам, боровшимся против регулярной армии.
Иранский Азербайджан представляет собой плоскогорье, высоко лежащее над морем и изрезанное горами, особенно высокими в восточной его части. Недалеко от тогдашнего административного центра, Ардебиля, на север от него, возвышается гора Себелан, на вершине которой лежит снег, не тающий даже летом, несмотря на жаркое южное солнце. Высота Себелана немногим менее высоты Монблана, высочайшей горы Европы, и достигает четырех тысяч метров; многие горы в окрестности доходят до двух и трех тысяч метров. Горы эти с крутыми склонами, особенно восточными, обращенными к Каспийскому морю. Даже в XX веке они покрыты густыми лесами, и движение по ним сопровождается большими опасностями; зимой и в распутицу животным приходится двигаться по скользким от сырости и грязи каменным уступам, с которых немало их каждый год сваливается в пропасть.
В описываемые времена, т. е. в начале IX века, весь северный Азербайджан был покрыт густым лесом, вплоть до Армении, граничившей с ним на северо-западе.
Климат в иранском Азербайджане зимой чрезвычайно холодный. Нередки случаи, что люди замерзают в ущельях. Перевалы и горные проходы завалены снегом. Зима начинается рано, а весна наступает поздно. Лето зато очень знойное.
В центральной части, где находится теперешняя столица иранского Азербайджана – Тавриз – и когда-то, во времена Мамуна, был военный центр Марага, горы, хотя и несколько ниже, но все же являются большим препятствием для передвижения войск. Вся страна представляла собой в IX веке столько неприступных мест, которые легко было отстаивать с горстью людей против многочисленного войска, столько убежищ, где можно было укрыться или же устроить засаду, что война для регулярного войска, борющегося против местных жителей, хорошо знающих страну, являлась более чем затруднительной и во всяком случае была связана для него с крупными потерями.
Иранский Азербайджан чрезвычайно плодороден и в настоящее время является житницей Ирана. Поэтому повстанцы, местные жители, были обеспечены с'естными припасами, между тем как наступающие войска должны были привозить провиант издалека и доставлять его по трудным горным дорогам.
Не менее выгодные для восставших условия представляла собой и западная часть провинции Джебаль.
Эта провинция охватывала значительную часть Ирана, включала всю изрезанную горами, доходящими до четырех тысяч метров, область на границе Месопотамии (теперешнего королевства Ирак) и многие города и округа центрального Ирана, как Кум, Катан и Испагань. Положение западного Джебаля было чрезвычайно важное в стратегическом отношении. Через него вели горные проходы из Месопотамии, и немногочисленный отряд мог остановить тут целую армию, идущую из Багдада в Азербайджан.
На восток от Азербайджана, в Дейлеме и Табаристане, жили воинственные горцы, которых халифы не сумели покорить даже и после двухсот лет владычества над Ираном; трудные условия войны в горах и лесах этих провинций не давали халифам возможности прочно утвердить здесь свою власть, и они предоставляли им почти полную автономию под управлением местных феодалов (испеходов). За короткое время, когда жители этих провинций подпали под власть арабского халифа (при Мансуре), и до Мамуна, т. е. за период в шестьдесят лет, они восставали трижды – в 779, в 783–785 и в 797–798 годах. Все эти восстания носили хуремитский характер [3]3
Здесь господствовала особая ветвь хуремитов: мухаммира, по-арабски – красные.
[Закрыть]и не оставляли сомнения, на чьей стороне будут симпатии населения Дейлема и Табаристана в случае восстания в Азербайджане.
Наконец, со стороны запада, Армения – полуавтономная под управлением своих феодалов, вечно боровшаяся против мусульман за свою независимость – не угрожала никакой опасностью, а в случае беды через нее можно было бежать за пределы халифата на территорию Римской империи.
Однако, несмотря на выгодные географические данные, несмотря на надежные кадры закаленных бойцов, открытое восстание могло казаться актом безумия, грозившим скорой гибелью крестьянству Азербайджана. При неудаче пощады нельзя было ждать; грозило поголовное истребление или обращение в рабство. А как можно было надеяться на удачу? Ведь восстание было направлено против могущественной империи, раскинувшейся на двух материках, от снежных гор Тянь-Шаня до вод Атлантического океана и песков Сахары. Повстанцам предстояло бороться против всей мощи громадного войска народа-воинов, в течение пятидесяти лет завоевавших империю, на много превышавшую все, чем владел Рим в дни его наибольшего могущества. Против плохо вооруженных, недисциплинированных крестьян одной провинции империи стояла хорошо вооруженная армия, стояли все финансовые средства халифата, выкачивавшего из своих владений по полутораста миллионов рублей золотом ежегодно (за покрытием всех текущих расходов по управлению), стояла вся денежная мощь торгового капитала Савада, стояли и иранские феодалы, опытные в военном деле и влиятельные в советах Аббасидов.
И все же, несмотря на все это, шансы Бабека были не столь безнадежны, успех был возможен.
Империя халифов к этому времени, казалось, достигла вершины своего могущества, высшего расцвета культуры. Далекий император Западной Европы посылал в Багдад пышные посольства, император Китая благосклонно принимал арабских купцов и разрешал им свободно торговать по всей стране. Индийские цари присылали дары, вечно враждебная Византия прекратила войну на малоазиатской границе. Но в этом расцвете, в этой, казалось, несокрушимой мощи таились противоречия, которые подрывали всю эту мощь, весь этот расцвет, несли разложение и упадок, который и наступил через пятьдесят лет после выступления Бабека.