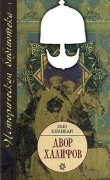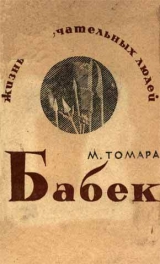
Текст книги "Бабек"
Автор книги: Михаил Томара
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Мамун
Умирая, халиф Гарун завещал престол Эмину, сыну от своей главной жены Зобеиды; управление же всеми восточными провинциями халифата поручил другому своему сыну, Мамуну, происходившему от матери персиянки. К нему же после смерти Эмина должен был перейти престол. Резиденция Мамуна была в главном городе Хорасана – в Мерве, окруженном владениями иранских феодалов.
Эмин искал себе опору в арабской и обарабившейся буржуазии городов Багдада и Савада; на Мамуна возлагали все свои чаяния иранские феодалы. Противоречия между этими двумя классами привели и не могли не привести сыновей Гаруна к открытому столкновению, к гражданской войне.
Эмин об'явил, в нарушение завещания своего отца, своим наследником сына, отстраняя этим от престолонаследия своего брата Мамуна. Мамун прекратил сношения с центром, перестал чеканить на монетах имя брата и начал повсюду, вплоть до Багдада, поднимать против него народ.
Эмин выслал против непокорного брата войска. Дружины, набранные среди арабов Савада, не желали итти в поход, который не сулил богатой добычи и отрывал их от мирных занятий. Жалкие остатки этих войск были разгромлены около Рея иранскими отрядами Мамуна, руководимыми иранцем же, командующим войскам Тагиром ибн Хусейн. Мамун овладел всей страной до границ Савада. В войсках нового набора, посланных Эмином, вспыхнули раздоры между арабскими и хорасанскими частями. Кончилось тем, что и те и другие бросили лагерь и вернулись самовольно в Багдад (конец 811 года).
Эмин решил привлечь более надежные войска из Сирии. Они были чисто арабскими, были более воинственны, чем багдадские купцы. Но главный контингент их составляли племена, главари которых сильнее всего пострадали при Абу Муслиме, и их преданность Аббасидам была более чем сомнительна. К тому же в это время среди них разгорелись междуплеменные раздоры, почти не прекращавшиеся среди арабских кочевников. Сирийцы не дали почти ничего. Небольшой отряд их, не доходя до Багдада, соединился с хорасанской гвардией халифа, но тут же между обеими национальностями возникли кровавые конфликты, и разгорелся настоящий бой; сирийцы круто повернули и пошли назад в Сирию. Хорасанская гвардия, распропагандированная агентами Мамуна, взбунтовалась, и мятеж был подавлен лишь с большим трудом.
Войска же Мамуна подходили все ближе и ближе к столице: подходили они с двух сторон, изолируя доступ к ней с запада и с востока.
Багдад оказался отрезанным от западных провинций, войска требовали денег. Эмину пришлось обложить буржуазию, и этим он лишился последней опоры. Все же около полутора лет он еще держался за крепкими стенами столицы, а в последнее время за стенами дворца. Наконец голод заставил его покинуть дворец и отплыть на лодке к главнокомандующему войсками Мамуна, арабу Гартама, старому слуге Аббасидов, надеясь на пощаду с его стороны. По дороге его лодку перехватили воины Тагира, командовавшего осадными отрядами, и по приказу последнего ему отрубили голову (сентябрь 813 г.).
Мамун вышел победителем из борьбы и поспешил прежде всего выполнить желания феодалов. Он не переехал в Багдад, а остался в Мерве. Визарем его был перешедший в ислам иранец Фадл ибн Сахл; теперь брат его Хасан был назначен правителем Савада и всех западных провинций.
Недовольством населения Аравии и Басры, подогреваемым иранофильской политикой Мамуна, не замедлили воспользоваться Алиды: им удалось поднять восстание, охватившее всю Аравию, Савад и Хузистан и тянувшееся с начала 815 до середины 816 года, когда его удалось подавить.
Мамун продолжал угождать иранским феодалам. Преданный династии, но враждебный иранцам, главнокомандующий Гартама был посажен в тюрьму под самым пустым предлогом; там он и умер, по официальной версии, «естественной смертью». Иранец Тагир стал главнокомандующим.
Чтоб положить предел алидской пропаганде, Мамун решил сделать Алидам важную уступку, которая, как он рассчитывал, должна была укрепить симпатии к нему иранских феодалов, а также арабских колонистов в иранских городах, где сильны были настроения в пользу потомков Али. Он назначил своим преемником Али ибн Муса ар Рида – одного из наиболее популярных среди иранцев потомков Али, отстранив таким образом от престола Аббасидов, и заменил черное знамя зеленым – цветом Алидов.
Если эта мера и стяжала Мамуну популярность среди высших слоев Ирана, то она вызвала бурю негодования среди торгового класса и ремесленников Багдада. Буржуазии Савада стало ясно, что ее гегемонии грозит конец, что резиденция двора останется в далеком Хорасане, где вот уже четыре года после своего воцарения сидел Мамун, что с ее интересами не будут считаться. Поднялся мятеж. Мамун был объявлен низложенным, и халифом Багдад избрал его дядю Ибрагима ибн Махди (817). Мятеж шел под лозунгом: «Не хотим огнепоклонника, сына огнепоклонницы».
Савад был самой доходной провинцией халифата. Западные провинции давали тоже крупный доход, а на их добровольное подчинение Ирану едва ли можно было рассчитывать. Мамун понял, что его иранофильская политика лишит его лучших, доходнейших областей. Он круто изменил курс. Назначенный им преемник, Али ар Рида, которого он женил на своей дочери, внезапно умер, поевши винограду, присланного ему «любящим» тестем. Любимец Мамуна, его министр и правая рука, Фадл ибн Сахл, был убит какими-то злоумышленниками, среди которых фигурировал и главный конюший двора Мамуна. Правитель Савада – Хасан – был признан сумасшедшим. Мамун двинулся из Хорасана в Багдад, об'явив о перенесении туда своей резиденции. Эти события изменили настроения багдадской буржуазии: пребывание двора халифа в Багдаде означало закрепление за местными купцами и ремесленниками главных потребителей их производства – дворцовой знати и чиновников, а вместе с тем открывалась возможность непосредственного влияния на политическое поведение халифа. Багдадцы свергли Ибрагима и признали Мамуна халифом. Мамун в'ехал в свою верную столицу, расположился во дворце отцов, и черный цвет вновь сделался государственным цветом. Это было в августе 819 года, когда восстание Бабека уже было в полном разгаре.
На событиях, сопровождавших воцарение и первые годы царствования Мамуна, пришлось остановиться подробно, так как они еще более ярко обрисовывают все те противоречия, которые раздирали халифат, подтачивали его силы и давали возможность восстанию, поднятому Бабеком, распространяться и вширь й вглубь, охватить без помех две громадные провинции. Воцарение Мамуна проходило в обстановке резкого классового столкновения высших слоев арабского халифата. Этим и об'ясняется, что выступение Бабека не было подавлено в самом зародыше. А в дальнейшем пламя крестьянского восстания разгорелось с такой яркостью, что потребовало напряжения всех сил государства, чтобы справиться с ним и потушить его.
Мамун стал полновластным правителем громадной территории халифата. Иранец по происхождению со стороны матери, воспитанный, как все принцы того времени, в гареме матери, в ее иранском окружении, с ранней молодости живший в Хорасане, среди иранского населения, он, несомненно, по всем своим вкусам и симпатиям был иранцем.
Но события первых лет его царствования показали ему наглядно, что арабская буржуазия Савада представляет собою не малую силу, с которой волей-неволей придется считаться, и Мамуну во все время своего царствования (813–833) приходилось, искусно подражая политике своего прадеда Мансура, лавировать между классовыми и национальными запросами и стремлениями иранской феодальной аристократии и арабской буржуазии Савада. Когда нужно было, он делал уступки буржуазии, когда можно было, он всякими мерами старался привлечь симпатии высших слоев иранского населения.
Немедленно по в'езде в Багдад он уменьшил оброк с крестьян Савада на 20 % (вместо половины урожая – две пятых), что несколько облегчило положение крестьян, повысило их покупную способность и дало возможность буржуазии расширить свои торговые обороты.
С иностранными государствами он вел определенно мирную политику. Прекращены были всякие набеги и завоевания по ту сторону Сыр-Дарьи. Мир с турками и китайцами обеспечил развитие торговых сношений по караванному пути с Дальнего Востока через Бухару к Багдаду и Черному морю. Завоевания в сторону Индии были также прекращены и даже прежде завоеванная провинция Синд была оставлена на произвол судьбы, чтобы избегнуть вооруженных столкновений с эмирами, ставшими независимыми.
С исконным врагом ислама, Византией, прочного мира, правда, не было, но с начала халифата Мамуна наступило фактическое перемирие, которое было нарушено лишь в последние годы его царствования, и то не по воле халифа, а византийцами.
На крайнем западе северо-африканская провинция, по-арабски – Ифрикия, находившаяся под управлением эмиров из рода Ибн Аглаба, была фактически независима, дани не присылала, но номинально признавала верховную власть халифа. Мамун не трогал Аглабидов и не делал усилий подчинить их и получить с них дань.
Делая, таким образом, существенные уступки миролюбию буржуазии Савада и содействуя развитию торговли, Мамун считал все-таки своей главной опорой высшие слои иранского населения, которые, обладая более древней и высокой культурой, были более пригодны для участия в управлении государством, чем арабы, едва вышедшие из дикого состояния. Привлекая иранскую аристократию к занятию государственных постов, он удерживал в повиновении всю восточную половину своего государства. Для иранцев открылся широкий доступ в администрацию и управление. Требовалось только, чтобы они исповедывали мусульманскую религию. Главные советники Мамуна и министры его были иранцы по происхождению. Не следует заключать из этого, что Мамун был тем, что мы назвали бы теперь иранским националистом; известно его изречение: «Сословие об'единяет всех его членов: благородный араб ближе к благородному иранцу, чем к простому арабу, а благородный иранец ближе к благородному арабу, чем к простому иранцу, ибо благородные образуют особое сословие, а простые другое».
Иранцы оказались более способными к наукам и искусствам. Быстро овладев всеми тонкостями арабского языка, который был единственным государственным языком и языком высшего общества, иранцы стали не только писать научные произведения на арабском языке, но и состязаться с арабами на поприще арабской поэзии. Больше того, именно они создали научную арабскую грамматику, и арабы стекались со всех концов халифата в Басру, Куфу и Багдад учиться своему родному языку у бывших еще недавно в таком презрении иранцев. Иранцы же стали переводить на арабский язык литературу Ирана и Индии. Немного ранее Мамуна знаменитый знаток арабского языка иранец Ибн эль Мокаффа передал индийские сказки «Калила и Димна» и древнеиранские предания, собранные в книгу «Шахнамэ», которая позднее дала материал великому Фирдоуси для его бессмертного произведения, носящего тоже имя «Шахнамэ». Сирийцы познакомили арабов с греческой наукой и философией, сделав массу переводоа с греческого на арабский; переводились книги по астрономии, математике, медицине, естественным наукам, переведены были и важнейшие сочинения Аристотеля, легшие в основание всей арабской философии. Иранцы дали перевод из индийских научных сочинений.
Мамун ревностно поддерживал это культурное движение и оказывал народившейся мусульманской интеллигенции, в основном иранского происхождения, существенную материальную поддержку. Он даже учредил в Багдаде «Дом науки», при нем громадную библиотеку и обсерваторию для наблюдений за небесными светилами. Этот «Дом науки» стал вскоре средоточием для ученых, усердно работавших над ознакомлением с чужестранными сочинениями и над дальнейшим развитием наук.
Потоки научных знаний, хлынувшие в мир ислама, сильно подорвали влияние религии в высших классах, и самые разнообразные вероучения, подчас весьма далекие от ислама, овладели умами. Зародившаяся. еще раньше в Басре мусульманская секта мотазилитов сделала громадные успехи, и сам Мамун, верховный имам, высший истолкователь мусульманского учения, примкнул к ней и не только, примкнул, но стал силой насаждать учение этой секты среди правоверных. Секта эта имела несколько рационалистический характер, отбрасывала грубый антропоморфизм правоверного ислама, отрицала несотворенность священной книги мусульман, Корана, признавала за человеком свободу воли, свободу выбора им своих поступков. Это учение несомненно шло в разрез с категорическим учением корана, по которому бог создает людей, уже заранее предопределив их поступки на земле и последствия этих поступков после смерти в виде наград и наказаний в потустороннем мире.
Принципы мотазилитской секты, сочувственно воспринятые верхушкой багдадской буржуазии, внедрялись Мамуном со всей энергией деспотической власти.
Непокорных, в том числе знаменитого и крайне популярного в массах Ахмеда ибн Ханбала, он потребовал выслать из Багдада и отправить в лагерь на византийской границе, где он командовал войсками.
Насильственные мероприятия халифа возбудили против него большое озлобление среди мелкой буржуазии и низов населения Багдада, фанатически преданных Ахмеду ибн Ханбалу и его единомышленникам, стоявшим за старое правоверие, и в столице происходили довольно серьезные волнения. Мамун терял всякую популярность среди арабских масс Савада.
Одновременно он всячески стремился удовлетворить стремления и той части иракской аристократии и интеллигенции, которая внешне исповедывала ислам, но придерживалась втайне старых иранских верований. Особенно терпимо он относился к манихеям, приверженцам одной из сект иранской религии, основанной некиим Мани, соединившим зороастрово учение с заимствованиями из христианской и буддистской религий.
Манихеев, или, как арабы их называли, зиндиков, до Мамуна жестоко преследовали. Мусульмане утверждали, что зиндики отрицают существование бога, историчность пророков, что по их учению «мир всегда был и будет, как был, что люди рождаются и умирают, как трава, выходящая ежегодно из земли, высыхающая и падающая, никто не знает откуда она, ни куда исчезает». Для истинного мусульманина неверие в Аллаха, возвещенного пророком Мохаммедом, равносильно неверию в бога вообще. Быть может, и были зиндики – атеисты, но большинство их было только неверующими в ислам, хотя они и прикрывались его плащем; втайне зиндики придерживались манихейства и, где могли это делать безнаказанно, издевались над обрядами ислама и старались подорвать веру в Аллаха у правоверных. Они нашептывали, что Мохаммед был только мудрым человеком, который сумел создать свою религию, что коран – продукт его природного красноречия, что если появится другой человек, красноречивей его, он тоже сможет создать такую религию. Когда видели собрание молящихся, говорили: «Вот верблюды стали гуськом», а про падавших ниц при молитве говорили: «Они показывают богу задницу». Когда попадали в Мекку и наблюдали за церемонией обхода верующими Каабы, спрашивали: «Что ищете вы в этом доме?» Когда в день жертвоприношений резали верблюдов и баранов, говорили: «Какое преступление совершили эти бедные животные, что проливают их кровь?» А когда происходила церемония бега между Сафой и Мервой, восклицали: «Разве эти люди что-нибудь украли, что они так бегут?»
Так рисуют зиндиков мусульманские источники. Первые аббасидские халифы при всей своей благосклонности к иранцам не могли терпеть таких учений, опасных как по высокому общественному положению лиц, его исповедовавших, так и по тайне, которая окружала их обряды. Кроме того приходилось считаться и с настроением фанатической массы мусульманского населения Багдада. Было даже создано специальное учреждение, нечто вроде инквизиции для борьбы с зиндиками.
Во время халифа Махди учение зиндиков широко распространилось; они сплотили могущественную организацию и собирались захватить открыто власть, восстановить то могущество, которым обладала иранская знать до арабского завоевания. Заговор был раскрыт, многие были казнены, и с тех пор на зиндиков стали смотреть не только как на безбожников, но и как на государственных преступников.
Преемник Махди, Гади, истребил многих зиндиков, почти всех из высших классов, отличавшихся талантами, красноречием, поэтическим даром или государственной мудростью. После этих гонений зиндикизм ушел в глубокое подполье, и только при Мамуне он снова выступил почти открыто. Зиндикизм стал модной верой, быть зиндиком считалось хорошим тоном в высшем обществе Багдада.
Инквизиционный аппарат бездействовал; ведь иранская знать считалась главной опорой престола.
Зиндикизм был идеологией реакционного класса иранских феодалов и потомков иранского духовенства, мечтавших о восстановлении древнего феодального царства Сассанидов. Терпимость Мамуна к зиндикам возмущала арабскую часть населения, хотя Мамун, несмотря на все свои симпатии к иранцам, к их обычаям и нравам, шел в ногу с буржуазией Савада, содействовав развитию торговли, промышленности и наук. Ловко лавируя в этом сложном сплетении классовых и национальных интересов, он все же вступал в резкие противоречия с стремлениями и чаяниями иранской знати. И все же Мамун только на эту знать и надеялся; он хорошо понимал, что высшая буржуазия Савада, для которой он столько сделал, никаких лояльных чувств к нему не питала, что она пойдет за тем, кто ей посулит наибольшие материальные выгоды. Арабские же массы доказали ему свою явную вражду.
Между тем иранская знать отнюдь не была предана халифам. Она домогалась восстановления староиранских порядков, невозможных при арабских халифах, при заселении половины халифата арабами. Ей надо было царя-самодержца, но такого, который являлся бы целиком их ставленником; они хотели, как гласит немецкая поговорка: «Den König absolut, wenn er unseren Willen tut» (самодержавного короля, при условии, что он будет исполнять нашу волю). И среди них тайно распространялись мысли о свержении Аббасидов, об изгнании арабов, о восстановлении независимости Ирана под управлением туземного царя. По своим классовым интересам феодалы более всех должны были быть противниками Бабека и восставших крестьян. Между тем мы видим обратное: они благосклонно относятся к восставшим, саботируют, сколько возможно, мероприятия халифа против Бабека. Дело в том, что они рассчитывали на мятежников, как на ту материальную силу, которая должна помочь им свергнуть арабов, надеясь в дальнейшем овладеть движением, взять его под свое руководство и ввести его в нужное им русло. Пример восстания Абу Муслима, в котором крестьянство Ирана вынесло все тяготы борьбы на пользу феодалам, был у них перед глазами. Во всей борьбе Бабека с халифатом приходится наблюдать их участие, их интриги и тайное влияние.
И если в первые годы своего царствования Мамун не мог выступить с достаточными силами против Бабека, вследствие борьбы с конкурентами на престол халифов, то и позднее, когда власть его упрочилась, его внимание отвлекалось от далекого и малодоходного Азербайджана, почти не прекращавшимися в его царствование восстаниями, возникавшими то в Египте – одной из самых доходных провинций халифата, – то в Аравии, где находились священные города ислама.
Путь победы
Итак, обстоятельства благоприятствовали Бабеку. Занятый междоусобной войной, халиф не мог в первые годы царствования отвлечь свои силы для усмирения мятежа, и восстание разрасталось без помех.
Бабеку прежде всего необходимо было разделаться с арабами, жившими в городах Азербайджана и стоявшими гарнизонами в крепостях, разбросанных по области. Завладев Азербайджаном, он должен был устремиться на завоевание западной части области Джебаль, где его ждали, как освободителя, местные крестьяне и где хуремиты составляли значительную часть населения. Захват этой части Джебаля имел для Бабека громадное значение: в его руки попадали проходы, дающие доступ в Иран с запада; благодаря этому затруднялось вступление войск халифа в мятежные области, прерывалось кроме того сообщение Багдада с богатым Хорасаном. В северо-западной части Джебаля и западной Азербайджана жили курды-кочевники. За исключением главарей, шейхов, они были бедны, как все кочевники Передней Азии; небольшие стада их часто погибали от эпидемий. Арабы неуклонно взимали установленный законом налог со скота, и вечно голодные курды были чрезвычайно склонны добывать свое пропитание набегами на богатые города соседней провинции Джезиры – Мосул и другие. Бабек надеялся их поднять и отвлечь внимание халифа от далекого Азербайджана, раз опасность будет грозить из Джезиры – провинции, непосредственно прилегающей с севера к самому Саваду.
Не меньше надежд мог он питать и по отношению к горцам Табаристана и Дейлема, которых с таким трудом покорили халифы. Горы давали жителям этих провинций лишь самое скудное пропитание, здесь было сильно распространено хуремитское течение, и из горцев, привычных к суровой жизни, выходили прекрасные воины.
В союзе с ними Бабек мог рассчитывать на победу над арабами Казвина и Рея, на захват непрочно занятых путей в Хорасан, проходивших у самого подножья Табаристанских гор. Хорасан, где еще жива была память об Абу Муслиме и Моканне, несомненно присоединился бы к восстанию, и тогда об'единенными силами почти всего Ирана можно было бы двинуться на сердце халифата – Багдад.
На ближайший период, период борьбы за Азербайджан и западный Джебаль, не было основания опасаться серьезного сопротивления: арабы были разбросаны и немногочисленны; крупных феодалов не было, кроме властителя Караджа и Борджа – Абу Долафа с его арабскими колонистами. Часть дехканов, потерявшая свои владения, едва ли стала бы сопротивляться, скорее сама пошла бы под знамена Бабека.
Кроме всего этого был серьезный расчет на отвлечение сил халифата со стороны Византии. С самого момента завоевания арабами Сирии война ислама против Византийской империи почти не прекращалась; перерывы имели место лишь во время внутренних смут и мятежей, вспыхивавших то в том, то в другом государстве. При Аббасидах эти войны, правда, потеряли свою напряженность и перешли в пограничные схватки и периодические набеги то арабов, то византийцев. От Средиземного моря до гор Армении протянулась линия с одной стороны арабских, с другой – византийских укреплений, где были поселены колонисты, обязанные охранять границы, за что им были предоставлены земли. Император Константин V Копроним воспользовался междоусобной войной в халифате, кончившейся свержением Оммайядов, и продвинул границу империи далеко на юг; но когда Аббасиды упрочились на престоле, им удалось вернуть потерянные города, благодаря смутам в Византии, возникшим в связи с борьбой Константина против монахов и икон.
После этого военные действия ограничивались летними набегами со стороны того или другого государства. Иногда походы были удачны для арабов, проникших в 798 году даже до Эфеса, иногда успех был на стороне Византии. Наступающей стороной чаще всего были арабы.
Но как раз в год воцарения Мамуна престол Византии захватил один из лучших римских полководцев, Лев V Армянин, и можно было ожидать энергичных действий со стороны Византии против халифов.
Надежды на византийцев, по крайней мере в первые годы деятельности Бабека, не оправдались. Льву V пришлось выдержать осаду Константинополя со стороны болгар, а после заключения с ними мира вся его энергия была направлена на восстановление разрушенных болгарами городов и на борьбу с монахами. После же его свержения, при императоре Михаиле II Косноязычном, все силы империи были отвлечены борьбой с мятежом Фомы, который поднял почти всю Малую Азию; мятеж был исключительно опасный и являлся не только очередным выступлением военачальника во главе своего войска в надежде захватить престол; в этом восстании, как говорят источники, «рабы поднялись на своих господ», византийское крестьянство против помещиков.
Сам халиф Мамун в первое десятилетие своего царствования в угоду буржуазии Савада не предпринимал походов против Византии, и это дало ей широкие возможности развивать торговлю с Западом, однако восстание Фомы он тайно поддерживал, вступив с ним в соглашение и обязавшись помочь ему, за что должен был получить некоторые пограничные территории Византии. Крушение восстания в 823 году и гибель Фомы не дали Мамуну времени активно вмешаться в борьбу.
В течение двадцати лет Бабек шел от успеха к успеху. Он поднял восстание по всему Азербайджану; арабы были везде вырезаны, крепости взяты штурмом и затем сравнены с землей. Дехканы перешли на сторону Бабека. Лишь город Марага, вторая столица Азербайджана, где было много арабов и куда укрылись все мусульмане округа, отказался подчиниться ему и сумел отбить все атаки хуремитов. Он так и продержался до падения Бабека. Бабек, закрепив за собой Азербайджан, двинулся дальше к столице западного Джебаля, поднимая везде сельское население против угнетателей, и в 829 году завладел столицей Джебаля – Гамаданом, прервав сообщение Савада с восточным Ираном. Так торговый путь между Багдадом и богатыми областями Хорасана был перерезан.
Восстание Бабека шло победоносно: армии халифа не могли с ним справиться, но крестьянство соседних провинций Ирана, даже хуремитских Дейлема и Табаристана, оставалось спокойным, не присоединялось к движению азербайджанцев, не оказывало им поддержки. Причины этого спокойствия крестьянства, соседнего с Азербайджаном, были те же, что и в многочисленных крестьянских восстаниях в средневековой Европе. Про эти причины Энгельс сказал: «Как ни тяжел был гнет, под которым приходилось стонать крестьянам, толкнуть их на восстание было все-таки очень трудно. Их раздробленность чрезвычайно затрудняла возможность общего соглашения. Долгая привычка к подчинению, переходившая от поколения к поколению; отвычка во многих местностях от употребления оружия; то усиливающаяся, то ослабевающая, в зависимости от личности господина, жестокость эксплоатации, – все это содействовало тому, чтобы крестьяне оставались спокойными. Поэтому в средние века мы встречаемся с большим количеством местных восстаний крестьян, но, – по крайней мере, в Германии, – мы до крестьянской войны не находим ни одного общенационального крестьянского восстания» [4]4
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VIII, стр. 126, Ф. Энгельс. «Крестьянская война в Германии».
[Закрыть].
В дальнейшем это грозило гибелью всему движению. В то время, однако, еще ничто не омрачало радужных надежд Бабека и его приверженцев.
Восстание разрасталось и начало угрожать судьбе халифата. Мамун посылал против Бабека свои войска, но они терпели поражение. Пять раз он посылал войска против Бабека, и пять раз войска халифа обращались в позорное бегство.
Мамун понял серьезную опасность хуремитского движения лишь тогда, когда оно уже охватило две большие области и оторвало их от халифата; он напряг все силы, и было снаряжено большое войско. Правителем Азербайджана и Армении назначен был опытный военачальник Мохаммед ибн Хумеид из арабского племени Тайи, ему же на время борьбы с Бабеком был подчинен и Джебаль. Приказано было явиться всем арабам, способным носить оружие, из Азербайджана, Джебаля и от арабских племен Модар, Рабиа и иеменитских племен, давно поселившихся в Джезире (Месопотамия). Кроме того кликнут был клич для созыва добровольцев из Басры, Геджаса, Омана, Бахрейна, Фарса и Ахваза, другими словами, со всей Аравии и южного Ирана.
Под давлением этих сил Бабек был вынужден отступить в родные горы, что соответствовало, впрочем, его тактике. Его необученные и недисциплинированные воины не были в состоянии сражаться с таким огромным войском правительства в открытом поле. Он отступил к своей неприступной крепости Базз.
Мохаммед ибн Хумеид, перед тем прославившийся успешным подавлением восстания в Мосуле, двинулся вслед за ним и расположил свое войско в долине недалеко от Базза. Бабек, пользуясь знанием местности, отделил часть своих отборных воинов и поместил их в засаду за ближними горами. Сам же выступил с главными силами из крепости и стал против халифских войск. Завязался бой; Бабек сидел на скале у входа в долину, откуда видел всю картину битвы; в самый разгар боя он подал сигнал отряду, сидевшему в засаде; тот бросился на тыл Мохаммеда; это привело в полное смятение арабов; главнокомандующий Мохаммед ибн Хумеид пал в бою, армия его обратилась в бегство, и большая часть ее была перебита.
Велико было потрясение в Багдаде, когда пришла весть о разгроме армии Мохаммеда ибн Хумеида; велика была тревога во дворце халифа. В первых боях, из которых Бабек вышел победителем, разгромлены были войска, набранные из местных жителей – арабов или иранцев, лишенных военного опыта, привычных к мирным занятиям, быть может разными узами родства, деловых сношений, дружбы связанных с восставшими. Теперь же погибла армия из арабов Джезиры, опытных в военном деле, привычных к суровой жизни и борьбе с византийцами, из арабов-добровольцев Геджаза, Омана, Бахрейна, Басры, из очагов ислама пришедших защищать свою веру и свое государство от восставших неверных. А другой армии у халифа не было. Невозможно было отозвать войска из пограничной с Византией полосы и оголить фронт против исконного врага ислама; столь же невозможно было призвать войско из Хорасана, где оно охраняло границы от турецких племен, только и ждавших случая, чтобы вторгнуться в пределы империи халифов. Эти же войска охраняли страну от набегов диких горцев в областях теперешнего Афганистана. Посылать против Бабека иранцев представлялось рискованным предприятием ввиду племенных симпатий и возможной измены. Можно было пуститься на этот риск лишь в том случае, если бы можно было поручить ведение войны природному иранцу, заслужившему доверие и популярному в народе. Такой вождь может набрать охотников и составить новое войско.
Мамун пошел по этому пути: выбор его остановился на Абдалле ибн Тагир, который был в то время губернатором Багдада и Ирака. Абдалла был сыном того Тагира, который командовал войсками Мамуна во время осады Багдада при Эмине. В награду за взятие Багдада Мамун назначил Тагира правителем Хорасана и всего Востока. В его область входил не только Хорасан, но и Табаристан, Сеистан, Афганистан, Мавераннахр. Тагир, основавшись в Хорасане, рассчитывая на свою громадную популярность, решил сделаться независимым, отделиться от халифата, и во время пятничного богослужения в соборной мечети опустил поминание халифа [5]5
Это поминание являлось подтверждением верности правителей провинций главе государства.
[Закрыть].
Еще весть об этом не успела дойти до Мамуна, как Тагир скоропостижно умер. Халиф, понимая, что создавать себе врагов из популярнейшего во всем Иране дома Тагира будет неразумно, не только не лишил своей милости детей Тагира, но области, управлявшиеся их отцом, отдал в управление одному из его сыновей – Талхе, другого – Абдаллу – оставил губернатором в Багдаде. Сыновья не пошли по стопам отца и блюли верность халифу.