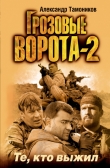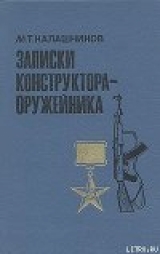
Текст книги "Записки конструктора-оружейника"
Автор книги: Михаил Калашников
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
Он не раз высказывал их мне в беседе при наших с ним встречах, а концентрированно сформулировал в своей книге «Логика конструкторского мастерства». Проектирование и разработка конструкций с новым уровнем возможностей, преемственность всего лучшего, что заложено в прежних разработках, – это, считаю, важнейшее условие успешной деятельности конструктора, как бы высоко он ни поднимался в своих замыслах.
Вот с преемственности мы начали и при проектировании автомата под патрон 5,45-мм калибра. Так что новый образец рождался не на голом месте, что, на мой взгляд, во многом определило и наш успех в конкурсе.
Если у нас в стране лишь во второй половине 60-х годов началась разработка автомата под малокалиберный, или, как еще его называют, малоимпульсный, патрон, то армия США в это время уже приняла на вооружение и новый 5,56-мм патрон, и новую винтовку М16. Доработанная позже известным американским конструктором Е. Стоунером, она получила наименование М16А1.
По трудности разработки, по поиску подходов конструирование автомата под патрон 5,45-мм калибра можно сравнить, наверное, только со временем рождения АК-47 – отца всей семьи нашей системы. Поначалу, когда мы решили взять за основу схему автоматики АКМ, один из заводских руководителей высказал мысль, что искать тут что-то и выдумывать нет необходимости, дескать, достаточно будет простого перестволения. Я подивился в душе наивности такого суждения.
Конечно, поменять ствол большего калибра на меньший дело нехитрое. Потом, кстати, и пошло гулять расхожее мнение о том, что мы будто бы всего лишь поменяли цифру «47» на «74». Полагаю, этот слух был пущен кем-то из конкурентов из-за желания принизить значение нашей многолетней работы, приуменьшить ее сложности. И такое случается в жизни.
Нет, не о перестволении мы думали, когда взялись за разработку нового вида оружия. При общей сохранности принципиальной схемы прежней системы мы переработали очень многие узлы и детали. Из 25 сборочных единиц и 97 деталей, входивших в будущий образец АК-74, мы заимствовали из 7,62-мм автомата 9 сборок и 52 детали, что составляет соответственно 36 и 53 процента. Самая большая сложность состояла в том, что изменять пришлось важнейшие, командные, детали и узлы.
Малый калибр таил в себе много непредвиденных особенностей, ставивших порой под сомнение всю работу. Больше всего пришлось потрудиться над стволом и автоматикой оружия. В ходе разработки образца мы попали в своеобразные ножницы. Как производственники, так и некоторые военные товарищи – представители главного заказчика, требовали от меня максимального упрощения деталей и узлов, что, по их мнению, давало возможность снизить трудоемкость изготовления автомата.
Я сам всегда обеими руками голосовал за простоту устройства оружия, поклонялся и поклоняюсь этому «богу». Но разработка малокалиберного автомата являлась как раз тем самым особым случаем, когда высокая надежность достигалась ценой некоторого усложнения конструкции. На меня же продолжали оказывать давление: об усложнении не может быть и речи, упрощай.
Мне пришлось тогда искать встречи с генерал-лейтенантом А. А. Григорьевым, в то время председателем научно-технического комитета – заместителем начальника Главного управления Министерства обороны по опытно-конструкторским и научно-исследовательским работам.
– Слышал, не все ладится у вас с разработкой нового образца? – Александр Афанасьевич сел напротив меня, пододвинул к себе какую-то папку, положил на нее ладонь. – Вот тут документы, свидетельствующие о том, что вы, не считаясь с мнением некоторых специалистов, встаете на путь усложнения конструкции.
– Хочу уточнить сразу: отвергаю лишь некомпетентное мнение. – Я посмотрел на папку, где находились докладные. – Борьба за надежность оружия при переходе на малый калибр требует и иных, нестандартных, подходов и даже отступлений от некоторых классических схем. Усложнение какой-либо детали или узла, повышающее живучесть автомата, на мой взгляд, оправданно.
– Но вам ли, конструктору с опытом, не знать, что усложнение конструкции – это и отход от основополагающего принципа в конструировании – простоты устройства изделия, и повышение трудоемкости изготовления, и удорожание в производстве.
– Александр Афанасьевич, я как бывший солдат стараюсь всегда поставить себя на его место. Поверьте, взяв оружие в руки, он в бою не станет думать, в какую цену обошелся государству автомат, что намудрил в нем конструктор. Для него важно другое: насколько надежно, безотказно его оружие, сможет ли оно жить, стрелять, побывав в воде, искупавшись в песке.
– Согласен, солдат должен быть уверен в своем оружии, не бояться, что разорвется ствол или что-то случится с гильзой, – подтвердил Григорьев. – Только нам с вами при решении опытно-конструкторских тем следует подниматься на уровень и государственных интересов.
– Неужели вы считаете, будто я, усложняя конструкцию, не думаю об экономической стороне дела? – Меня за живое задели слова генерала. – Да и с каких это пор конструкция с новым уровнем возможностей, со схемной унификацией начала вызывать сомнение в ее технологичности и отсутствии простоты устройства?
– Ладно, не будем горячиться, – успокаивающе поднял ладонь Григорьев. – Лучше повернем разговор в несколько иную плоскость. Что в работе над образцом вызывает у вас наибольшие трудности и за счет каких маневров вы выходите из сложных ситуаций? Насколько мне известно, главная загвоздка заключается в отработке ствола?
– Да, со стволами большие трудности. И, как я понимаю, не только у меня, но и у других разработчиков оружия. Очень плохо живет. Моментально изнашиваются нарезы. Что и говорить, малый калибр да еще слишком «жесткая» пуля – все это сочетать нелегко.
– И какие, если не секрет, планы по обузданию износа?
– Секретов больших тут нет. Увеличиваем хромопокрытие внутри ствола, изыскиваем другие способы повышения его износостойкости. – Я стал перечислять то, что мы делаем. – Сейчас боремся с водобоязнью автомата. К сожалению, еще один недостаток малого калибра – вода из ствола сама не вытекает.
– Конечно, солдату в бою не до того, чтобы для удаления капель воды в системе то и дело опускать оружие стволом вниз, трясти его и при этом передергивать затвор, – поразмышлял вслух Александр Афанасьевич. – Не писать же отдельную инструкцию, как вести себя, если вода попадает в ствол.
– Вот чтобы не возникала необходимость в такой памятке, какая имеется, к примеру, у американского солдата по винтовке М16, мы и вышли в устройстве автоматики и ствола за рамки классической схемы. Для исключения выштамповки капсюля и разрыва гильзы боек вывели за зеркало затвора и замкнули чашечку затвора.
– Но подождите, такая вольность в конструировании оружия никогда не разрешалась! – воскликнул Григорьев. – Вы действительно перешагнули границу, через которую, считалось, переходить нельзя.
– Поначалу и мы сомневались. Слишком дерзким для этой конструкции казался такой шаг, – подтвердил я слова генерала. – Но вот получилось. Конструкция, правда, несколько усложнилась. Так ведь, наверное, овчинка выделки, как в народе говорят, стоит. У нашего автомата пропала водобоязнь, а у солдата прибавится уверенности, что его личное оружие в бою не подведет ни при каких обстоятельствах.
Разговор у нас затянулся. Александр Афанасьевич хотел разобраться обстоятельно во всех деталях работы над новым образцом, один за другим снимая вопросы, возникшие у тех, кто увидел лишь одну сторону в нашем проекте – усложнение конструкции, а во имя чего мы пошли на это, так и не смог понять.
Проектирование и разработку нового автомата под малокалиберный патрон вели несколько конструкторских бюро. Было создано и неоднократно испытано немало оригинальных образцов. По некоторым из них еще на предварительных этапах – в научно-исследовательском институте, на полигоне во время испытаний – заключение давалось однозначное: учитывая бесперспективность представленной системы, считать ее дальнейшую доработку нецелесообразной. Так неумолимо сужался круг соревнующихся. И на последний этап сравнительных испытаний мы вышли вдвоем с А. С. Константиновым, убеждавшим меня в свое время отказаться от унифицированной схемы с АКМ как базы при разработке нового изделия.
С одним из разработчиков нового автомата, образец которого не рекомендовали даже для дальнейшей доработки, мне довелось ехать после испытаний, ставших для него неудачными, в одном купе до Москвы. Алексей Сергеевич, назовем его так, все сокрушался, что к его конструкции подошли предвзято, поругивал слишком принципиальных испытателей, неуступчивых представителей главного заказчика. Словом, обвинял в неудаче кого угодно, только не себя. И вдруг, ничуть не смутившись, предложил:
– Михаил Тимофеевич, давайте объединим наши усилия и представим новое изделие на дальнейшие испытания. Ваше имя, мои идеи – и мы непобедимы! – патетически воскликнул он.
Покраснев до корней волос, я, ошеломленный, только и смог произнести:
– Да как вы можете!..
– Не верите, что у меня есть интересные идеи? Могу документально подтвердить. Авторские свидетельства на изобретения у меня с собой. – Алексей Сергеевич стал вытаскивать из внутреннего кармана какие-то бумаги.
– Не надо, прошу вас, – остановил я его. – Не привык я свое имя разменивать. Что касается идей, у меня их у самого хватает. Так что поищите себе в партнеры кого-нибудь другого, если, конечно, кто-то согласится на подобный неправедный альянс.
Я отвернулся к окну. Алексей Сергеевич встал и вышел из купе со словами:
– Напрасно отвергли мое предложение. Константинову вы все равно проиграете. Ваше дело безнадежно.
Он, видно, ни на йоту не усомнился в ценности своего предложения, ни на минуту не подумал, насколько оно бесстыдно, цинично, безнравственно. К сожалению, подобные, как я их называю, прилипалы, в конструкторском творчестве не единичны. Они разными способами присасываются к разработчикам систем, пытаются свое имя внести в любые списки, чтобы не только значиться в них, но и стричь купоны, и моральные, и материальные.
Все бы ничего, да только тот, кто за новизной решений прячет их бесплодность, кто рядится в тогу конструктора, преследуя личную выгоду, наносит развитию технического творчества непоправимый вред. Убежден, конструктор обрекает себя на бесплодность, если не идет в поиске дальше формул, дальше незначительных усовершенствований. Считаю, очень важно, чтобы каждое наше инженерное, конструкторское решение прочно, весомо соединяло науку с производством, придавало существенное, реальное ускорение экономике, способствовало дальнейшему укреплению обороноспособности страны.
К выходу на сравнительные испытания двух систем автомата под 5,45-мм патрон, а позже – на войсковые испытания наше изделие обрело законченные формы. Много пришлось поработать с дульным тормозом. Мы решили хромировать посадочное место на конце ствола, чтобы повысить износостойкость. Нашему предложению неожиданно воспротивились технологи. Довод: повысится трудоемкость изготовления, потребуется оборудование дополнительного участка.
Технологи выдвинули альтернативный вариант – увеличить выходное отверстие в тормозе. Пришлось нам доказывать несостоятельность такого шага, потому что он снижал эффективность работы тормоза. И здесь нашими союзниками стали военпреды – представители военной приемки, в частности служивший в то время на нашем предприятии полковник Н. Н. Шкляев, человек с обостренным чувством нового, умевший не просто строго следовать определенным ему инструкциям, но и глубоко понять замыслы разработчиков оружия. Николай Николаевич активно поддержал нас в стремлении создать дополнительный участок хромирования посадочного диаметра колодки мушки.
Я всегда с уважением относился и отношусь к представителям военной приемки. В большинстве своем это люди высококомпетентные, отлично знающие оружие, тонко чувствующие конструкторскую мысль, хорошо разбирающиеся во всех звеньях производственного процесса. Мной уже назывались фамилии С. Я. Сухицкого, Л. С. Войнаровского, с которыми довелось много соли съесть еще в 40-е и 50-е годы. В этом же ряду стояли А. Ф. Ракетцкий и П. И. Параничев.
Меня, например, удивляет, когда иной конструктор пытается представить военпреда как противника творчества, сухим и казенным специалистом, ничего не видящим, кроме буквы инструкции. Значит, этот конструктор просто еще не дорос, не поднялся до понимания целей и задач, стоящих перед представителями военной приемки, не способен сочетать свои творческие заботы с их заботами.
Когда мы пробовали многочисленные варианты устройства дульного тормоза, борясь за уменьшение звука выстрела, для нас вполне естественным было присутствие при обсуждении проблем военпреда Шкляева. Не очень многословный, Николай Николаевич, послушав наши суждения и понаблюдав образец в работе, обычно кратко, лаконично излагал свое мнение. Он нередко поддерживал нас и тогда, когда требовалось отстоять тот или иной принципиальный вопрос, не принимавшийся Главным управлением Министерства обороны.
Сравнительные испытания показали, что мы выбрали в разработке образца верный путь. По ряду боевых и эксплуатационных свойств наша конструкция выглядела лучше, чем конкурирующая с ней система Константинова. На одном из этапов испытаний побывал Д. Ф. Устинов. С ним вместе приехал генерал армии В. Ф. Толубко, в то время главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения. Мы познакомились с ним. Устинов предложил Толубко опробовать образцы в работе.
Автоматы были закреплены на станках, стволы смотрели в бойницы. Если Устинов, как всегда, обстоятельно вник в устройство новых конструкций, стрелял, словно вслушиваясь, на что они способны в бою, то генерал армии поступил по-иному. Он подошел к одному образцу, к другому, небрежно подергал за спусковой крючок, стреляя короткими очередями, даже не всматриваясь, куда они ложатся.
– Ваш автомат мне не нравится, – вдруг повернулся главком в мою сторону. – Я лично отдаю предпочтение вот этому изделию. – И Толубко показал на... мой образец, а не на автомат моего конкурента Константинова.
Меня до глубины души возмутил этот дилетантский выпад человека, стоявшего на довольно высокой ступени военной лестницы. И я, с трудом сдерживая себя, отчеканил:
– Товарищ генерал армии, во-первых, вы неожиданно выбрали автомат моей конструкции, хотя, как сказали, он вам не нравится. Во-вторых, какому образцу быть на вооружении, слава богу, определять не вам, а на войсковых испытаниях. Последнее слово за солдатом, которому с оружием в бой идти. Так что я предостерег бы вас от словесных силовых приемов, да еще на испытаниях.
– Не слишком ли много берете на себя, конструктор? – посмотрел на меня Толубко тяжелым, огрубевшим взглядом и зашагал в сторону, где поодаль стоял Устинов с группой офицеров.
Не знаю, в каком виде подал этот эпизод Дмитрию Федоровичу главком. Видимо, далеко не в розовых красках, потому что Устинов мне высказал вскоре:
– Постарайся все-таки с главкомами быть повежливее.
И больше никак не комментировал свои слова. Да и не хотел, по всей вероятности, их комментировать, сам наблюдая, что выводы Толубко основывались не на профессиональной оценке, а только на эмоциях, на настроении.
К счастью, настроенческие подходы были не правилом, а исключением, когда определяли, какие образцы принимать на вооружение армии. Лишь всесторонние, продолжительные испытания выявляли лучшее изделие. Так было и в конкурсе по разработке автомата под 5,45-мм патрон.
Несмотря на некоторое усложнение конструкции, важнейшим условием нашей работы стала борьба за повышение технологичности нового оружия в производстве. В результате кропотливого и продолжительного совместного труда конструкторов нашего КБ, заводских технологов, металлургов в образцах 5,45-мм комплекса стали закладываться 15 деталей (вместо десяти в АКМ), изготавливаемых из точных литых заготовок по выплавляемым моделям. Среди них такие трудоемкие, как газовая камора, кольцо цевья, спусковой крючок, колодка прицела и колодка мушки.
Интересные конструкторско-технологические решения были найдены и при изготовлении многих других деталей. В частности, шептало одиночного огня, защелка складывающегося приклада, прицельная планка, выполненные из металлокерамики, значительно снизили затраты на производство изделий. Большую работу мы провели по разработке конструкции и основных технологических параметров некоторых сборок и деталей из литьевой пластмассы.
Чтобы нагляднее представить, какой экономический эффект мы получили, внедряя при разработке 5,45-мм комплекса прогрессивные материалы и методы формообразования, приведу несколько цифр. Внедрение всего лишь двенадцати наименований точных заготовок из литья по выплавляемым моделям дало возможность тогда высвободить почти двести человек рабочих, повысить коэффициент использования металла на 67 процентов, аннулировать 700 наименований технологической оснастки. Производительность труда возросла почти в два раза.
Усовершенствуя конструкцию технологически как в ходе разработки, так и при освоении ее в производстве, мы никогда не снижали боевых и эксплуатационных качеств образцов. Использование прогрессивных материалов и заготовок позволило нам улучшить и эстетическое оформление изделий. Об этой области конструирования у разработчиков боевого оружия как-то не принято говорить. Но внешний вид автомата или пулемета имеет далеко не второстепенное значение. Эстетика боевого оружия – в его простых, законченных, лаконичных и строгих формах. Никакой вычурности, никаких украшательств.
Размышляя об эстетике оружия, я вспоминаю замечательного уральского мастера, златокузнеца-самородка Леонарда Михайловича Васева. С ним меня связывали товарищеские отношения. В одном из писем ко мне он делился: «Впереди у меня очень много работы. Мне нужно работать над книгой по технике художественного гравирования на металле, которую в течение двух с половиной – трех лет я должен написать и проиллюстрировать. Это мой долг и результат почти тридцатилетней деятельности гравера-художника. У меня скопилось много писем со всего Союза с просьбой о рекомендации или посылке такой литературы. Как видите, Михаил Тимофеевич, и план есть, и заниматься после работы на производстве есть чем».
Планам, замечательным замыслам Леонарда Михайловича не суждено было свершиться. Он ушел из жизни в расцвете творческих сил. Но осталась неповторимая васевская школа художественной обработки металла. Я даже слышал, как некоторые оружейники ее называли «школой Леонардо». Первую свою крупную работу – оформление охотничьего ружья – он, тогда совсем еще юный гравер, выполнил в 1945 году и назвал ее «Победа». Она очень близка мне по своему колориту: славя Победу советского народа в Великой Отечественной войне, напоминает о боях, в которых довелось принимать участие.
Более всего мне по душе сюжетные мотивы и орнаментальные формы, в которых Васев самобытными художественными средствами выражал красоту окружающего мира. Доводилось слышать его рассказы о походах в лес, об увиденных на охоте картинках из жизни зверей, птиц, трав. Когда потом я видел все это в лирических композициях на металле, на украшенных им ружьях, то поражался полету мысли, фантазии художника. Заяц и лось, глухарь и куропатка, лиса и медведь – все они живут в исполнении Леонарда Михайловича какой-то окрыленной устремленностью, предчувствием движения или самим движением.
И тогда я жалел, что боевое оружие никогда не представляло широкой возможности для художественной обработки металла. И все-таки пусть боевое оружие останется в строгих и лаконичных формах, и лишь охотничьи ружья будут одухотворены высоким искусством художнической поэзии таких мастеров, как Леонард Михайлович Васев.
Знаменитый златокузнец слыл заядлым охотником, но вот бывать с ним на охоте мне ни разу не довелось.
Нередко мы ездили охотиться с моим старинным другом ученым-биологом Валентином Владимировичем Соколовым. Однажды он бросил мне такой упрек:
– Езжу охотиться вместе с конструктором, а пищу готовим на костре дедовским способом – весь кустарник на рогатки извели. Придумать, что ли, не можешь что-нибудь современное да оригинальное?..
Задел меня за живое приятель. Я по привычке промолчал, ничего на упрек не ответил, но в следующий раз, который, правда, выдался нескоро, преподнес ему небольшой сюрприз. Пока Валентин Владимирович разводил огонь, достал я из рюкзака рогатое приспособление. Расправив ему ноги, повесил на специальные крючки три котелка. Соколов расхохотался и весело сказал:
– Ну и ну, как это ты смог из одного металлического штыря целую полевую кухню соорудить?
Позже я включил в нее и шашлычницу, и вертел. Сделал в свободное время своими руками.
Вспоминаю об этом вовсе не для того, чтобы похвалиться какой я умелец. Мысли о другом: каждый человек, на мой взгляд, рождается с задатками конструктора. Только далеко не у всех и не на всю жизнь остается тяга к поиску форм, желание мастерить, сделать что-то своими руками. У меня же осталась. Полагаю, что здесь огромную роль сыграло и то, что ее поощряли, развивали родители, учителя, позже – мои наставники в депо. То есть на том самом отрезке жизни, когда в полную силу работает фантазия, руки сами тянутся что-нибудь собирать, разбирать, конструировать, у меня были добрые советчики.
Как-то в моей квартире раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал детский голос. Семиклассник Паша Чернов взволнованно сообщал, что придумал оригинальную конструкцию приклада к автомату и очень хотел бы посоветоваться. Я торопился по делам. Но отказать мальчишке – значит одним словом заглушить его стремление к творчеству, к поиску.
И вот робко вошел в комнату школьник. В руках – небольшая коробочка с миниатюрным макетом автомата и отдельно —приклада. Все выполнено... из пластилина. Сели мы за стол с Пашей, голова к голове, и стали разбирать достоинства и недостатки предлагаемой им конструкции...
Не буду утверждать, что из этого мальчишки получится конструктор. Подчеркну лишь вот такой, на мой взгляд, важный момент: подросток мучился не от безделья, не от пустопорожнего времяпрепровождения во дворе, а от нетерпения сделать что-то свое, оригинальное.
Для большинства инженеров из нашего КБ путь в конструирование начинался, как правило, с участия в школьном техническом творчестве. Служба в армии, учеба в институте – все это способствует развитию стремления к творческому поиску.
Всегда высоко ценю людей, прошедших школу армейской закалки. Особое уважение питал и питаю к пограничникам. Почему? Наверное, потому, что воины в зеленых фуражках несут службу с постоянно заряженным оружием, готовые к немедленному действию, лучше других знают цену применения этого оружия и, естественно, содержат его в отличном состоянии.
Часто бываю у них в гостях. Приезжая на заставу, первым делом прошу открыть пирамиду и смотрю, в каком состоянии содержатся автоматы и пулеметы, особенно именные. Это оружие изготовлено нашими заводчанами в индивидуальном исполнении. У автоматов, несколько отличных от обычных, серийных, есть памятная надпись «Победителю социалистического соревнования». Это оружие вручается лучшим воинам пограничных войск СССР.
А история его появления такова. В свое время к нам обратились командование и политуправление пограничных войск с просьбой изготовить несколько автоматов АКМ с дарственной надписью конструктора для вручения победителям Ленинской вахты. Казалось бы, чего проще – взять сошедшие с конвейера автоматы, прикрепить пластинки с надписью, вот и все.
Посоветовавшись у себя в конструкторском бюро, мы решили поступить по-другому. Собрали комсомольцев и молодежь, работавших в цехах по выпуску серийных изделий, и зачитали письмо пограничников. Они приняли решение сделать автоматы такими, чтобы своим цветом оружие напоминало пограничную форму. Работники цеха пластмасс подобрали колер зеленого цвета и выполнили заказ в кратчайшие сроки.
Прошло совсем немного времени – и на моем столе лежали детали великолепного исполнения: приклад, рукоятка управления огнем, цевье, ствольная накладка, ножна и рукоятка штык-ножа, магазин, и тут же, рядом с ними, – фуражка такого же цвета, что и сами детали.
Когда была изготовлена небольшая партия автоматов, в Москве как раз начинал работу слет победителей Ленинской вахты. На нем я и вручил лучшим пограничникам именное оружие. Принимая его из рук конструктора, воины целовали автоматы и заверяли, что они будут с еще большей энергией учиться владеть этим оружием.
И вот что сообщил мне позже в одном из писем сержант В. И. Барамзин от имени комсомольцев заставы:
«Наш коллектив – это несколько десятков ребят, съехавшихся со всех уголков нашей страны: из Кирова и Белгорода, Алтайского края и Якутии, Воронежа и Ижевска... Все мы здесь, в Забайкалье, выполняем приказ Родины по охране ее рубежей – Государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Нас называют перфишинцами, то есть последователями героя-пограничника ефрейтора Якова Васильевича Перфишина, чье имя носит застава. Вот уже несколько лет подряд мы завоевываем звание отличной заставы.
Пограничные наряды уходят на службу зимой и летом, в лютые морозы и в степной солнцепек. И мы всегда уверены, что нас не подведет в трудную минуту автомат Вашей конструкции.
У нас на заставе появился новый автомат за номером 1846, врученный Вами секретарю комсомольской организации заставы Ивану Копылову на слете победителей социалистического соревнования в Москве. В нашей части развернулось соревнование за право выходить с этим автоматом на службу по охране границы.
Мы сообщаем Вам, что автомат, врученный Вами, попал в надежные руки – все это время Иван Копылов при подведении итогов признается лучшим в части».
Такие письма получать всегда радостно. Они свидетельствуют прежде всего о том, что наше оружие находится в надежных руках советских солдат.
Еще об одной встрече не могу не написать. Произошла она на Высших офицерских курсах «Выстрел», куда мы, несколько разработчиков стрелковых систем, были приглашены посмотреть занятия по огневой подготовке. Вечером нам предложили поговорить с офицерами, прибывшими для учебы на курсы из социалистических и развивающихся стран. После наших выступлений слово взял присутствовавший на встрече министр обороны Народной Республики Мозамбик. Выступая, он вдруг повернулся в мою сторону и сказал:
– Знаете ли вы, уважаемый конструктор, что силуэт вашего оружия начертан на Знамени нашей республики? Так вот, примите от нас это Знамя, пусть в сувенирном варианте. На нем вверху, у древка, вышиты три символа – раскрытая книга, обозначающая борьбу с неграмотностью, мотыга – знак раскрепощенного труда и автомат вашей конструкции – символ освобождения от иноземного империалистического гнета.
Вот такие удивительные бывают в нашей жизни повороты. И все-таки более всего хочется, чтобы оружие нашей системы, пока не ликвидирована полностью опасность войны, было прежде всего символом гарантии надежной защиты революционных завоеваний, гарантией мирного неба над нашей страной.
Более четырех десятилетий воины Вооруженных Сил СССР держат в руках автоматы и пулеметы, разработанные нашим конструкторским бюро. И на протяжении всех этих десятилетий после окончания Великой Отечественной войны международная обстановка не располагала к благодушию. Создание новых систем, модернизация наших прежних образцов на основе унификации, на базе достижений науки и техники были отражением реального состояния дел в развитии автоматического стрелкового оружия не только в нашей стране, но и за рубежом.