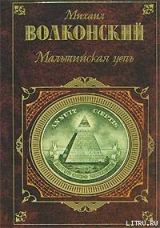
Текст книги "Мальтийская цепь"
Автор книги: Михаил Волконский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)
XXII. Бред Энцио
Из зала суда Энцио был отведен тоже под конвоем в подвальный этаж, где двери запирались на тяжелые замки и в окна были поставлены толстые решетки.
Он беспрекословно подчинялся тому, что делали с ним, как будто уверенность, что, несмотря на все, верх все-таки останется за ним, не покидала его. Когда дверь запирали на большой железный засов снаружи и привешивали к ней замок, он стоял посреди сводчатой своей камеры и чутко прислушивался к постукиванию, с которым все это делалось. Он ничего лучшего и не желал: пусть их, пусть только оставят его одного и, чем крепче запрут, тем лучше.
Вот наконец последний раз стукнул замок, тюремщик загремел ключами, собирая их, по каменным плитам коридора зазвучали удаляющиеся шаги. Наступила полная, мертвая тишина.
Из высокого, так что нельзя было достать его, оконца, проделанного как раз под самым сводом, пробивался лунный свет и, ложась ровным, ясным четырехугольником с точно повторенным узором решетки на каменный пол, серебрил своим задумчивым светом сырые сумерки свода.
Энцио, хитро улыбаясь, оглянулся и подмигнул себе левым глазом. Он подошел к двери, попробовал, крепко ли она заперта, и снова прислушался, действительно ли удалились шаги в коридоре.
Дверь крепко держалась на своих замках и засовах, и все было тихо кругом.
Энцио, оставшись этим очень доволен, размахнул руками и на цыпочках обошел камеру, бормоча и жестикулируя. Время ему терять было некогда. Час наступил лунный – сегодня было благоприятное число, и «действие» должно было оказаться удачным.
Штурман поспешно скинул верхнюю одежду, распорол подкладку и, нащупав кусок сложенного в три раза пергамента, достал его. Из кармана он вынул кусок алебастра, обточенный в трехгранную призму, а потом, забрав эти вещи, вышел на средину камеры, стал спиною к свету и, расстегнув ворот рубашки, раскрыл его. На груди у него вместо креста было надето окаянное изображение человеческого греха. Энцио поправил его не глядя. Руки его начинали дрожать, глаза блестели, и подбородок с клочком волос ходил из стороны в сторону.
Все это штурман проделал совершенно точно, как было указано в черной книге некромантии, которая была тщательно запрятана в его каюте на корвете и которой он не выпускал из рук все последнее время, сидя запершись у себя.
Сегодняшний день и час у него были вычислены заранее. Сегодня в сфере, на которую Энцио мог распространить свое влияние, должны были находиться два могущественных духа: Эгозеус и Периоли. Он нашел их имена и заклинания, которым они не могли не подчиниться.
Энцио взял в левую руку алебастровую призму, присел слегка и по радиусу на высоте человеческого сердца начал ровным кругом обводить, назад от себя, то место, на котором стоял. Губы его поспешно шептали бессвязные, непонятные слова.
Окончив круг, он приподнялся, взял призму в правую руку и начертил ею внутри круга треугольник около своих ног, так, чтобы основание его проходило у пяток, а вершина была обращена вперед, на расстоянии в две ступни. Потом, продолжая шептать, он быстро поставил между кругом и треугольником несколько черт и знаков и перебросил через левое плечо назад алебастровую призму.
Наконец он выпрямился, развернул пергамент и стал читать нараспев заклинания с определенным ритмом и ударением. В этих заклинаниях он призывал духов на себя, на свою голову, отдавал им свою душу и всего себя, слова были страшны, и клятвы, которые он произносил, богохульны и нечестивы. Этого тоже требовала книга. Нужно было призвать духа на себя, обмануть его, потому что магический треугольник образовывал вокруг заклинателя непроницаемую преграду для духа, о которую все усилия последнего разбивались, и он не мог коснуться человека, стоявшего в треугольнике, если только тот не оборачивался и не выходил за пределы круга. Вызванного таким образом духа нужно было поработить, для чего имелись также особые слова и движения.
Энцио стоял твердо, опираясь на всю ступню, и повторял мерным, певучим голосом свои заклинания.
Мало-помалу воздух вокруг него начал редеть, и словно какое-то мелькание показалось в нем. Это мелькание перешло затем в более плавное движение, и со всех сторон потянулись волнистые нити. Энцио увидел, что «началось», но не испугался – он всего этого ждал.
Нити колебались и пухли и шли вверх с тем движением, как лебедь расправляет свою шею. Вместо белого лунного света все стало окрашиваться в красный цвет, и тогда вместо нитей воздух закишел безобразными и отвратительными существами.
Энцио знал, что это были ларвы – земные полудухи, исчадие человеческой крови. Он не хотел их. Они пытались ринуться на него, но, разлетевшись спереди, ударились об острие треугольника и скользнули по его сторонам, как волны у упоров моста, не причинив вреда Энцио.
Он увидел, что магическая сила треугольника действительна и треугольник составлен правильно. Нужно было лишь все время стоять лицом к его вершине, потому что нападение могло быть произведено только спереди, а отразить его могла лишь вершина треугольника. Он произнес проклятие ларвам, которые не могли быть пригодны ему, и они исчезли.
Сероватая мгла сменила красный цвет, и Энцио, широко раскрыв глаза и подняв брови, продолжал свои заклинания. Однако несколько минут ничего не было. Штурман настойчиво продолжал свое дело. Он желал добиться явления, желал подчинить себе неестественную силу, чтобы получить могущество, которое и отопрет ему двери тюрьмы, и даст силу обвинить ненавистного командира, и все, чего пожелает он.
В стороне, не то под сводом, не то в правом углу мозга, пронеслась какая-то тень, мелькнуло вороное крыло, сгорбленный, мохнатый карл прошел из одной стены в другую. Однако все это было не то.
Простые заклинания все были испробованы: Энцио удвоил их.
Сзади послышались какая-то возня, шуршание, шелест. Энцио не оборачивался. Страх скользнул в его сердце. Оно было холодно, точно кусочек льда остановился в груди на его месте.
Энцио знал, что страх тут опаснее всего, и постарался прогнать его.
Где-то невдалеке раздался звенящий звук, точно лопнувшей струны, – и все стихло. В темном углу, налево, заколебалось что-то прозрачное, бесформенное, переливавшееся в воздухе как жидкость. Потом оно стало сгущаться и приняло наконец форму несколько удлиненного шара. Он блестел противным, синевато-золотым отливом, как осадок грязного масла на воде.
Шар медленно стал приближаться, и по мере его приближения устанавливалась какая-то неуловимая связь между ним и Энцио. Они понимали друг друга. Это было то самое, что звал Энцио, – Периоли.
Дух казался принижен: он видел, что заклинатель неуязвим для него.
Периоли задрожал и перестал быть видимым, но Энцио знал, что он здесь и что стоит ему захотеть – он снова увидит его.
Энцио закрыл глаза и начал последнее, самое страшное заклинание. Дыхание совсем сперло ему, как будто чувствовался кругом удушливый, смердящий запах серы.
Он открыл глаза, и волосы невольно зашевелились у него на голове: прямо на него из темной, зияющей, как пропасть, глубины несся огромный всадник на огненном коне, совершенно такой, каким был изображен в черной книжке Эгозеус. Он с дикою ненавистью, злобой и бешенством кинулся на Энцио и, ударившись о сферу треугольника, отшатнулся, но затем снова стал нападать, звеня своим вооружением.
Этот ужасный вид и морда огромной фыркавшей лошади, в каких-нибудь двух шагах, были невыносимы для Энцио; он боялся пошатнуться; но чем дольше читал он заклятия против Эгозеуса, тем более свирепел ужасный всадник. Наконец Энцио не выдержал и, вытянув вперед, наравне с плечом, правую руку с выпрямленным указательным пальцем, прикоснулся к ней у локтя левою, тоже подняв ее в одну плоскость с плечом: это был последний символ защиты. Дух исчез.
На место его явился снова шар Периоли. Он начал, опять посредством своей связи с Энцио, убеждать его обернуться, внушал ему, что он уже порабощен им и что теперь Энцио нечего опасаться. Но тот, остановившись немного, снова забормотал заклятие, которое нужно было повторить семьдесят три раза. Тогда дух в его власти.
Периоли говорил, что, обернувшись, Энцио увидит то, что ожидает его впереди. Но Энцио не соблазнился.
Тогда вдруг все страхи исчезли, и вместо каменного свода раскинулся сад, зажурчали фонтаны, невиданные цветы закачались на пышной зелени, послышалась невидимая, чарующая музыка, и появился роскошный стол, уставленный яствами и питьями. Чудесные плоды, вина в граненых хрустальных графинах манили к себе. Энцио чувствовал голод, ему давно хотелось пить, но он сделал над собою усилие и не вышел из заколдованного круга.
Стол исчез, и на его месте явилась дивной красоты женщина. Распустив свои волнистые волосы по плечам, она полулежала на широкой бархатной подушке и звала к себе.
Энцио закрыл глаза, чтобы не глядеть на видение, но и с закрытыми продолжал видеть тот же сад и женщину и слышать ее призыв. Он двинулся невольно вперед. Она протянула к нему руки. Но он все-таки не вышел из круга, и губы его шептали еще магические слова.
Тогда все снова пропало, и вокруг Энцио рассыпались кучи золота. Ровные блестящие червонцы засверкали и зазвенели, подкатываясь почти к самым ногам штурмана. Руки его затряслись, и глаза разбежались при виде несметного богатства, которым он мог завладеть, и страшная борьба завязалась в его душе. Он мог горстями, лопатой, как хотел, загрести все это золото и при его помощи овладеть целым миром.
Соблазн был слишком велик. Энцио показалось, что он, опьяненный, делает шаг вперед, и участь его была решена.
На другой день, когда Энцио принесли воду и хлеб, его нашли мертвым в углу камеры. Он лежал ничком на полу со скорченными от судороги руками, вдали от начертанного им на средней плите круга с таинственными знаками.
XXIII. Великий магистр
Литта провел ночь спокойно, если можно только назвать спокойствием полную неподвижность, происходящую оттого, что все нервы так натянуты, так болезненно раздражены, что малейшее движение становится чувствительным.
Он лежит не двигаясь на своей кровати, с открытыми глазами, он не спал, но и полного сознания не было у него. Нравственная усталость, изнеможение так были мало знакомы ему до сих пор, что он невольно с каким-то робким удивлением прислушивался к тому, что происходило в его душе. Он находился как бы в полузабытьи. Обрывки мыслей, неясные воспоминания мелькали в его голове, а главное, что казалось ужаснее всего, – впереди не было никакой надежды, никакого выхода. Чего ему ждать, на что надеяться, в самом деле, когда все уже прошло? Он мог только думать обо всем, как о прошедшем, утраченном. Так провел он ночь.
Наутро, с восходом солнца, постучали в дверь графа. Он все еще не спал.
– Именем великого магистра, – проговорили за дверью…
– Войдите, – ответил Литта.
Вошел добродушный итальянец, один из командоров ордена, и, как привычный человек, с веселою, ободряющею улыбкою протянул руку Литте, а затем крепко и дружески поздоровался с ним.
– Ну что, не спали?.. Ну ничего, пройдет, выздоровеете! Ну, пойдемте, меня прислали за вами!
Литта хотел спросить – кто прислал, но сейчас же забыл об этом желании и никак не мог вспомнить, что нужно было сделать ему.
Командор был, видимо, добрым, хорошим человеком и очень понравился Литте.
– Ну, идемте! – сказал командор, и граф так же послушно отправился за ним, как шел вчера за исполнительным молодым рыцарем.
Жизнь в конвенте начиналась рано. Все вставали с восходом солнца, и замок уже шевелился, когда Литта, следуя за командором, проходил по его переходам и залам. Однако командор выбирал нарочно такой путь, где никто не попадался навстречу.
Они пришли наконец в длинную, увешанную портретами галерею, которая вела (Литта знал это) прямо в библиотеку великого магистра. Часовой, стоявший тут, загородил им дорогу алебардой.
– Пропуск? – спросил он.
– «Будь смел со львом, и лев тебя будет бояться», – ответил командор, не замедляя шагов, и алебарда поднялась и пропустила их.
В конце галереи командор постучал в дверь три раза, и на его стук вышел кастелян великого магистра и, кланяясь, оглядел Литту с ног до головы. Командор пошептался с ним и, когда тот ушел, опять обратился к Литте:
– Подождите. . сию минуту!
Через некоторое время дверь опять отворилась, и кастелян махнул рукою Литте.
Тот вошел в библиотеку. Кастелян подвел его к маленькой двери в противоположной стене и растворил ее. Граф перешагнул порог и очутился в огромном кабинете великого магистра.
Глава мальтийцев, почтенный, маститый старец, Эммануил Роган, сидел в широком кресле, обитом красным сукном, с белым крестом на спинке. Он сидел у стола с бумагами и, спокойно положив обе руки на локотники своего большого кресла, казалось, ждал прихода Литты. Он смотрел своими умными, проницательными глазами прямо на дверь, когда вошел граф.
Литта приблизился к старцу и, по правилам орденского этикета, преклонил колено и поцеловал руку великого магистра.
Когда он поднялся, Роган сделал ему знак рукою, что он может сесть против него. Литта почтительно опустился на стул.
Великий магистр долго не начинал разговора. Казалось, он, нарочно медля, вглядывался в лицо рыцаря, стараясь этим взглядом проникнуть в самую его душу и прочесть его сокровенные мысли. Литта спокойно выдерживал этот взгляд.
– Ты, говорят, вступил в переговоры с русским послом в Неаполе? – проговорил наконец Роган, как бы приходя в себя после раздумья, в которое был погружен, и, поправившись на месте, запахнул свой длинный черный бархатный кафтан, подбитый горностаем.
– Да, отец, – тихо ответил Литта.
Рыцари в частном разговоре с великим магистром называли его вместо титула прямо «отцом». Разговор шел по-французски.
Роган наклонил голову, а затем спросил:
– Посол женат на племяннице русского вельможи? Литта выпрямился и заговорил смело и твердо:
– Да, отец, на родной племяннице. Вчера на суде я не мог сказать все, потому что это был суд, а не исповедь рыцаря; правда, я вел переговоры с русским послом, и это было сначала единственною причиной, по которой я поехал в его дом, – меня позвали туда, я сам не хотел ехать. И вот судьям я указал только на эту причину, чтобы выгородить имя женщины, которая не заслуживает упрека. Сделанный на меня донос – клевета. Я знаю, отец, вы верите, что мной не нарушено орденской клятвы, – иначе вы не призвали бы меня к себе. .
– Верю, – произнес Роган.
Литта глубоко вздохнул и продолжал:
– Да, я не нарушил клятвы, но испытание, которому я подвержен теперь, слишком тяжело, отец!
– Всякое испытание тяжело, – задумчиво проговорил магистр. – Жить – значит страдать, а страдать – значит копить себе душевное богатство. Наслаждения рассеивают и заставляют беднеть. Всякая боль, принятая с нетерпением, – сделанный шаг к цели… Пусть воля не дремлет, и, чем больше победит она препятствий, тем сильнее станет она.
Литта потупился; он чувствовал, что сердце его борется с разумом.
– Брат Литта, – вдруг заговорил Роган, оживляясь, – вспомни те испытания, которые ты перенес уже, вспомни, из какой борьбы ты вышел уже победителем! Неужели на этот раз ты устрашишься, потому что страх есть усыпление воли? Сколько раз ты, не дрогнув, шел на смерть; неужели теперь у тебя недостанет духа идти навстречу женской лукавой прелести?
– На смерть легче идти, – вздохнул Литта.
– Может быть – не спорю. Но если бы испытания твои казались легки, тогда не были бы они испытаниями. Я должен был назначить над тобою суд, потому что донос все-таки существовал и с ним нужно было кончить. Главный виновник клеветы получил уже сам от себя наказание. Но дело не в том. Могу ли я быть уверен, что и на будущее время ты не изменишь своему долгу и обету? Литта ответил не сразу.
– Я не могу изменить ему, я должен быть верным слугою ордена, – проговорил он наконец.
– Так помни же свой долг! – ответил Роган. – Я всегда ценил тебя и отличал твои заслуги.
Теперь магистр уже ласково смотрел на Литту, как бы окончательно уверившись в нем. Граф встал, но медлил уйти.
– Ты мне хочешь сказать что-нибудь? – спросил Роган, отвернувшийся было уже к своим бумагам.
– Вот что, отец, – заговорил Литта, – если действительно мои заслуги принесли ордену хоть каплю пользы, то, в уважение к ним, исполните мою последнюю просьбу.
– Какую просьбу? – переспросил Роган.
– Пошлите меня куда-нибудь подальше, чтобы мне не оставаться в Средиземном море, где я должен буду заходить в Неаполь. Мне не хотелось бы находиться поблизости его.
Роган задумался. Он долго-долго молчал, наконец поднял голову и ответил:
– Хорошо, я пошлю тебя в Балтийское море. Русская государыня, которую я уважаю и желание которой хочу исполнить, зовет мальтийцев к себе на службу. Она нуждается в опытных моряках. В числе нескольких других я пошлю тебя.
– Опять Россия! – прошептал Литта.
Роган строго взглянул на него. Этот шепот был почти протестом его распоряжению.
– Ты отправишься в Балтийское море! – повторил он так, что Литта мог только молча преклонить колено и выйти из комнаты.
Выйдя от великого магистра, Литта получил обратно свою шпагу.
На другой же день был отдан великим магистром формальный приказ о назначении нескольких рыцарей в русскую службу. Имя Литты стояло первым в списке, и он стал собираться в далекое путешествие.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I. Утро Екатерины II
К зиме 1795 года здоровье императрицы Екатерины II несколько пошатнулось. Она чаще стала страдать своими головными болями, у нее явились припадки, колики и стали опухать ноги.
Прежде она вставала в шесть часов утра, и одна, не желая будить слуг, управлялась в спальне и ждала, пока ей принесут кофе. Теперь она вставала на два часа позднее – в восемь, соблюдая диету, хотя не могла отказать себе в удовольствии пить по утрам страшно крепкий кофе, одна чашка которого наваривалась из целого фунта.
Но весь остальной день и занятия распределялись по-прежнему. В девять часов являлся к государыне обер-полицеймейстер с докладом. Она расспрашивала его о происшествиях в городе и ценах на припасы и о толках, ходящих в народе. Затем являлся генерал-прокурор с промемориями из сената, потом – целый ряд сановников, каждый в свой назначенный день, а иногда, если дело было спешным, то экстренно, не в очередь, – и так каждый день до обеда, после которого государыня занималась чтением (ей читали вслух, чаще других – Бецкий) и, отдохнув таким образом немного, снова принималась за дела. Обедала она в час.
Екатерине II шел уже шестьдесят седьмой год, но, когда она появлялась на выходах, пред двором, или выезжала утром прокатиться по городу, что, впрочем, случалось редко – не более четырех раз в зиму, – вид ее был бодр и осанка по-прежнему горделива и величественна. Она внимательно следила за толками о ее здоровье и, как только эти толки начинали принимать хотя бы несколько тревожный характер, спешила предпринять что-нибудь, чтобы рассеять их.
Благодаря ли этому или вообще вследствие долгой привычки к управлению мудрой государыни, счастье и ум которой покрыли невиданным дотоле блеском Россию, – все думали, что так будет вечно, что Екатерина еще долгие годы будет царствовать на славу, и все так привыкли к этой мысли, что положительно не замечали приближающейся старости монархини, и никто, разумеется, не мог подозревать, что этот год будет последним ее царствования.
Декабрь стоял хмурый. На дворе было холодно. Серая изморозь, непохожая ни на снег, ни на дождь, мелькала в отяжелевшем воздухе. На улицах то таяло – и делалась невылазная грязь, то подмораживало – и бугорчатые колеи застывали, как камень, твердою, неровною корою.
Пробило восемь часов. Государыня проснулась. Она с трудом поднялась с постели, зажгла свечи и, надев свой утренний белый шлафрок и флеровый чепец, перешла в соседний кабинет, где были уже с вечера заготовлены дела и бумаги, разложенные по статьям в строго определенном порядке.
С десяти часов стали съезжаться к малому подъезду Зимнего дворца кареты сановников, прибывавших с докладом.
В числе этих карет была одна, почти каждый день появлявшаяся у подъезда. Она принадлежала графу Александру Андреевичу Безбородко, который недавно еще вел все внешние сношения империи. Он был послан по смерти Потемкина на его место в Яссы для заключения мира с турками. Вернувшись оттуда, Безбородко нашел всех своих канцелярских чиновников по их местам, но дела, которые были в его руках, перешли главным образом к Платону Зубову. Безбородко, однако, продолжал появляться во дворце в часы доклада, хотя и не было уже к тому надобности, и часто сидел просто в приемной, не приказывая даже докладывать о себе государыне. Иногда же он только присылал к подъезду свою карету, чтобы думали, что он во дворце. Но на этот раз он приехал с письмом из Константинополя от своего племянника Кочубея, бывшего там посланником.
В приемной было много народа, ждавшего своей очереди. Безбородко с добродушною улыбкою, как бы не замечая той разницы, с которою здоровались с ним теперь и прежде, всем одинаково приветливо протягивал и пожимал руку, беспрестанно повторяя со своим заметным малороссийским произношением: «Здрастуйте, здрастуйте!» Пробравшись к стоявшему у двери камердинеру, он с тою же улыбкою, как и другим, и ему сказал свое «здрастуйте» и, подмигнув слегка на затворенную дверь, шепотом спросил:
– А кто там буде?
– Князь Зубов! – ответил лакей уже так тихо, что можно было лишь догадаться по движению его губ в ответе.
Безбородко поднял брови и, помолчав, сказал: «Ну, доложите, когда можно будет!» – а затем, терпеливо вздохнув, на цыпочках пробрался опять назад к окну и присел на бархатном табурете, ожидая, когда дойдет до него очередь.
Молодой красавец князь Платон Александрович Зубов сидел в это время в кабинете государыни у маленького вы-гибного столика, стоявшего против ее кресла. Здесь, у этого столика, она принимала всех своих докладчиков. Зубов подавал государыне к подписи одну бумагу за другою, прочитывая их предварительно вслух. Одни из них Екатерина подписывала, другие откладывала в сторону.
– Все? – наконец спросила она, подписав последнюю бумагу, и, сняв очки, ласково взглянула на своего докладчика.
– Из бумаг все, – проговорил Зубов, – но у меня есть еще дело.
Государыня слегка сдвинула брови.
Князь заметил это движение ее лица, однако не смутился. Он хотел, видимо, сообщить нечто важное, о чем долго думал, соображал и принял решение, которое ему самому очень понравилось.
– Вот в чем дело, – начал он с тою уверенною поспешностью, которая свойственна молодым людям, всегда воображающим, что если они взялись за какое-нибудь дело, то непременно выдумали что-нибудь совсем новое. – Вот видите ли, – начал он, – в семьдесят третьем году папа Климент издал декрет об уничтожении ордена иезуитов. Между тем от имени вашего величества, – теперь, излагая дело, Зубов произнес титул государыни, – был издан указ, в коем было выражено, что находящиеся в Белорусских губерниях иезуиты должны оставаться там по-прежнему; мало того – сами иезуиты просили правительство дозволить им послушать папу и уничтожить свой орден в России, но им было отказано в этом. – Зубов слегка приостановился, весьма довольный знанием своего дела, откашлянулся и продолжал: – Я знаю, что все это было делом окружавших вас лиц, я знаю, что вы не могли изъявить такую волю… Я говорю прямо, – его лицо просияло при этих словах самодовольной улыбкой, потому что он должен был сейчас сказать то, что ему особенно нравилось, – я буду говорить прямо: ваше величество, как русская государыня, не могли стать защитницей католического ордена, изгоняемого самим папою, и вдруг что же? – православная государыня защищает – кого же? – Зубов слегка запнулся: у него выходило на словах вовсе не так хорошо, как он думал, и он договорил уже совсем не так, как приготовился: – Я думаю, что теперь пора восстановить этот промах… я думаю, что я углубился недаром в этот вопрос… Наткнулся я на него случайно…
Екатерина молчала не перебивая и смотрела неподвижно устремленными в сторону глазами. Казалось, она даже не слушала, но вся унеслась мыслями в прошедшее, о котором вдруг напомнили ей, в то далекое прошлое, когда сама она была иная и иные люди были вокруг нее. Она невольно боялась сравнивать этих людей с молодым, неопытным человеком, почти юношей, так смело и самоуверенно говорившим ей о вещах, о которых она думала и передумала в былое время, когда он был еще ребенком. Наконец она подняла глаза и с тихою, почти грустною улыбкою проговорила, качнув головою:
– Нет, мой друг, я в маленьком своем хозяйстве – это были ее любимые слова – никогда не действовала под чужим влиянием. Все делалось по моей воле, и то дело, о котором ты говоришь, – я сама так повернула, и указ был мой, и воля была моя, – оставить орден иезуитов в России по-прежнему.
Зубов растерянно посмотрел на императрицу. Он, казалось, все предвидел, только этого никак не мог ожидать.
– Как же это так? – начал было он.
Екатерина спокойно взяла щепотку табака из стоявшей возле нее на столике табакерки с портретом Петра Великого, отряхнула ее и, понюхав не спеша, ответила ровным голосом, как учитель, толкующий урок своему ученику:
– В наших юго-западных областях много живет католиков, и нам нужно было отклонить притязания папы на господство над ними. Когда он уничтожил орден иезуитов – я не послушалась его, и это сделалось основанием дальнейшей политики нашей с Римом. Мы скоро поняли друг друга… Я уничтожила этим привилегии католических монашеских орденов в России и подчинила их своей власти наравне с белым духовенством. У меня создалось свое правление римскою Церковью, и папа ничего не мог сделать. Так-то, мой друг!.. А что говорят о их влиянии у нас, так это – пустое: никогда русский народ не изменит православию. Вспомни, что мы писали недавно еще, хоть бы неаполитанскому двору…
Зубов не помнил, что писали неаполитанскому двору, он не разобрал даже хорошенько то, что ему говорили сейчас; он понял лишь, что дело, которым он хотел было блеснуть, совершенно не вышло, и, надув губы, поднялся со своего места.
– Куда ж ты? – спросила Екатерина.
– Там много еще народа, – Зубов показал головою на дверь приемной, – и у меня есть еще дела.
И, минуя приемную, он прошел через зеркальную комнату в коридор, на другой конец дворца, где в нижнем этаже было отведено ему помещение.
Государыня позвонила в маленький колокольчик.
– Пожалуйте! – сказал камердинер графу Безбородко, и тот, переваливаясь, заспешил своею слегка неловкою походкою.
Войдя к государыне, он, по привычке старых царедворцев, опустился на колено (Суворов обыкновенно, входя к императрице, клал три земных поклона) и, поспешно поднявшись, прикоснулся губами к протянутой ему руке.
– Вот, матушка-государыня, письмо от племянника получил! – заговорил он и подал сложенную вчетверо бумагу.
Екатерина знала, что в этом письме нет ничего важного, что оно лишь служит предлогом Безбородко, чтобы явиться к ней; но так как он был отстранен от дел вовсе не по неблагорасположению ее, то она делала вид, будто очень хорошо, что граф является к ней, и даже добродушно улыбалась на присылаемую им к подъезду карету, о которой знала.
Она взяла письмо и, просмотрев его, проговорила:
– А у меня есть дело к тебе, граф.
Лицо Безбородко оживилось.
– Матушка! – воскликнул он. – Да прикажите лишь, ваше величество…
– Впрочем, дело нетрудное и несложное, – перебила Екатерина. – В городе – сегодня мой полицеймейстер сказывал – опять, кажется, стали говорить о моем здоровье…
– От-то брешут! – не удержался Безбородко.
– Ну, так я к тебе вечером приеду. Собери гостей. Безбородко весь просиял.
– Государыня, царица! Вот-то счастье мне! Когда изволишь только!
Екатерина знала, что огромное богатство графа, видавшего на своем веку празднества ее двора и устраивавшего их у себя в доме, позволит ему принять ее с должною честью, и потому-то именно выбрала его.
И Безбородко вышел от государыни радостный, словно его несказанно наградили, и уже заранее составлял себе план предстоящего торжества.








