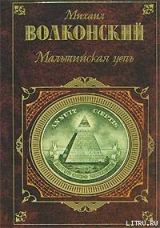
Текст книги "Мальтийская цепь"
Автор книги: Михаил Волконский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
VIII. Аудиенция
О полученном им приказании от двора явиться на аудиенцию по поводу дел ордена Литта послал подробное донесение на Мальту и, уверенный, что там это будет встречено сочувственно, стал готовиться к приему во дворце.
В назначенный день все было готово. Литта, в богатом красном камзоле с великолепным бриллиантовым крестом на груди и с бриллиантовыми пуговицами и пряжками на башмаках, в собольей шубе, сел в восьмистекольную золоченую карету с белыми мальтийскими крестами, запряженную шестью белыми лошадьми цугом. На козлах кареты были кучер с лакеем в ливреях с золотыми галунами, а на запятках, в таком же одеянии, стояли два гайдука. У лошадей шли скороходы с черными и белыми перьями на головах. Все это было устроено частью в долг, частью на деньги, полученные от Абрама, который принес, как обещал, остальные семь тысяч.
Карета подъехала к большому подъезду Зимнего дворца, и два придворных камер-лакея, ожидавшие у дверей, высадили Литту под руки.
Аудиенция была частная (Литта не имел верительных грамот), и потому прием происходил без всякой торжественности и без присутствия двора. Графа встретил и провел дежурный камер-юнкер к покоям государыни.
Императрица приняла мальтийского кавалера в кабинете, у того самого столика, у которого выслушивала доклады своих сановников. Но наряд на ней был не тот, в котором она обыкновенно слушала эти доклады. Теперь на ней был парчовый молдаван, опушенный мехом и застегнутый у горла драгоценною пряжкой, а напудренные волосы были собраны кверху.
Взглянув на нее, Литта сейчас же заметил ту огромную разницу, которая была в ней теперь, в сравнении с тем, как он привык видеть ее на балах или торжественных выходах. Теперь государыня была совсем другая, не строгая, не та, пред которою смутился даже саркастический Вольтер на торжественном приеме; теперь она была просто замечательно сохранившеюся, несмотря на свои годы, женщиной с ясными, умными, глубокими глазами и чарующей улыбкой, показывающей ее ровные до сих пор, белые, как жемчуг, зубы.
– Здравствуйте, граф, – проговорила она, когда Литта целовал ее руку. – Сядьте здесь. . Поговорим! – и она показала на стул.
Литта сел.
– Итак, – начала Екатерина, – ваша Острожская ординация теперь находится в моей земле. Я много слышала о мальтийских рыцарях и всегда считала их достойными людьми. Мое всегдашнее желание было видеть их на своей службе; познакомьте же меня поближе с вашим уставом и с организацией ордена.
Литта поправился на своем месте и начал говорить и объяснять то, что от него требовали. Он говорил хорошо, плавно, не торопясь и не затягивая речи. Екатерина слушала его, изредка делая вопросы и замечания, которые ясно подтверждали, что недаром ум русской государыни был признан и прославлен повсеместно.
Этот живой и бойкий разговор увлек Литту, и он чувствовал, что давно с таким удовольствием не говорил ни с кем и что в данную минуту желал бы одного – чтобы как можно дольше не прекращалась эта беседа.
– Ну, а с Острожской ординации вы последнее время не получали доходов, кажется? – спросила государыня, снова возвращаясь к первоначальному предмету разговора.
– То есть пока она была во владении Польши, ваше величество, – ответил Литта.
– Ну, я надеюсь, что теперь орден не понесет никаких убытков. Я уже сделала распоряжение, чтобы снеслись с великим магистром о назначении при моем дворе министра-резидента Мальты, и указала на вас, как на человека, который мог бы занять это место.
Литта поклонился. Ему в эту минуту казалось, что лучше этого ничего и придумать нельзя.
Екатерина улыбнулась ему тою улыбкою, которою она одна только умела улыбаться, и промолвила:
– Теперь мы будем видеться с вами.
– Если ваше величество позволите только, – опять поклонился Литта.
Во всем этом разговоре и в последовавшем затем, в течение всей аудиенции, не было сказано ни слова, не касавшегося дела, и, несмотря на это, все было так живо и интересно, как будто это был простой разговор, задушевный и самый приятный.
На прощание Екатерина опять протянула Литте руку и сказала: «До свиданья».
Он вышел из кабинета опять с тем же чувством восторга и уважения к государыне, которое охватило его в первую минуту на балу у Безбородко, когда она, поговорив с ним, отошла от него. Были ли это симпатия, преданность, удивление – Литта не знал, но не мог не признать, что ему очень легко и хорошо на душе. И если бы, казалось, теперь к нему кто-нибудь подошел с малейшим намеком на что-либо, он готов бы был растерзать его, может быть, на месте.
Тот же камер-юнкер, который провел Литту, провожал его снова по бесконечному ряду парадных комнат дворца, где изредка, в определенных местах, у дверей стояли часовые, отдававшие им воинскую честь.
На площадке лестницы Литта встретился с молодым человеком в генеральском мундире и, находясь еще под влиянием своей беседы, не обратил сначала на него внимания и не сразу узнал его. Это был князь Зубов. Последний окинул Литту с ног до головы испытующим, недобрым взглядом и, видимо, ждал от него поклона.
Граф узнал его не столько по его внешнему виду, сколько по своему собственному внутреннему отталкивающему чувству, которое всегда испытывает сильный и крепкий человек к изнеженному и слабому существу, родившемуся мужчиной и не сумевшему стать им в жизни. Этот красивый, женственный двадцативосьмилетний мальчик всегда был противен ему. Поэтому и теперь он смело встретил вызывающий, дерзкий взгляд князя и мимоходом чуть заметно кивнул ему головою. Зубов, не ответив на поклон и не меняя выражения, посмотрел ему вслед.
Провожавший Литту камер-юнкер отлично заметил это бессловесное выражение вражды и сделал отсюда свое заключение.
IX. Отец Грубер
Когда Литта оставил баронессу Канних в ее будуаре и его поспешно удаляющие шаги замолкли в зале, обделанная под стену небольшая дверь отворилась, и на ее пороге показался гладко выбритый человек в сутане. Он сложил на груди руки и, качая головой и посмеиваясь, смотрел на баронессу, все еще сидевшую на своей софе.
– Ну что? Ведь говорил я вам, предупреждал вас, что ничего из вашей затеи не выйдет! – сказал он сквозь смех.
– Бегство не есть еще победа! – повторила баронесса последние, сказанные ею Литте слова. – Вы слышали, отец, я это сказала ему.
– Слышал, – протянул он и махнул рукою, – но только верьте, что отец Грубер никогда не ошибается… никогда! – помахал он из стороны в сторону указательным пальцем и, подойдя к креслу, которое только что оставил Литта, сел против баронессы.
– Да, но я хотела попробовать одно из давно испытанных средств, – проговорила она, нервно перебирая кольца у себя на руке.
– Все средства хороши, когда ведут к цели, – вздохнул Грубер, – но граф – не такой человек, чтобы его можно было захватить тем путем, какой избрали вы, баронесса.
Канних оставила свои кольца резким движением, словно оборвала что-нибудь, и, облокотившись на валик софы, полуотвернулась.
– А разве он вам необходим? – помолчав, спросила она, искоса глянув на Грубера.
Тот, закинув голову сначала кверху, выразительно опустил ее на грудь, в знак подтверждения того, что Литта необходим ему.
– Неужели вы думаете, что он в самом деле может пойти теперь высоко? – недоверчиво произнесла баронесса.
– Я ничего не думаю; теперь или после, но этот человек может пригодиться, и его упускать нельзя.
Отец Грубер, видимо, играл роль. Он говорил, как человек, который привык, что его слушают с удовольствием и придают цену его словам. Вследствие этого в его манере было что-то слегка деланное, аффектированное, в особенности когда он разговаривал с такими всецело преданными ему женщинами, как баронесса. Она была верною католичкою и давно подчинилась его влиянию.
– Так как же быть? – спросила она.
Грубер самоуверенно улыбнулся и, приподняв наискось правое плечо, скромно ответил:
– Действовать!.. До сих пор я оставлял в покое мальтийского кавалера, но теперь пора приняться за него…
– И вы приметесь?
– А вот посмотрим.
Грубер долгим житейским опытом (он был немолод уже) знал людей, в особенности женщин, и видел, что баронесса находится теперь в том состоянии душевного волнения, когда человеку особенно хочется высказаться, раскрыть другому все то, что мучит его. И, несмотря на поздний час, он терпеливо сидел на своем кресле с таким видом, как будто забыл, что, может быть, ему уже пора было уйти.
– Вот видите ли, отец, – заговорила вдруг баронесса, зажимая ладонями глаза и опуская голову, – я должна признаться вам, как на духу… Я прошу вас теперь выслушать мою исповедь…
– Что такое? – удивился Грубер очень естественно и придвинулся поближе, сделав серьезное, внимательное лицо.
– Вот видите ли, – повторила она, – я не была с вами вполне искренна… то есть не то чтобы я солгала вам что-нибудь, нет, но я не все открыла вам…
Грубер слушал, слегка кивая головою и как бы говоря: «Ведь это ничего, вы расскажите только, я и успокою, и прощу – словом, сделаю все, что нужно, и это все в нашей власти».
– Когда вы сказали сегодня утром, – рассказывала между тем баронесса, – что граф Литта необходим вам, я предложила вам испробовать свое влияние на него. Я думала, что, бывая у меня в доме, он, почти никуда не показывающийся человек, выделил меня из общего уровня, и, когда мы увидимся наконец друг с другом, как это было сегодня вечером, он объяснится и будет в моей власти, а следовательно, и в вашей… Ведь вы же добра ему хотите, отец, не правда ли? Следовательно, как же мне не помочь вам, то есть ему… ведь это все равно?
– Конечно, – произнес Грубер, и голос его прозвучал внушительно, – конечно, я желаю только добра и могу действовать лишь для вящей славы Божией.
Баронесса и не ожидала ничего иного. Она утвердительно кивнула головой и продолжала:
– Ну вот видите! Когда мы остались с ним вдвоем сегодня, сначала я думала, что играю только роль, но потом… – она взглянула на патера. Он сидел, слегка отвернувшись, с бесстрастным лицом судьи. Глаза их не встретились. – Потом, – подхватила баронесса, – я почувствовала, что, кроме желания сделать добро человеку и угодить вам, во мне самой есть нечто такое, что заставляет меня не совсем равнодушно относиться к графу Литте. Я несколько раз смущалась, когда он взглядывал на меня. И вот, когда он сказал, что не всегда женщина бывает сильнее мужчины, и потом еще… Ах, отец, если бы вы знали, что за глаза у него!.. И потом эта сила, мощь, которою он так и дышит весь!.. Одну минуту мне казалось: скажи он мне быть его рабой, я бы не задумалась…
Грубер строго сдвинул брови и взглянул на баронессу; она смутилась и, потупившись, стала перебирать кружевную оборку.
– Вы должны быть рабой только Церкви, – значительно произнес он, но сейчас же добавил, как бы смягчая строгость этих слов: – Но, разумеется, человек слаб, и ему извинительны и свойственны ошибки. Ищите себе поддержки в людях, которые могут преподать вам добрый совет!
– Вы не оставите меня, отец? – прошептала Канних. Ей показалось, что она покраснела в эту минуту.
– Я буду поддерживать вас, – успокоил ее Грубер. – Я вам могу сказать только одно: если вы ощутили в себе чувство, о котором говорили, то обыкновенно оно бывает обоюдно – это всегда происходит взаимно… и можно, за редкими исключениями, всегда рассчитывать на ответное чувство.
Грубер видел, как по мере его слов лицо баронессы сияло все больше и больше.
– Так вы думаете, отец, что это возможно? А как же вначале вы так были уверены, что граф Литта не такой человек? – спросила она.
– Я не знал, что вы хотите действовать искренне, но искренность – великая вещь…
– И вы допускаете, что когда-нибудь в нем проснется настоящее чувство?
– Может быть, оно проснулось уже! – произнес Грубер, подливая масла в огонь. – Во всяком случае, я желал бы лучше видеть его у ваших ног, чем у чьих-нибудь других. Я знаю, что вы не сделаете ему вреда…
– Боже мой, я бы хотела ему только счастья, только радости.
– Так будемте же действовать! – повторил Грубер и поднялся со своего места.
Когда он ушел, Канних долго еще ходила по своему будуару, не имея сил успокоиться. Наконец она выпила стакан флердоранжевой воды и пошла спать.
«Но что за человек, какой ум, какое знание жизни!» – удивлялась она отцу Груберу.
X. Кондитерская Гидля
Выйдя из дворца, Литта сел снова в свою золотую карету; дверца хлопнула, лакей вскочил на козлы, и карета тронулась.
Зимний день выдался светлый. Солнце, обычно редко показывающееся в декабре над Петербургом, светило теперь, но не грело, а только играло на алмазном снеге и на узорах замерзлых окон кареты. Колеса скрипели на морозе странною, звенящею музыкой. Сквозь матовые от покрывших их узоров стекла пробивался мягкий, ровный свет.
Внутри кареты, несмотря на холод, было очень уютно и опрятно, она мягко покачивалась на своих упругих рессорах. Литта невольно огляделся с удовольствием.
«Что это?» – мелькнуло у него, и он, высвободив из-под шубы руку, взял с бархатной подушки возле себя сложенную в несколько раз бумажку, бросившуюся ему в глаза.
Бумажка была сложена очень аккуратно и, видимо, нарочно подброшена так, чтобы ее заметили.
Граф развернул ее с тою ничего, собственно, не значащею улыбкою, с которою люди обыкновенно встречают всякую таинственность.
Это была записка, писанная левой рукой. Литта знал, что почерк левой руки у всех людей одинаков.
«Сегодня вечером Вас ждут в кондитерской Гидля», – стояло в записке, и затем была подпись: «Ajaks Noгbaks»[16]16
«Аякс Норбакс».
[Закрыть].
Записка была на французском языке. Литта разорвал ее и бросил. Какое было дело ему до того, что какой-то таинственный «Аякс» сообщал кому-то, что его ждут в кондитерской Гидля? Сам Литта почти не бывал в этой, впрочем, модной кондитерской и не принял на свой счет приглашения, решив, что оно случайно попало к нему в карету, может быть, даже по ошибке. И он стал думать про разговор с государыней и про свое назначение послом при ее дворе.
Приехав домой, он приказал вымыть дорогую карету, вытереть ее замшей – словом, сделать так, чтоб она не испортилась. Распорядившись также насчет лошадей и о том, чтобы озябшим слугам дали водки, он вошел к себе. И вот, к своему удивлению, снимая шубу и доставая из ее кармана носовой платок, он нащупал там опять сложенную в несколько раз бумажку. Это оказалась совершенно такая же записка, как найденная им в карете, и с тою же подписью.
«Что за вздор! – подумал Литта, придя к себе в кабинет и бросив записку на бюро. – Однако это ко мне, очевидно, ко мне… Но зачем, к чему!.. Кому нужно?»
И он невольно думал все об этом, пока камердинер и два лакея, помогая ему раздеваться, снимали с него парадный наряд.
– Принесите мне что-нибудь поесть да дайте стакан вина, я прозяб, – приказал Литта, когда переодевание кончилось, и в ожидании завтрака стал ходить по комнате.
Камердинер, торопливо перебирая своими мягкими туфлями и слегка отогнувшись назад, принес ему на серебряном подносе два хрустальных графина с белым и красным вином, стаканы, хлеб, кусок холодной ветчины, телятины, паштет и вазочку икры, которую Литта очень любил.
Граф при виде подноса почувствовал, что он голоден, и, подойдя к столику у бюро, на который камердинер поставил поднос, начал стоя есть. Он налил себе вина в стакан и хотел его выпить, но вдруг, не донеся до рта, снова поставил на поднос и поспешно схватил с бюро лежавшую там записку. Его взор нечаянно упал на эту записку, когда он хотел выпить вино, и случайно он прочел стоявшую на ней подпись: «Ajaks Noгvaks» от правой руки к левой, то есть наоборот. Вышло: «Scavronskaja».
Литта не верил своим глазам. Снова все, что таилось в нем в течение шести долгих лет, против чего он боролся, всплыло наружу при этом внешнем, неизвестно откуда пришедшем напоминании дорогого имени, словно и не было этой шестилетней борьбы. Но что это – мистификация, случайность? Литта не раздумывал, он знал только, что, несмотря ни на что, пойдет теперь в кондитерскую Гидля, пойдет, потому что разузнать, какое соответствие имелось между этой запиской и именем, которое он прочел на ней, – было для него необходимо. И он стал с нетерпением ждать наступления вечера.
Швейцарец Гидль торговал на одной из лучших улиц Петербурга – на Миллионной. Целый день здесь, в его кофейне, толпилась и сидела масса народа.
Литта вышел из дома в шесть часов, сообразив, что достаточно уже поздно, чтобы считать это время «вечером».
Придя в кондитерскую, он осмотрелся, выбрал свободный столик, спросил себе чашку шоколада и невольно начал приглядываться к окружавшей его публике, желая узнать, кому из нее было дело до него и кто же наконец призвал его сюда таким странным образом. Но все, казалось, были заняты сами собою, и никто не обращал на него внимания.
Литте принесли шоколад и подали новую афишу о предстоящем театральном представлении. Шоколад он не стал пить и взялся от нечего делать за афишу. В ней сообщалось, что через две с половиной недели, на Святках, состоится дебют известной французской актрисы Шевалье в трагедии Расина «Федра». Это была очень знаменательная новость, но Литте было не до нее, и он несколько раз перечитывал крупные буквы афиши, не вдумываясь в их смысл, в нетерпеливом ожидании, когда же подойдут к нему…
Наконец сам толстый швейцарец Гидль приблизился к его столику и учтиво проговорил:
– Может быть, графу угодно отдельную комнату? Там будет покойнее.
«А, он меня знает!» – удивился Литта и, решив, что, вероятно, ему нужно послушаться хозяина, встал со своего места.
Гидль повел его по длинному коридору, минуя, однако, комнаты, где бывали обыкновенно гости. Они прошли весь коридор, потом повернули в какой-то закоулок, совсем темный, и наконец Гидль отворил дверь и впустил Литту в просторную горницу, убранную совсем не по-трактирному. Стены были окрашены густою, темною, мрачною краской; на простенке, против двери, висело большое распятие, посредине стоял дубовый стол, окруженный такими же скамейками; широкая лампа под зеленым абажуром бросала свой светлый ровный круг с потолка.
От стола навстречу Литте поднялся одетый в черное патер, и граф сейчас же узнал в нем Грубера.
Патер Грубер, деятельный член иезуитского ордена в Белоруссии, явился в Петербург под предлогом представления Академии наук каких-то своих изобретений по части механики. Он бывал, якобы ввиду искания покровительства своим проектам, в домах петербургской знати, Литта встречался с ним и, между прочим, видал его раза два у Канних. Каждый раз при встрече патер намекал ему, что желал бы сойтись с ним поближе, но Литта уклонялся от этого…
– Не ожидали встретить меня здесь, граф? – спросил Грубер на отличном итальянском языке.
Он одинаково свободно владел языками немецким, латинским, английским, французским, русским и итальянским.
Литта отступил назад и с невольным удивлением произнес:
– Нет, не ждал!..
– Ну вот видите! – улыбаясь, сказал Грубер. – Присядемте, однако, время дорого. Я давно желал поговорить с вами наедине, а между тем так случалось, что это было затруднительно. Друг к другу нам ехать тоже было как-то неловко, кому первому? Не так ли? Лучше всего здесь, на нейтральной почве… Правда ведь? – и, говоря это, Грубер садился и придвигал табурет Литте.
Граф присел к столу боком, как будто хотел встать сейчас.
– Прежде чем вы скажете мне что-нибудь, – остановил он иезуита, слегка прикасаясь рукою к его руке, – прошу вас об одном – та записка, по которой я вызван сюда, написана вами?
– Да, мною, – кивнул головой Грубер.
– Подпись, которая стоит под нею, взята вами случайно или вы имели какое-нибудь основание подписаться так?
Грубер медленным и долгим взглядом посмотрел прямо в глаза Литте и, поджав свои тонкие, бескровные губы, ответил:
– Совершенно случайно!..
Граф не поверил ему, но решил, что во что бы то ни стало будет знать истину.
XI. Ad majorem Dei gloria[17]17
Во славу Божию (лат.).
[Закрыть]
– Я не сомневаюсь, – начал Грубер, близко пригибаясь к Литте и засматривая ему в лицо, – что вы, как мальтийский рыцарь, есть и всегда будете верным сыном католической Церкви.
– Я тоже не сомневаюсь в этом, – проговорил Литта, – я всегда останусь в той религии, которую исповедую, в которой родился и которой служу как член ее воинствующего ордена.
– Аминь! – подтвердил иезуит. – Об этом и говорить нечего. Но мы с вами находимся теперь в чужой стране, окруженные темными людьми, на пользу которых готовы поработать, – так? Не лучше ли нам действовать сообща, граф?
– Наша деятельность слишком различна, – возразил Литта, – я не знаю, на чем же мы можем сойтись…
– Как различна? – перебил Грубер. – Наш орден действует для вящей славы Божией – ad majorem Dei gloria; неужели вы не готовы служить этой цели?.. Позвольте! – остановил он Литту, видя, что тот хочет перебить его. – Вы, конечно, знаете, что большинство ваших братьев по Мальтийскому ордену уже давно вступило в общество Иисуса… Отчего вам не примкнуть к ним?
Литта ответил не скоро.
– Святой отец, – проговорил он, как бы вдруг решившись высказаться, – насколько я слышал, иезуиты очень искусны в диалектике, но, простите меня, я буду говорить прямо, – не умею я идти окольными путями: мне не по сердцу многое в уставе вашего ордена…
Грубер нисколько не смутился этими жесткими словами.
– Что же не по сердцу вам, сын мой? – мягко, ласково и вместе с тем почти наивно спросил он.
Литта решил пойти совсем напрямик.
– Прежде всего «perinde ас cadaver», – продолжал он, – то есть «будь таким, как труп, уничтожь свою волю, чтобы подчиниться старшим»…
– Что же здесь дурного? – спросил патер.
– Нельзя допустить уничтожение свободной воли в человеке! Ведь все могущество, вся сила ордена, которому я служу, именно основаны на этой свободной воле.
– Мы не станем вдаваться в определение понятия воли, – перебил Грубер, – то правило, о котором вы говорите, необходимо лишь для тех лиц братства Иисуса, которые поступают в него как духовные члены; вы же останетесь рыцарем ордена Мальты, и для вас не необходимо это правило.
– Но все-таки оно есть! – настаивал Литта.
– Это как кому дано понимать: кто захочет уничтожить в себе волю, тому благо; это касается нас, но дурного в том нет ничего.
– Затем правило «reservatio mentalis»[18]18
«На основании здравого разума» (лат.).
[Закрыть], – сказал Литта. – Ему впервые в жизни приходилось еще вести такую беседу с иезуитом о вещах, близко касающихся братства, и это интересовало его. – По этому правилу, насколько я знаю, можно сделать все, лишь бы мысленно найти себе оправдание, причем в крайнем случае можно даже просто считать таким оправданием слова «ad majorem Dei gloria».
– Это правдоподобно, – подтвердил иезуит.
– Но ведь это же ужасно! Ведь этак можно допустить все – и убийство, и всякое преступление.
– Но если цель благая? – воскликнул Грубер. – Разве для такой цели нельзя допустить зло, которое вознаградится потом добром?
– Цель оправдывает средства! – перебил Литта. – Это ужаснее всего. Неужели правда, что братья-иезуиты держатся этого правила?
– Правда, сын мой, правда, и тут нет ничего ужасного. – Грубер встал со своего места и выпрямился во весь рост. Глаза его блестели, ноздри слегка расширились. – Как? – заговорил он. – Вы порицаете эти правила, находите их дурными? А между тем смотрите, сколько блага сделали они, смотрите, какое могущество приобрело наше братство при помощи их! А где то зло, о котором вы говорите? Вы видели его?.. Нет, вы видели наши школы, вы знаете о наших трудах на пользу науки, вы слышали нашу проповедь. Разве это – зло?
Литта тоже встал и твердо произнес:
– Если в ваших школах преподают и в проповедях распространяют правила, которые вы защищаете теперь, то да, это – зло!
Но Грубер, казалось, не слушал его.
– Я вам говорю о том могуществе, которое имеет наш орден везде, – почти кричал он теперь, – весь земной шар в нашей власти, нет государя сильнее нас, и нет человеческого могущества больше нашего. Меня с вами столкнула судьба в России, соединимтесь же здесь, и я вам обещаю такое могущество, о каком вы и не мечтали никогда.
– Мне его не нужно, – тихо проговорил Литта и сделал шаг к двери.
Ему давно было уже не по себе. Несмотря на красноречие патера, он не мог сочувствовать ему. В этой комнате с тесными стенами было как-то тесно, душно, и от этого разговора Литта чувствовал, словно голову его сковывают железными обручами. Он сделал шаг к двери, забыв уже обо всем – и о подписи на записке, лишь бы уйти поскорее.
Грубер не выказал ни малейшего движения удержать его. Он стоял со скрещенными на груди руками, освещенный сверху светом лампы, и своими быстрыми карими глазами следил за движением Литты. Наконец он снова произнес:
– Граф, я обещаю вам могущество, силу, все, чего вы только пожелаете.
Литта, сморщив лицо, направился к двери.
– Граф, подпись на записке не была случайная! – вдруг произнес Грубер, и Литта, вздрогнув всем телом, вернулся и снова подошел к столу.
Кулаки его нервно сжались, грудь тяжело стала дышать, он не мог уже выговорить ни слова и только глазами и всем движением головы спрашивал объяснения.
Иезуит, сжав губы, не то улыбался, не то кусал их.
– Говорите же… ради Бога, – с трудом произнес Литта, опираясь на стол.
– Да что же говорить? – пожал плечами патер. – Чего вы волнуетесь так? Вы думаете, я даром вам говорил о могуществе нашего братства? – покачал головою Грубер. – Неужели вы думаете, что мы не знаем о вас ничего? Неужели вы думаете, что нам неизвестно то, что происходило в Неаполе? Разве я не вижу теперь, что вы до сих пор любите графиню Скавронскую?
Литта ничего не ответил, а только как-то непроизвольно махнул рукою возле лица и закрыл глаза. Выждав немного, Грубер опять заговорил:
– Вот видите ли… и вы не можете сказать, что это – неправда.
И в этих словах послышались другие слова, которые значили: «Вот видите, вы в моих руках теперь».
Литта сделал невероятное, почти нечеловеческое усилие и, совладав-таки с собою, проговорил:
– Ну что ж из этого? Люблю ли я или нет – это касается меня.
– Да! – протянул патер. – Но графиня, вероятно, скоро вернется в Петербург.
– Как в Петербург? Зачем в Петербург?! – воскликнул Литта, не помня уже себя.
– Я знаю, что она уже давно в дороге сюда… как только схоронила мужа.
– Схоронила мужа! – повторил Литта машинально, по инерции слова Грубера.
– А вы и этого не знали? – удивился тот. – Но ведь Скавронский умер, уже год тому назад.
Литта не мог знать это: считая себя связанным как бы словом – не искать встречи со Скавронскою, он никогда даже ничего не расспрашивал и не узнавал о ней, тем более что это лишь расстраивало бы его собственную рану.
«Так она – вдова, свободна и едет сюда!» – думал он, но все-таки сознавал, что сам он был по-прежнему связан и счастье было невозможно.
– Граф, я обещаю вам брак с графиней Скавронской, – услышал он снова голос Грубера.
Все вертелось в глазах Литты, ходили какие-то круги, и, казалось, уже не Грубер говорил это, а чей-то голос звучал совсем с другой стороны.
– Какой брак? – проговорил Литта, не узнавая и своего голоса. – Какой брак?.. Разве это возможно?
– Для вас ничего невозможного нет, – ответил Грубер с расстановкой. – Примкните к нам, и графиня будет вашею женой… Хотите заключить договор на этом условии?
– Да как же это? – не поверил Литта.
– Хотите заключить договор? – повторил Грубер. Круги заходили сильнее, в висках застучало. «Perinde ас cadaver», «reservatio mentalis», – замелькало в голове Литты, и вдруг он, топнув ногою и раскинув руки в сторону, хрипло крикнул несколько раз:
– Да нет же, нет!
Не мог он продать свою душу и, продав ее, перестать быть рыцарем, перестать быть достойным той, которую любил! Ведь все равно и тогда счастье не было бы возможно, потому что он презирал бы себя сам и Скавронская была бы вправе сделать это. И Литта бросился к двери.
Грубер, как молния, кинулся за ним и схватил его за руку.
– Приди сюда, верный сын наш! – зашептал он каким-то протяжным, торжественным шепотом, таща Литту от двери. – Приди сюда и знай, что ты выдержал искус, что отныне братство Иисуса будет доверять тебе, и если ты захочешь вступить в него, то примет тебя… Те правила, на которые не согласился ты, придуманы нашими врагами. Но мы держимся их, испытываем людей посредством их. И вот те, которые согласились на эти правила и потому были отвергнуты нами, рассказывают, будто мы держимся их… Это наши враги, но не друзья. Нет, общество Иисуса принимает в свою среду только достойных и испытанных людей. Ты с честью выдержал искус! Он был тяжел для тебя, но ты выдержал его. Приди же. . дай обнять тебя!
И не успел Литта опомниться, как патер Грубер уже обнимал его, прижимал к своей груди, усаживал и поил из появившегося откуда-то в его руках стакана.
– Боже мой! – произнес наконец граф, приходя в себя. – Мне кажется, что ум мой путается, я ничего не различаю. Где ж тут правда?
– В тебе самом, в нас! – проговорил Грубер, и льстивые речи неудержимым потоком полились у него.
Через несколько времени Литта вышел от Гидля измученный, усталый, изнеможенный, но вполне примиренный с Грубером и с его братством.








