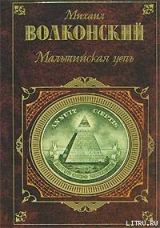
Текст книги "Мальтийская цепь"
Автор книги: Михаил Волконский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 19 страниц)
V. Обличитель
Старик-бриллиантщик послал выбранную по его указанию Литтою табакерку с запискою графа.
«Примите эту вещь в благодарность за Ваше беспокойство по доставлению мне пакетов, – написал Литта, – и верьте, что, если я смогу быть Вам полезным когда-нибудь, Вы можете обратиться ко мне, заранее будучи уверены, что Ваша просьба будет исполнена».
Мельцони пробежал записку и, развернув принесенную ему вещь, не мог с искреннею, неподдельною радостью не удивиться щедрости Литты. Бриллиант сиял чудным блеском, как звезда, так и переливаясь, так и играя всеми цветами радуги.
У итальянца невольно разбежались глаза, и он стал любоваться подарком. Он придвинул свечи, поворачивал из стороны в сторону табакерку, улыбался, вглядывался и заставлял еще ярче светиться драгоценный лучистый камень. Вода в нем в самом деле казалась дивною.
«Однако откуда он мог достать это? – соображал Мельцони. – Ведь вещь не дешевая. Значит, у него не все еще потеряно. Да, впрочем, и по виду его нельзя было судить».
И он снова принимался смотреть на блеск камня.
А между тем вделанный в черную поверхность бриллиант постепенно, но верно делал свое дело. Мельцони не заметил, как его мелькание утомило сначала его глаза, потом почувствовал какое-то смешанное чувство не то усталости, не то совсем особенной бодрости во всем теле, и утомление глаз перешло в его мысли, в мозг… Еще минута – голова его качнулась вперед, и он остался недвижимым на своем месте. Он спал.
Прошло несколько времени. Вдруг какая-то чисто внешняя сила, которой Мельцони не мог сопротивляться, толкнула его, заставила выпрямиться, подняться, надеть на себя верхнее платье и идти на улицу, вперед, туда, куда звала его эта сила. Он повиновался и шел с открытыми, но бессознательно уставленными в одну точку глазами, шел твердым, поспешным шагом, поворачивая из улицы в улицу и выбирая самый короткий путь к заколоченному снаружи дому графа Ожецкого. Он сразу нашел дверь, которая осталась незапертою, поднялся по лестнице, прошел зал и очутился на пороге комнаты, где его ждали.
Ветус, удовлетворенный, кивнул головою, затем встал и протянул руку по направлению к Мельцони. Тот послушно остановился. Глаза его по-прежнему были открыты, руки бессильно опущены, во всей его фигуре была видна покорность и подчинение. Старик чувствовал свою власть над ним и заставлял его повиноваться.
– Можешь ли ты говорить? – спросил он. Мельцони сделал усилие шевельнуть губами.
– Отвечай! – приказал Ветус.
– Да, могу, – вздохнул Мельцони.
Он тяжело дышал и говорил с большим трудом. Старик приблизился к нему и положил руку ему на голову. Мельцони стал дышать ровнее.
– Можешь ли ты видеть себя наяву? – спросил опять Ветус. – Ты едешь в Петербург, въезжаешь в заставу. Что ты везешь с собою? Ты видишь это?
Лицо Мельцони сделалось осмысленнее, и он проговорил:
– Да.
– Что же ты везешь?
– Письма.
– Кому адресованы самые важные из них?
– Отцу Груберу.
– А! – произнес Литта, внимательно следивший за каждым словом.
Ветус движением руки остановил его и снова обернулся к Мельцони.
– Тот, кто посылал тебя, давал тебе словесные поручения?
Мельцони опять не ответил, и лицо его опять стало безжизненно.
– Ты стоишь теперь пред кардиналом Консальви, – сказал старик, – что он приказывает тебе?
Фигура Мельцони сейчас же приняла подобострастный вид, и он, как будто слушая, склонил голову.
– Синьор Консальви говорит мне, чтобы я поторопил братьев.
– Каких братьев? – перебил его Ветус.
– Иезуитов, – ответил Мельцони, словно недовольный тем, что его перебили, – чтобы я поторопил братьев в Петербурге начать действовать. Он говорил мне, что я увижусь с ними в кондитерской Гидля. Пора им действовать, пора им свергнуть митрополита Сестренцевича и самим занять его место.
– Теперь ты в Петербурге, в кондитерской Гидля, – проговорил Ветус, – окружен своими и рассказал им о приказании. Что отвечает Грубер?
– Он отвечает, что и сам рад бы действовать, но еще не время.
– Знает ли отец Грубер, что митрополит Сестренцевич – вполне достойный человек, что это истинный пастырь своего стада, который заботится о нем, не ищет для себя никакой выгоды и не хочет вмешиваться в мирские дела, заботясь лишь о духовных?
Мельцони, видимо, делал усилие повиноваться.
– Да, знает, – наконец проговорил он.
– А остальные его братья?
– Тоже, – ответил Мельцони.
– И все-таки хотят зла этому человеку, хотят уничтожить его?
– Да.
– Чего же ищут они для себя?
Мельцони сделал новое усилие и с большим трудом проговорил:
– Власти!
Литта сидел, закрыв лицо рукою, изредка только отымая ее и взглядывая пред собою.
Ему казалось ужасным, непростительным то, что он узнавал теперь.
– Они ищут этой власти для себя, пользуясь без разбора всеми средствами? – продолжал спрашивать Ветус.
– Всеми средствами, – повторил Мельцони. Старик грустно покачал головою.
– А где теперь Грубер? – спросил он вдруг. Мельцони не ответил.
– Посмотри вокруг этого дома… на дворе никого нет?
– Никого.
– Иди дальше.
Мельцони стал покачиваться, как будто со вниманием высматривал что-нибудь, и наконец широко улыбнулся.
– Вижу! – сказал он.
– Где же он?
– Тут, вблизи ворот, стоит в тени. Он закутался. Ему холодно.
– Хорошо, – сказал Ветус, – ты выйдешь другою дорогою: из зала повернешь направо, пойдешь по коридору и спустишься в сад; там есть тропинка; по ней выберешься далеко от того места, где стоит Грубер. Слышишь?
– Да! – сказал Мельцони и повернулся.
– Погоди! Ты придешь домой, ляжешь в постель и проснешься завтра, совершенно забыв, что с тобою было сегодня вечером, и завтра же принесешь продавать подаренную тебе табакерку бриллиантщику Шульцу, в Морскую, и спросишь за нее тысячу рублей. Ступай!
Мельцони опять повернулся и пошел тем же размеренным шагом, каким появился здесь.
– Любопытный субъект! – кивнул ему вслед Лабзин, обращаясь к старику.
– Да, – ответил тот, – он легко поддается; впрочем, я давно уже знаю свою силу над ним.
VI. Исповедь баронессы
Исповедовавшихся было немного. Баронесса Канних ждала своей очереди. На ней было простое черное платье, густая вуаль скрывала ее лицо. Приехавшие раньше ее и раньше попавшие в очередь, друг за другом, в строгой тишине и торжественности вставали со своих мест и по знаку церковника скрывались за колоннами, где помещалось место исповедника.
Скамья, на которой сидела баронесса, мало-помалу, таким образом, пустела с правой стороны и наполнялась вновь прибывающими слева.
Благолепие храма, полумрак, легкая прохлада, царившие тут, и запах сырости, смешанный с запахом осевшего дыма ладана, производили особенное, размягчающее душу впечатление.
Баронесса старалась сосредоточиться и думать о своем главном грехе – обуревающей ее страсти, не встретившей взаимности и потому готовой перейти и в гнев, и в ревность. Она чувствовала себя оскорбленною, уничтоженною и потому вдвойне несчастною.
Грустно сидела она, опустив голову, в ожидании, пока церковник сделает ей знак идти. Вот наконец он кивнул головою. Баронесса почему-то вздрогнула, кровь бросилась ей в лицо, и она быстрыми, частыми шагами пошла за колонны.
Тут сумрак сделался как будто гуще. Канних опустилась на колена на покатую скамеечку у маленького решетчатого оконца, проделанного в закрытом, огороженном месте для исповедника. Кто-то кашлял там негромким, сдерживаемым кашлем. Сквозь этот кашель охрипший голос предложил ей покаяться.
– Главный грех мой, – начала баронесса давно уже обдуманные и несколько раз повторенные себе слова, – главный грех мой в том, что я люблю, – она запнулась, – да, я люблю, – повторила она, – и боюсь, что эта любовь преступна… я – вдова.
– Любовь твоя разделена? – спросил голос.
– Нет. И в этом вся беда моя. Мало того, она отвергнута.
– Почему?
– Не знаю и боюсь думать об этом. Она замолчала, опустив голову.
За решеткой тоже молчали.
– Он ссылался на свои обеты? – вдруг послышался голос оттуда. – Он говорил, что не свободен?
Баронесса почувствовала, как невольный трепет охватывает все ее тело. Прежде чем она сказала еще что-нибудь, там уже знали всю суть ее исповеди и указывали прямо на любимого ею человека?
– Вы все уже знаете, отец! – произнесла она почти испуганно.
То настроение, в котором находилась она, готовясь к исповеди, давало теперь себя знать, и исповедник показался ей наделенным свыше даром прозрения.
– Да, – подхватила она в приливе какого-то вдохновения, – да, он связан обетом, но не на него ссылался он. Он просто прогнал меня, дерзновенно попрал ногами мое чувство. .
Она старалась говорить возвышенно, чтобы идти в тон с торжественностью минуты, и начала прерывающимся голосом подробно рассказывать все происшедшее на балу в Эрмитаже, не щадя ни себя, ни Литты.
– Да, ты виновата, – послышалось в ответ, когда она кончила, – ты виновата, но он еще виновнее тебя… Он не должен был идти за тобою, не должен был вовлекать твою слабость в грех.
– О, я знаю свою вину и раскаиваюсь в ней! – вздохнула баронесса. – Но простится ли она мне?
– Смотря по тому, что ты намерена будешь делать теперь.
– Бросить, бросить навсегда, очиститься, – заторопилась Канних, делая даже руками движение, будто стряхивая с себя что-нибудь.
– И простишь ему, и оставишь безнаказанным его оскорбление?
Баронесса задумалась. Она боялась ответить, боялась солгать.
– Тяжело думать об этом, тяжело говорить, – произнесла она наконец и робко, как бы ища возражения, добавила: – Разве нужно простить, разве это было бы справедливо?
– Это было бы малодушно и непростительно, – произнес голос.
Баронесса вздохнула свободнее.
– Он виноват в своем грехе и должен понести кару за него, – продолжал голос. – И ты должна быть орудием ее. Такова воля справедливости. Твоя вина до тех пор не искупится, пока ты не покроешь ее его наказанием.
– Так что же делать? – с отчаянием шепотом произнесла баронесса.
– Прежде всего – прервать с ним всякие сношения.
– О, всякие!.. – подтвердила баронесса.
– У него есть твои письма?
– Пустые записки… ничего не значащие.
– Всякая записка есть документ, и всякий документ значит очень много. Тебе нужно вернуть их назад.
– А если он скажет, что у него их уже нет, что он уничтожил их?
– Тем хуже для него.
– Но как же я получу их?
– Для этого прибегни к власти.
– К чьей? К какой власти? – не поняла баронесса.
– Поищи, подумай! У него, вероятно, есть враги из сильных мира сего… обратись к ним.
Глаза баронессы засветились сдержанною радостью. Ей казалось, что ее выводят на истинный путь.
– Но тогда как же я сама? – запнулась она. – Ведь и о себе я должна писать.
Но в ответ ей из-за решетки торжественно прозвучал голос:
– В этом будет твое искупление!
– В этом… искупление, – повторила баронесса. – Но как же все-таки. .
– Можно так написать, что ты будешь выгорожена, насколько возможно. Это, конечно, зависит от тебя.
Баронесса задумалась. Она уже готова была не пощадить себя для благого, как она думала, дела.
– Но к кому же обратиться? – спросила она вновь.
– Подумай, поищи… кто может иметь вражду против него и помог бы тебе, кто, наконец, сильнее всех в Петербурге…
«Зубов!» – мелькнуло у баронессы, и она, точно осененная свыше, тихо прошептала:
– Зубов, князь Платон…
– Небо внушило тебе это имя! – послышался ответ. Баронесса вышла от исповеди, обливаясь слезами, но они были для нее и радостны, и жутки вместе с тем, и, сев уже в карету, она долго обдумывала все то же самое и на все лады переворачивала подсказанное ей средство отмстить графу Литте.
В самом деле, для нее было лестно раскрытие якобы легкой интриги с придворным человеком – это служило доказательством ее сношений с высшими сферами. При тогдашней легкости нравов для молодой вдовы это было даже лестно – тут не было ничего предосудительного. К тому же все дело будет сохранено в тайне. О ней заговорят в этих высших сферах, но заговорят также и о нем – вот какой он смиренник, этот монах в рыцарском одеянии! Хорошо! У него там какие-то переписки с дамами!.. Словом, Зубов, вероятно, воспользуется этим, как должно, и выгородит ее.
VII. Цель и средства
Грубер обещал на собрании иезуитов, что один из членов ордена будет послан им к дому графа Ожецкого проследить, кто явится туда на заседание иллюминатов; но он никому не доверил этой важной обязанности и сам продежурил все время в тумане и сырости петербургской весны. Он вернулся домой после этого дежурства простуженным; голос его охрип, у него сделались насморк и кашель. Это было вдвойне досадно, потому что из наблюдений ничего не вышло. Он ничего не узнал или, пожалуй, узнал многое, хотя вовсе не то, что было ему нужно.
Он видел из своего темного угла за воротами, как пришел в дом Литта и как его туда впустили. Но, кроме графа, никто не входил. Грубер долго ждал. Наконец показалась какая-то фигура, и, когда она вошла в освещенную площадь двора, иезуит узнал Мельцони. В первую минуту он хотел остановить его, но сейчас же решил, что остановит итальянца потом, когда тот выйдет назад, и что это будет гораздо лучше. Теперь от Мельцони ничего нельзя было бы добиться, а тогда он будет пойман на месте.
И вот Грубер ждал, ждал долго и терпеливо, но ни Мельцони, ни Литта не вышли из дома, и, кроме них, никто не входил туда.
Далеко за полночь иезуит решил обойти дом и, рискуя быть пойманным, пробрался в сад сквозь развалившийся забор, провалился несколько раз в снег и нашел наконец тропинку, которая вывела его к городу, далеко от самого дома. Тогда Грубер понял все: те, за которыми он следил, ускользнули от него по этой тропинке.
Он вернулся домой совсем больной, в отчаянии, что не узнал то, что его интересовало.
Он сидел с обвязанным горлом и с горчичником на спине, когда ему доложили о приходе Абрама. Грубер велел впустить его, поспешно снял свой горчичник и, приведя в порядок свой туалет, сел спиной к двери.
Абрам вошел и поклонился. Иезуит даже не обернулся в его сторону, но остался сидеть, как был, не удостаивая Абрама взглядом. Он всегда говорил с ним, отвернувшись и шепча в это время молитвы.
– Вы звали меня? – спросил Абрам.
– Да, я звал тебя… Пять расписок графа Литты у меня; где шестая?
Абрам весь как-то съежился, скорчился и ответил не сразу.
– Все расписки у вас, – проговорил он наконец, – по всем деньгам, что вы давали…
– Знаю, но ты взял еще расписку вместо отсрочки. Граф Литта подписал тебе еще три тысячи.
Абрам сжал губы и съежился еще больше.
– И кто вам это сказал? И пусть у того глаза лопнут!.. И откуда у меня еще расписка? И все у вас… все пять.
– Я тебя спрашиваю, где шестая? – спокойно произнес Грубер, причем по-прежнему, не удостаивая обернуться, смотрел пред собою и шептал губами.
– Да нет же у меня… нет у меня! На какие ж деньги? – заговорил снова Абрам.
Иезуит вздохнул и, будто желая обласкать своего собеседника, тихо ответил ему:
– Послушай, если ты сейчас не отдашь шестой записки, завтра же тебя не будет не только в Петербурге, но и на свете, может быть; ты знаешь – моего слова довольно, чтобы сгноить тебя в тюрьме.
– И разве я не служу вам? – вдруг слезливым голосом подхватил Абрам. – Разве я не служу вам, как пес верный…
служу…
– Если ты упрямишься, – пожал плечами Грубер, – хорошо, ступай… но пеняй потом на себя.
Абрам переступил с ноги на ногу. Он чувствовал, что нужно было подчиниться. Он весь был во власти иезуита.
– Господин аббат, – сказал он, – за что же это?.. Разве вам мало того? Там ведь на двойную сумму и с процентом.
Иезуит молчал.
– Господин аббат!
Грубер молчал, словно забыл о его существовании.
Робость и страх мелькнули в выражении лица Абрама. Он как бы машинально полез в шапку, вынул оттуда тряпицу и, развернув ее, достал расписку, склонившись, приблизился к столику у кресла Грубера, положил документ и отскочил назад, к двери.
Иезуит не шелохнулся. Абрам ждал.
– Господин аббат, – решился он наконец заговорить, – я вернул документ… я положил его.
Ответа все еще не было.
Абрам, все более и более теряясь, жалобно забормотал что-то, оправдываясь и прося прощения. Лицо его стало бледнее обыкновенного, он упоминал про жену, детей.
– Хорошо, – наконец проговорил Грубер, – ступай, возьми свою долю на камине!
Абрам кинулся к камину, схватил лежавшую там, завернутую в бумагу стопку золотых и скрылся за дверью.
Как только он ушел, Грубер надел перчатки, осторожно двумя пальцами взял оставленную Абрамом записку и стал окуривать ее ладаном, а затем приказал вошедшему на его зов слуге:
– Карету мне!
Когда ему подали карету и он, закутавшись потеплее, сел в нее, кучер спросил, куда ехать.
– К графу Литте, – приказал Грубер.
Литта остался на несколько дней в столице ввиду изменившихся своих обстоятельств и выписал из Гатчины камердинера. В полученных из-за границы иностранных газетах было уже напечатано о декрете Французской республики. Литта написал на Мальту о своем положении, надеясь единственно на помощь оттуда, хотя знал, что в то время орден располагал очень скудными средствами.
Литта сидел целыми днями у себя, и Грубер застал его дома.
– Не принимать, сказать, что я болен, – приказал граф камердинеру, но тот, несмотря на это приказание, все-таки ввел отца Грубера и на сердитый взгляд Литты ответил испуганным, недоумевающим взглядом, как будто не понял приказания графа.
– Ну вот, я приехал поговорить с вами, хотя совсем нездоров… простудился, – сказал Грубер, кашляя и оглядываясь с приемами домашнего, своего человека, которые он удивительно умел усваивать себе, куда бы он ни попадал.
Литта невольно догадался, где мог простудиться Грубер, и насмешливая улыбка мелькнула у него на губах. Иезуит принял эту улыбку за приветствие.
– Что же, граф, – начал он снова, – были вы тогда в этом доме? Узнали, увидели?
Литта понял, что иезуит приехал выпытывать у него, и прямо и откровенно ответил ему:
– Напрасно будете стараться; от меня вы ничего не узнаете.
– Неужели вы поддались их соблазну? – воскликнул Грубер, всплеснув руками и поднимая глаза к небу.
Он так рассчитывал на свое красноречие и на искусство убеждать всякого в том, в чем ему нужно было, что явился к Литте, почти уверенный в возможности снова привлечь его на свою сторону. Он представлял себе графа прямым, добродушным человеком, привыкшим к войне и опасностям, но не способным вести долгий и хитрый разговор, в котором (Грубер знал это по опыту) не было соперников у отцов-иезуитов. Если бы Литта даже и заупрямился, все-таки можно было раздражить, рассердить его и в минуту вспышки заставить проговориться.
Но, как ни хлопотал Грубер, все его старания оказались напрасны. Литта на этот раз не поддавался ему и отвечал ловко, спокойно и смело на все подвохи и ухищрения. Напрасно Грубер льстил ему, напрасно старался выставить своих противников в самом худшем свете и пугал громами небесными – ничего не помогло. Грубер бился часа два без успеха и начал в первый раз, может быть, в жизни терять терпение и раскаиваться, что слишком понадеялся на свои силы.
«Я заставлю тебя говорить!» – подумал он, стискивая зубы и зло посмотрев на Литту, и вдруг, резко повернув разговор, вынул из кармана шесть расписок графа и, развернув их, стал разглаживать рукою на столе.
Литта удивился, откуда они попали к нему.
– Я к вам заехал, главным образом, по делу, – начал Грубер, не давая ему заговорить, – один бедный человек просил меня справиться насчет вашего долга ему. Ведь это ваши расписки?
– Да, мои, – ответил Литта. – Но почему они у вас?
– Наша обязанность помогать бедным! – вздохнул Грубер. – Тот человек просил меня, и я взялся. Где ж ему тягаться с вами, граф!
– Да что ж ему тягаться! Он получит деньги по распискам, чего бы это мне ни стоило, и дело с концом.
– Да, но когда? – задумчиво спросил Грубер.
– Когда… когда? – замялся Литта. – Постараюсь поскорее.
– Но он не может ждать.
– Как не может ждать, когда он еще вчера взял у меня дополнительную расписку за отсрочку.
Грубер пожал плечами.
– Я тут ничего не могу поделать, но, разумеется, обязан помочь бедному человеку, – повторил он.
– Да поймите же, ведь это гадость с его стороны. Ведь тут все расписки на двойную сумму… я взял вдвое меньше.
– Это вы все скажете на суде, – остановил его Грубер.
– Как на суде? Разве он хочет взыскивать судом?
– Да, если вы не внесете мне всей суммы сполна сегодня же, расписки все без срока.
Литта прошелся несколько раз по комнате. Дорого бы он дал теперь, чтобы иметь возможность вынуть и бросить эти деньги, которые так требовали с него!
– В настоящую минуту у меня нет денег, – проговорил он наконец, подходя к Груберу.
– В таком случае вы меня извините, граф, – ответил тот, – я принужден буду обратиться в суд.
– Если я без суда не могу заплатить в данную минуту, то что ж вы этим выиграете? И потом, я говорю вам – подождите…
– Неисправных должников кредитор может посадить…
– Что?
– В тюрьму, – добавил Грубер. – Этот Абрам очень стеснен.
Литта опять заходил по комнате. То, что говорил иезуит, казалось ужасно, но правдоподобно. Можно было рассердиться, но ничего нельзя было сказать против. Наконец Литта овладел собою.
– В тюрьму! – протянул он только и, сощурив глаза, посмотрел в упор на Грубера.
– Есть одна возможность, – снова заговорил иезуит. – Я знаю, заплатить вы не можете, потому что ваше состояние потеряно; но если вы захотите… если вы станете снова нашим другом, таким другом, что не будете иметь тайн от нас, тогда с этими расписками можно будет кончить очень легко.
Литта ничего не сказал, он так взглянул на Грубера, что тот сейчас же смолк и потом рассыпался хихикающим тихим смехом.
– Это, конечно, шутка, я шучу, граф, – подхватил он и, вдруг снова сделавшись серьезным, добавил: – А впрочем, от шутки до дела недалеко; часто и из шутки дело выходит.
Граф смотрел на него с таким выражением, которое яснее слов говорило, что он ждет только, когда Грубер уйдет, и что сам он уже с ним разговаривать не станет.








