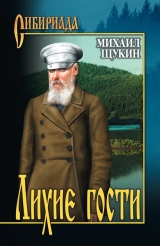
Текст книги "Лихие гости"
Автор книги: Михаил Щукин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
3
Въезд в Белоярск начинался со Вшивой горки. Не меньше как на версту тянулся пологий подъем, закисавший в дождливую погоду непролазной грязью. Сколько здесь ступиц и тележных колес было сломано, сколько оглобель треснуло, сколько крепких слов в сердцах сказано – никому не ведомо. Но с прошлого лета подъем на Вшивую преобразился – его замостили камнем. Городской голова, Илья Васильевич Буранов, тряхнул своей личной мошной – с двух-то золотых приисков она тяжелая, нанял мастеров, и теперь телеги залетали на горку, как птички, только колеса о камни постукивали. Также и Артемий Семеныч заехал, дивясь столь необычной перемене и вспоминая свой последний приезд в Белоярск, прошлой осенью, когда он едва-едва пробрался в город, помогая коню и подталкивая телегу. В грязи тогда увазгался по самые уши. А нынче – красота. По плоским камням хоть на боку катись.
Белоярск со Вшивой горки открывался центральным Александровским проспектом, который застроен был богатыми домами, огороженными друг от друга высокими кирпичными оградами. Во всем здесь виделся не просто крепкий достаток, а настоящее богатство: и в ажурной деревянной резьбе на окнах, и в просторной посадке домов, и в железных крышах с водостоками, и в широких воротах, в которые можно было загонять по несколько телег сразу. Злые языки называли проспект Сиротским переулком. Ну что делать, злые языки везде имеются.
«Богато живут, богато…» – Артемий Семеныч смотрел по сторонам и причмокивал языком: он и сам был не прочь обзавестись такими хоромами, да только доходы не позволяли.
За спиной у него, укутанная в теплую шаль Агафьи Ивановны, сидела Луиза, молчала и только тревожно озиралась по сторонам. Артемий Семеныч, время от времени оборачиваясь, с жалостью поглядывал на нее, вздыхал: «Ну и угораздило тебя, девка, в такую историю попасть, нахлебалась страху…» А дальше он затаенно думал о том, что неплохо бы с господина Луканина хоть какую-нибудь денежку взять – что он, за просто так с девкой этой столько времени валандается… Ее поить-кормить надо было, до города доставлять…
Александровский проспект, заканчиваясь, упирался в Вознесенскую гору, на которой красовался храм, тоже Вознесенский, а дальше, за горой, возвышался луканинский дом-дворец. К нему и подкатил Артемий Семеныч, прямо к железной ограде, сбоку которой стояла просторная будка, а в ней сидел толстощекий парень с узкими глазками и старательно уминал большущий кусок рыбного пирога. На просьбу Артемия Семеныча позвать кого-нибудь из хозяев парень не отозвался, только выплюнул в ладонь рыбьи кости и продолжил равномерно, как корова, жевать.
– Ты, дорогуша, беги скорей, пока я не осерчал, – нахмурился Артемий Семеныч, – хозяин точно ухи тебе надерет, если не вовремя доложишь…
Парень сморщился, перестал жевать, сердито фыркнул, но поднялся с насиженного места и ушел в ограду.
Скоро вышел Екимыч, быстро глянул на Артемия Семеныча, на Луизу, строго спросил:
– По какой надобности?
Артемий Семеныч обстоятельно рассказал.
Не прошло и нескольких минут, как с высокого крыльца торопливо спустилась Ксения Евграфовна, быстро что-то сказала Луизе по-французски, приобняла ее и повела в дом. На верхней ступеньке крыльца обернулась:
– Екимыч, миленький, определи человека, распорядись, чтобы накормили, я с ним после поговорю.
– Ступай за мной, – Екимыч, не оглядываясь, направился к конюшне и на ходу добавил: – Темнеет нынче рано, в ночь тебе ехать никакого резону нет – ставь коня, поешь, переночуешь, а завтра с утречка и тронешься.
Артемий Семеныч, управившись с конем и чувствуя, что проголодался, поспешил следом за Екимычем, который повел его в отдельно стоящую просторную сторожку. По-хозяйски открыв дверь, Екимыч властно позвал:
– Анна, ты где?
– Здесь я, здесь, проходите, милости просим! – донесся в ответ приветливый, звонкий голос, услышав который, Артемий Семеныч сначала опешил и остановился, а затем, по-конски всхрапнув носом, ринулся в открытые двери, отпихнув Екимыча.
Стояла посреди сторожки и радушно улыбалась ему навстречу любимая дочь Анна.
Сердце Артемия Семеныча сжалось, как кулак, от невыносимой обиды и боли. Это какую же подколодную змеищу он на своей груди вынянчил, прощая ей все вольности и проказы! Строжась над парнями и не давая им спуску за любую шалость, дочу свою он любил и холил, ни в чем она отказа в родительском дому не знала. А в благодарность отцу родному бухнула позор на всю деревню! И долго еще этот позор не изжить Артемию Семенычу, ох, долго! А самое препохабное – с кем убежала?! С суразенком-нищебродом! В чужих людях, в услуженье обретается!
– Тятя… – только и смогла едва различимым вздохом вымолвить Анна. Румяное лицо ее побелело, а дивной красоты глаза остановились и потухли, словно застыли, прихваченные морозом.
– Не тятя я тебе, сучка подзаборная! – Кнут по старой своей привычке Артемий Семеныч нигде не оставлял, пока до дома не доберется и в сенях на особый гвоздь не повесит, он и теперь в руке у него был – взвился, из тяжелой сыромятины сплетенный, и перепоясал Анну по полному стану, будто каленым железом опалил. Анна вскрикнула, качнулась от боли и, не устояв на ногах, рухнула на колени. Кнут взметнулся еще раз и разорвал на покатых плечах голубенькую кофточку.
– Сдурел, окаянный! Не трожь бабенку! – Екимыч схватил Артемия Семеныча за руку, пытаясь вырвать у него кнут, но получил такой крепкий тычок в грудь, что загремел через порог и остался лежать, ударившись о ступеньку. Не шевелился. Только стертые подковки на сапожных каблуках весело поблескивали. Артемий Семеныч снова вскинул кнут, но опустить его не успел: через Екимыча, через порог махнул одним прыжком Данила, и молодой кулак смачно хлестанул в ухо, – голова у сурового тестя мотнулась на сторону, шапка слетела, и густые кудри встопорщились, словно встали дыбом. Но на ногах устоял, лишь пригнулся, чуть разворачиваясь, и добрый бойцовский удар выхлестнул у Данилы из носа темно-алую бруснику. Дальше тесть и зять схватились намертво, повалились оба и пошли катать друг друга поперек широких половиц.
Оклемался и заголосил Екимыч, призывая на помощь работников, которые тут же и явились, будто сказочные молодцы из сумки, проворные и ухватистые, лишней работой не заморенные. Быстренько растащили драчунов по разным углам, насовали им от души колотушек, затем связали и выволокли на улицу.
– Ты зачем на бабенку налетел? Зачем ее лупить начал? – кричал Екимыч и подступался к Артемию Семенычу, который отворачивался от него, сплевывал на сторону кровяную слюну и тосковал: «Эх, ребят моих нету! Втроем мы бы вязы им посворачивали, мы бы им…»
– Тебя, дурака, спрашиваю! Ты зачем драться полез? – не унимался Екимыч.
– Отстань, поганец! – сердился Артемий Семеныч и снова сплевывал на сторону тягучую красную слюну. – Дочь она моя! Вот с этим суразенком из дома сбежала! Скажи, чтоб развязали меня! Слышишь или нет?
– До-о-чь?! – нараспев переспросил донельзя удивленный Екимыч.
– Девка она гулящая, а не дочь мне! – в отчаянии выкрикнул Артемий Семеныч и злым, сорванным голосом попросил: – Да развяжите меня! Никого больше не трону! Кнут только верните!
– Точно драться не будешь? – уточнил Екимыч.
Артемий Семеныч обреченно кивнул, давая согласие. Его развязали, из сторожки принесли кнут. Он взял его в руки, оглядел, вышагнул правой ногой вперед, словно собирался упасть на колено, и с такой силой жиганул связанного Данилу, сидящего на корточках, что тот мякнул, как котенок, и завалился на бок. Артемий Семеныч круто развернулся и пошел, не слушая несущихся в спину криков Екимыча, прямиком к конюшне. Выехал оттуда, восседая в телеге, как каменная статуя, – даже глазом ни на кого не повел.
– Подожди! – окликнул Екимыч. – с тобой хозяйка поговорить хотела!
Артемий Семеныч не отозвался.
За воротами он обернулся и молча плюнул красной слюной в сторону луканинского дома.
4
Всякий раз, поднимаясь по широкой лестнице к сестре, в ее маленькую светелку, больше похожую на келью монашки, Захар Евграфович испытывал странное чувство: он ожидал, что его встретит прежняя Ксюха – смешливая, порывистая в движениях, бойкая на язык и по-девчоночьи бесконечно счастливая; открывал дверь, видел большой киот с иконами в переднем углу, Библию и Четьи-Минеи на столике, застланном черной скатертью, неярко горящую маленькую лампадку, слышал всегда тихий теперь голос Ксении Евграфовны, одетой в темное платье и в такой же темный платок, и с горечью понимал, что прежняя Ксюха навсегда осталась в прошлом. С тех самых горьких дней, которые перечеркнули несколько лет сестры и брата Луканиных особой, черной меткой. Об этих днях они между собой никогда не говорили и не вспоминали их, но больная зарубка оставалась на сердце и у Захара, и у Ксении. Они это оба понимали и жалели друг друга, как могут жалеть только любящие люди.
Те горькие дни… Нет, лучше не вспоминать, не сейчас… Захар Евграфович открыл двери, и в комнатку-келью сестры вошел, широко улыбаясь, с порога громко спросил:
– Ну и где наша французская дама? А, Ксюша? Дай мне хоть глянуть на нее!
– Нет ее здесь, Захарушка, – Ксения Евграфовна поднялась из-за столика ему навстречу, поправила низко повязанный темный платок и улыбнулась, как она теперь улыбалась, печально и немного испуганно. – Я ее в комнату определила, устроила, пусть сейчас поспит. Бедняжка…
– Чего она рассказывает? Где муж? Господин… как его? Дювалье?
– Страшная история, Захарушка… Я подробно не расспрашивала, пусть она в себя придет. Напали грабители, с мужем их разлучили, Луизу куда-то везли целую ночь, но встретился этот крестьянин и освободил ее. Знаешь, давай лучше так сделаем: расспросим завтра Луизу и крестьянина этого расспросим. Я просила Екимыча, чтобы он его ночевать оставил…
– Нету, Ксюша, нашего крестьянина, он такой сердитый оказался, целый бой устроил, только пушки не гремели. Всем оплеух навешал! Даже Екимычу досталось. А больше всего – Даниле с Анной: это, оказывается, отец ее. Увидел беглую дочь, взыграло ретивое! Он и пошел всех крушить. Ну, мужик! Суров!
– Ты так говоришь, как будто тебе в радость, Захарушка, – в тихом голосе Ксении Евграфовны послышалась укоризна.
– Да что ты, Ксюша, какая радость, нет никакой радости, а мужик мне понравился – крепкий мужик!
– Как же они жить будут, без родительского благословения?
– Ничего, время вылечит, помирятся… – беззаботно махнул рукой Захар Евграфович, – я тебе таких историй два куля могу рассказать. Поругаются, подерутся, а после живут все вместе – водой не разольешь. Ладно, Ксюша, пойду я молодых попроведаю – как они там? А с Луизой завтра разговаривать будем.
Ксения Евграфовна кивнула и ласково погладила брата по щеке. Тот, не оглядываясь, вышел, осторожно прикрыл за собой дверь, и улыбка, светившаяся у него на лице, потухла. Он спустился по лестнице, вышел из дома и направился к сторожке, но вдруг круто развернулся и двинулся в обратную сторону – к конторе.
Агапов, словно зная, что он придет, все еще был в своей каморке, несмотря на поздний час. Катался на коляске вдоль длинного стола, разбирал бумаги и бормотал под нос себе бесконечную песню про ухаря купца, ехавшего на ярмарку. Увидев хозяина, Агапов оборвал песню, развернул коляску и заговорил таким манером, словно они давным-давно ведут разговор и только что оборвали его на полуслове, чтобы передохнуть:
– Я от них весточку получил, от Дубовых. Сообщили, что днями мужичок этот, который Цезаря за Кедровым кряжем видел, у них в ночлежке будет. Готовься, Захар Евграфович…
– Я уже давно готовый. Знаешь, вот сейчас у Ксюши был, глянул – и кулак сам сжимается: не могу ее такой видеть. Привыкнуть пора, а все равно – не могу. Жалко ее – хоть плачь! Я этого Цезаря, если найдем, своими руками на куски порву!
– Не бери печаль на сердце, Захар Евграфович. Найдем мы его, никуда не денется. Да и Ксения Евграфовна оттает – дай срок. Все образуется. А теперь, коли зашел, подпиши мне бумаги.
Захар Евграфович подписал бумаги, которые выложил перед ним Агапов, и снова направился в сторожку, но с полдороги опять вернулся – на этот раз в дом, в свой кабинет. Рывком распахнул дверцу шкафа, достал, роняя на пол книги, серый пакет, перемотанный суровыми нитками, разорвал его и с силой сжал двумя пальцами, так, что побелели ногти, небольшую фотографическую карточку, наклеенную на картон. На карточке, опираясь рукой о резную тумбочку, стояла Ксения Евграфовна, светящаяся радостью, а рядом с ней, по другую сторону тумбочки – молодой, но строгого вида мужчина с аккуратно подбритыми усами, загнутыми на концах тонкими колесиками. За спинами у них красовалось озеро, а по озеру плыла пара лебедей с красиво выгнутыми шеями. Идиллия, да и только. Захар Евграфович осторожно разжал пальцы, и карточка, негромко стукнувшись ребром, упала на стол, перевернулась обратной стороной, и стала видна надпись, сделанная красивым почерком: «Дорогому Захару Евграфовичу от любящей сестры Ксении и Цезаря на долгую и вечную память».
– На долгую и вечную, – вслух повторил Захар Евграфович, сунул карточку в разорванный пакет и забросил его в шкаф, будто серая бумага обжигала ему кожу. Постоял посреди кабинета и вышел, не закрыв за собой двери.
Ранний осенний вечер уже сронил сумерки, и они плотно легли на землю. Быстро густели и наливались чернотой. Самая тоскливая и безрадостная пора в сибирской осени, когда снега еще нет, а земля уже голая и по ней с глухим мышиным шуршаньем ползет нудный и мелкий дождь.
Захар Евграфович постоял под этим дождем, пытаясь избавиться от злости, душившей его, и медленно, не торопясь, пошел к сторожке, до которой он этим вечером никак не мог добраться.
С недавнего времени, как только молодые поселились в сторожке, Захар Евграфович полюбил у них бывать. Тепло и душевно было ему здесь, когда вел он охотничьи разговоры с Данилой, а Анна, подав им чай, садилась в уголок с шитьем или с пряжей. Сам себе не мог объяснить Захар Евграфович – что его сюда тянет, да и не хотел объяснять. Просто приходил и засиживался порой допоздна.
В сторожке горела керосиновая лампа, было светло, и он сразу же увидел заплаканные глаза Анны и разбухший, посиневший нос Данилы.
– Что, ребята, нагнали на вас страху нынче? – прошел ближе к столу, на котором стояла лампа, сел и весело продолжил: – Вы сильно-то не горюйте, образуется. Пошумит ваш тятя, пошумит, да и смирится…
– Не знаете вы его, – вздохнула Анна, – он у нас как камень, его уговорами не проймешь.
– И уговаривать не будем, – сердито буркнул Данила, – много чести… Еще раз на тебя кинется, я ему руки выломаю!
– Даня, ты чего говоришь, ведь он отец мне!
– Такой отец хуже чужого дядьки, – упрямо стоял на своем Данила, который, похоже, не мог смириться, что драка для него закончилась столь бесславно.
– Ладно, ребята, – снова принялся уговаривать их Захар Евграфович, – все наладится. Это я вам обещаю, вот увидите. У меня слово легкое – обязательно сбудется. Я что пришел, Данила… Предлагают мне новую винтовку, даже картинку прислали из оружейного магазина. Хочу тебя с собой взять, когда в губернский город поеду. Посмотрим, приценимся…
– Да какие у них винтовки, Захар Евграфович! – Данила, довольный, что разговор пошел в иную сторону, загорячился: – Они серебром разукрасят от цевья до мушки и деньги дерут, а стрелить из этой игрушки – на три аршина с подбегу заряд не долетит!
– Вот и поглядим, чего они нам всучить желают.
– Только на уступку не идите, пока в стрельбе не проверим – никаких задатков не давайте.
Дальше разговор свернул на заячью охоту, на которую они собирались, как только ляжет первый снег, и затянулся этот разговор надолго – Анна им три раза чай подавала. Сторожку Захар Евграфович покинул уже за полночь.
5
Оставшуюся половину ночи Анна провела почти без сна. Смотрела широко раскрытыми глазами в непроницаемую темноту сторожки и видела разъяренное лицо отца, слышала его крик, думала с тоской, что теперь дорога в родительский дом заперта для нее накрепко. Ни приехать в родную Успенку, ни погостить, ни с матерью обняться, ни с братьями поздороваться. Горько. Но даже и сейчас она не жалела, что бросом все бросила и ушла с Данилой в полную неизвестность. Никого дороже для нее не было. Никого и ничего. Только он, Данила. Как свет в окошке. Она даже вздохнуть боялась, чтобы не разбудить его. А сам Данила, уложив голову на теплую и мягкую руку жены, чуть слышно посвистывал раненым носом, и снился ему дивный сон.
Будто бы он в лодке плывет, по неизвестной ему речке, на которой никогда не бывал, а по берегу, по белому, словно просеянному, песку бежит Анна. Бьется у нее в коленях платье, изорванное в лоскуты, тянет она к нему руки, кричит что-то, но Данила никак не может расслышать. Гребет изо всех сил лопашными веслами, пытается повернуть лодку, чтобы причалить к песчаному берегу, а ничего не получается – тащит его стремительное течение, да так быстро, что от лодки расходится крутая волна. Анна бежит, не отстает, кричит по-прежнему, а он различить ни единого слова не может. И вдруг она ударилась о песок, перевернулась через голову и с разбегу – в воду. Только брызги во все стороны. Крутыми саженками, как мужик, пересекла стремнину, ухватилась за борт и перевалилась в лодку. Подняла голову, и Данила обомлел: косматая, седая старуха улыбалась ему, расшаперивая беззубый рот, тянула зеленые костлявые руки и пыталась ухватить его за колени. «Волхитка!» [12]12
Волхитка – ведьма.
[Закрыть] – Данила выдернул весло из уключины, с размаху шарахнул им старуху по голове, она сникла и прилегла на днище лодки. Данила перевернул ее ногой и обомлел еще раз: Анна лежала перед ним, закинув на излом в кровь разбитую голову. А на берегу, возникнув неизвестно откуда, стоял Артемий Семеныч и хохотал без удержу, уперев руки в бока.
Данила взметнулся и заорал. От крика Анна тоже вскинулась на постели, схватила его за плечи, прижала к себе:
– Ты чего, родной?! Чего случилось?!
Данила помотал головой, сбрасывая остатки сна, со всхлипом втянул в себя воздух и выругался:
– Гадость приснилась!
– Ты расскажи…
Он еще помотал головой и, не желая пересказывать Анне дурной, страшный сон, пробормотал:
– Да я его и не помню толком, одно слово – гадость. Погоди, воды попью.
Холодная вода из деревянной кадушки окончательно прогнала сон. Данила передернул плечами и сел на лавку возле стола, пытаясь понять и уяснить для себя – что за видение ему приблазнилось, какой в нем скрыт смысл? Но никакого объяснения в голову ему не приходило, а задумываться над непонятным Данила не любил. Ему нравилось, когда все было просто и ясно. Как на охоте: вот – ты, а вот – зверь. Кто кого перехитрит… А сон пугал как раз непонятностью, скрытым смыслом, и Данила решил его забыть. Ну, приснилось и приснилось… Он вскочил с лавки, будто его подкинули, в один скачок допрыгнул до кровати и подмял под себя мягкую и теплую Анну. Она только и успела вымолвить:
– Вставать уж надо, Даня… Мне…
И – не договорила, задышала жарко и часто.
А после, будто и не было бессонной ночи, вспорхнула, умылась, причесалась наскоро, накинула на себя теплую шаль и побежала на свою службу, на которую определил ее строгий Екимыч – Анна трудилась на общей кухне, где хозяйничал повар Николай Васильевич Миловидов. Из-за фамилии, а еще за необычный нрав все называли его Коля-милый.
Кухня – огромная изба, срубленная из толстых бревен – стояла отдельно от всех иных построек, и в ее широких окнах уже теплился желтоватый свет. Значит, Коля-милый на своем месте, ждет помощниц. Анна толкнула забухшую от влаги дверь, перешагнула через порог, скинула шаль и огляделась. Коля-милый, как обычно, сидел на своем законном месте, за маленьким столиком в углу, и раскладывал пасьянс. Колода карт была у него старая и разлохмаченная по краям, но Коля-милый ее не менял: считал, что чем старее карты, тем они крепче привязываются к хозяину и никогда его не подводят, выпадают так, как ему угодно. Каждое утро, приходя на кухню раньше всех, он начинал с пасьянса, и, если он у него сходился, Коля-милый встречал новый день в добром расположении духа и почти не кричал на своих помощниц – двух толстых и неповоротливых бабенок, до того похожих друг на друга, что их принимали за сестер, хотя они были совершенно чужими. У них даже имена были схожие – Анисья и Апросинья. К Анне отношение у Коли-милого с первого же дня проявилось особенное, можно сказать, отеческое. Он не уставал ее хвалить за проворность и понятливость, да и то сказать – старалась Анна на совесть, летала по кухне, проворная на ногу, как птичка, и любое дело в руках у нее горело.
– Здравствуй, Аннушка, здравствуй, моя хорошая! – приветливо отозвался Коля-милый, собрал со столика карты в колоду и сунул их в ящичек, спросил: – А коровы наши толстомясые еще спать изволят?
Будто услышав этот вопрос, явились Анисья и Апросинья, тяжело перевалились через порог, отпыхались и принялись затоплять печи. Коля-милый поднялся из-за столика, потянулся в свое удовольствие, так что хруст пошел, и весело гаркнул:
– Навались, красавицы! Раздайся грязь – дерьмо плывет!
И закипела работа.
Чугуны, ухваты, сковородники, ножи, терки, поварешки – все пришло в движение, загремело и застучало. Сама кухня наполнилась жаром и запахами, один другого соблазнительней для живота. Плиты докрасна раскалились. На них варилось, жарилось, парилось, пыхтело и булькало. Анисья, Апросинья и Анна очумело метались по кухне, лица у них стали красными, как после бани, а Коля-милый только покрикивал:
– Живей крутись! На одной ножке!
Сам он, натянув на лысеющую седую голову белую тряпицу с четырьмя узелками на концах, двигался неспешно и степенно, но руки у него мелькали так, что в глазах рябило. Коля-милый никогда ничего не взвешивал, не мерил – все строгал и сыпал на глазок, и никогда у него не было осечки, всегда – тика в тику. «Много будешь думать – варево испортишь, – говорил он и, подумав, всегда добавлял: – Кантарь [13]13
Кантарь – весы.
[Закрыть]для повара – все равно, что костыль для безногого: хромать хромает, а бежать не может».
Мудреный он был человек, Николай Васильевич Миловидов, иногда такое мог сказать, что Анисья и Апросинья только хлопали глазами и в ум никак не могли взять: о чем толкует?
Вдоль глухой стены стоял в кухне длинный дощатый стол, за который усаживались в один момент два десятка мужиков – горластые, прожорливые, успевшие с утра поработать и промяться. Только успевай подтаскивать – все сметают подчистую, еще и припрашивают, когда не хватит. Ели луканинские работники плотно, основательно, будто важную и нужную работу исполняли – день-то впереди длинный, до ужина еще далеко. Кормили их за хозяйский счет два раза в день, а вечером, кто пожелает, пили чай, приходя на кухню, но уже со своими коврижками. Для хозяев Коля-милый готовил отдельно и самолично относил приготовленные блюда в дом, никому столь важное дело не доверяя.
Работники наелись, ушли, оставив после себя кисловатый запах сена, навоза и конской упряжи. Анна быстренько убрала со стола посуду, перемыла ее и присела, переводя дух, на лавку. Рядом тяжело плюхнулись Анисья и Апросинья. Присел за своим столиком и Коля-милый, стащил с головы белую тряпицу и долго утирал толстое, широкое лицо с крупным мясистым носом и маленькими, почти заплывшими поросячьими глазками. Утерся, сунул тряпицу в ящичек, где лежали у него карты, и скомандовал:
– Ставь самовар, Аннушка, пора и нам о собственном чреве позаботиться.
Анна выставила на маленький столик самовар, сахарницу, чашки, нарезала большими ломтями свежий хлеб, и все принялись чаевничать. Коля-милый пришлепывал толстыми губами от удовольствия, жмурился, но вдруг пристукнул донышком чашки о столешницу и строгим голосом спросил у Анисьи и Апросиньи:
– А вы знаете, курицы, какая именитая дата сегодня на календаре?
Те переглянулись, ничего не понимая, в один голос повинились:
– Не ведаем, батюшка.
– Не ве-е-даем, – передразнил их Коля-милый, – а должны ведать, знать и чествовать! Два года сегодня, как я вашу глухомань своим приездом осчастливил. Все оставил, сюда прибыл. Шутка ли! Николай Миловидов! По всей Москве гремел! Меня в любом приличном заведении знали, даже в самом Купеческом клубе. Да-с! В Купеческом клубе!
Коля-милый помолчал, пошлепал губами и, горделиво вскинув голову, закатил глаза в потолок, словно увидел там живописные картины своей прошлой жизни.
Про Москву и про Купеческий клуб он не врал. Служил Николай Васильевич Миловидов в этом клубе, известном не только по Москве, но и по всей России. Со всех концов империи бывают там богатые, деловые люди. Народ серьезный, всякие виды и чудеса видавший, и удивить такой народ знатным кушаньем, чтобы довольными остались, – это тебе не селянку в паршивом кабаке замутить. Тут особый подход требуется, чтобы запела душа и развернулась, как гармонь, чтобы возликовала она и взлетела – вот тогда и кушанье явится. Такое, что самого искушенного и донельзя избалованного в еде человека за уши от тарелки не оттащить.
Николай Васильевич такие кушанья варить и стряпать умел. И в Москве о нем действительно знали.
Но был у него наравне с поварским талантом крупный изъян: время от времени шибко он запивал – с душой, с чувством, отдаваясь пагубной страсти всем своим существом, как и на кухне, когда варил, парил и стряпал.
Последний московский запой окончился для Николая Васильевича Миловидова очень плачевно. Полностью приготовив обед – закуски и горячие блюда уже в зал унесли – Николай Васильевич ни с того ни с сего, словно его бешеная муха укусила, набухал немеряно во все сладкие блюда горчицы и перца. Да не просто так набухал – сверху насыпал-наляпал, а с изяществом: упрятал острую приправу внутри кушаний столь старательно, что на виду ни одной перчинки не осталось. Берет мамзеля розочку воздушную кремовую, надкусывает – и глаза у нее застывают от ужаса, а в раскрытом ротике огонь пылает…
Зачем и по какой причине Николай Васильевич такую штуку проделал – он и сам, горемыка, не знал, а потому и другим объяснить не мог. На следующий день его вышибли со службы без всякого расчета. В чем был, в том и остался. Когда протрезвел, сунулся по другим заведениям на службу наниматься, а ему – отлуп. Большой город Москва, но слухи здесь проносятся скорее, чем в маленькой деревне. Не берут Николая Васильевича Миловидова в приличные заведения, и – баста! А в кабаки, где труба пониже и дым пожиже и где его приняли бы с удовольствием, он сам не желал идти: гордыня ноги крепче веревки связывала. Дожился – до края. У того же Купеческого клуба стоял и милостыню на прокорм просил. Здесь его Захар Евграфович и увидел случайно, из жалости сыпнул мелочи в ладонь, спросил из любопытства: какая нужда выкинула ради Христа подаяние собирать? Николай Васильевич, до слез тронутый чужим вниманием, поведал ему без утайки свою горькую историю. Захар Евграфович велел ему на следующий день явиться в гостиницу. Николай Васильевич явился. На предложение ехать в далекий и неведомый Белоярск согласился без раздумий и даже поклялся, перекрестясь, что ни одной капли зеленого вина, от которого все несчастья в жизни случаются, больше в рот никогда не возьмет.
Но дорога от Москвы до Белоярска долгая, ухабистая, и клятвенное обещание, пока ехали, неведомым образом растряслось. Забылось. Три-четыре месяца, а то и полгода Николай Васильевич находился в полной трезвости, как светлое стеклышко, но вдруг, без всякой видимой причины, слетал с катушек и, вздымая над головой недопитый мерзавчик, громовым голосом вопрошал Анисью и Апросинью:
– Что есть еда для человека? Отвечайте, курицы мокрые, когда вас спрашивают!
– Не ведаем, батюшка, – невнятно бормотали бабенки, пугаясь громового голоса Коли-милого, который на милого, пребывая в затяжном угаре, совсем не походил – грозен! Того и гляди, оплеухи начнет развешивать.
– Что есть еда для человека? – снова вопрошал Коля-милый, и снова, не дождавшись ответа, объяснял: – Еда для человека есть высшее наслаждение. Кто умеет испытывать это наслаждение, тот является высшим человеком! А кто жрет, как свинья из корыта, лишь бы требуху набить, тот и в жизни своей является той же самой свиньей, с одной лишь разницей: не хрюкает, а умеет говорить. Понимаете меня, курицы?!
Анисья и Апросинья ничего из таких витиеватых речей не понимали, но кивали послушно и терпеливо ждали, когда у Коли-милого иссякнут силы. Обычно это происходило так: он осекался на полуслове, закрывал глаза и медленно начинал оседать, пока не достигал задним местом лавки. Достигнув, откидывался к стене и мгновенно засыпал, продолжая вздымать над собой в полусогнутой руке недопитый мерзавчик.
В последний раз в нынешнем году загулял Коля-милый накануне Троицы, а на саму Троицу Захар Евграфович уже пригласил гостей на праздничный обед. Что делать? И тут кто-то вспомнил, что Коля-милый боится до полного ужаса Мишки и Машки. Если он по случаю оказывался во дворе, а зверей в это время выводили из клетки, Коля-милый улепетывал с невиданным проворством на кухню, запирался там на все запоры и не открывал дверь до тех пор, пока сам Екимыч не сообщал ему, что медведи заперты в клетке и можно выходить на свободу. Захар Евграфович долго не раздумывал: велел срочно сделать еще одну клетку, поставить ее рядом с медвежьей и посадить туда Колю-милого. Что и было за полдня исполнено. Просидев ночь рядом с медведями, Коля-милый вышел наутро из клетки трезвым и молчаливым. Мотня его штанов была подозрительно темной, будто он водой облился.
– В следующий раз, – грозился Захар Евграфович, – я тебя прямо к медведям запру!
До сегодняшнего дня такой надобности не возникало.
А обед на Троицу Коля-милый приготовил столь высшего разряда, что гости Захара Евграфовича вспоминали его и восхищались еще долго.
– Никак скучаете по Москве-то, батюшка? – льстивым голосом спросила Анисья.
– Бывает, – важно ответил Коля-милый, – бывает, что явится тоска по прежней жизни, вспомнишь золотые денечки… Да-с! Я ведь по всякому ремеслу гораздый, я из всякой беды найду лазейку и вылезу. Вот вспомнилось… До Купеческого клуба еще было… Служил я в хорошем ресторане, у господина Грудина. И случилась у нас незадача – проквасили мы пудов пять свежайшей стерляди да осетрины еще, не вспомню сколько. В то лето жара стояла неимоверная, ледники у нас все потаяли, ну и проквасили. Не в кашу, конечно, а так – крепкий запашок имелся. Куда девать? Выбрасывать – убыток, деньги-то за рыбу выплачены, назад не возвернешь. На столы подавать – заведению урон. Гости почтенные, не приведи бог, унюхают, могут и тарелку обратно подать – в рожу. Бывало, бывало… Так вот, стерлядь с осетриной киснет, хозяин, господин Грудин, за голову хватается, а меня возьми да осени… Бегом к распорядителю, он у нас двадцать лет на ресторанном деле был, все прошел. Слушай, говорю, мой замысел. Он выслушал и давай меня целовать, кричит: «Шельма ты, Колька! Большая шельма! Выгорит дело – я от хозяина награду для тебя исхлопочу! Ах, шельма!» С тем и убежал. А перед вечером собирает он всех девок, прости Господи, шаншонеток то есть, и делает им внушение, то есть объявление. Вы, говорит, мамзели, все при нашем заведении обретаетесь и выгоду свою имеете… Так уж, будьте ласковы, помогите… И помогли они нам! Садится такая шаншонетка с приличным господином за стол и требует стерлядей либо осетрины. Приносят. Она два-три раза вилочкой ковырнула и дальше по меню просит, чего ей желается. Больше к стерлядям не притрагивается. А рыбка-то уже в счет выставлена! Так мы все пять пуд стерлядей и осетрину, не помню сколько, и пристроили. Скормить не скормили, а денежку выручили. Хозяин, господин Грудин, хорошо тогда меня отблагодарил…








