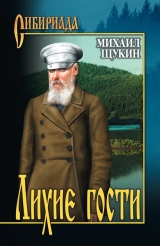
Текст книги "Лихие гости"
Автор книги: Михаил Щукин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
17
Зима перевалила на вторую свою половину и снега навалила, не скупясь, обильно – под его тяжестью ветки на соснах обламывались. Артемий Семеныч вместе с сыновьями, Игнатом и Никитой, только кряхтели, вытаскивая на длинных постромках тяжелые волокуши к санной дороге. На волокушах лежала разделанная медвежья туша. Свежее, недавно распластанное мясо парило. Медведь, которого они подняли сегодня из берлоги, оказался матерым – пудов на десять – двенадцать, не меньше. Следом за волокушами тянулись в рыхлом снегу глубокие полосы, помеченные кровяными пятнами. От упревших охотников, как и от медвежатины, клубами поднимался пар.
– Все, ребята, стойте, передохнуть надо, – Артемий Семеныч стянул с себя постромку и сел, отдыхиваясь, прямо в снег.
Игнат с Никитой, не присаживаясь, сразу заговорили, вспоминая и заново переживая недавнюю охоту: как поднимали медведя, засовывая длинную жердь в берлогу, как он выскочил со страшным ревом и жердь сломал мгновенным ударом лапы и как не удалось его свалить одним выстрелом, пришлось четыре раза стрелять… Братья размахивали руками, говорили, перебивая друг друга, и поглядывали на волокуши, на которых лежал теперь разрубленный на части, еще недавно грозный и опасный зверь.
Артемий Семеныч отдышался и встал, строго прикрикнул на сыновей:
– Чего разорались, как бабы на лавке! Давайте впрягайтесь, дальше потащим.
Впряглись, потащили. И больше уже не отдыхали, пока не выбрались к санной дороге. Игнат с Никитой встали на лыжи и двинулись в деревню, чтобы вернуться на подводе, а затем вывезти на ней мясо. Артемий Семеныч остался у волокуш. Нашел высокий пенек, смел с него снег и удобно уселся, подложив под себя рукавицы. Поясницу ломило тупой болью, и он невесело думал о том, что годы его не молоденькие и, что раньше он делал одним взмахом, теперь дается ему все труднее.
Задумавшись, не сразу расслышал глухой стук конских копыт, приглушенный слабо прикатанным снегом. А когда расслышал и поднял голову, увидел, что из-за ближних сосен выскочил во весь мах гнедой жеребец под седлом, а в седле – что за притча! – сидел Данила. Да так ловко и уверенно, словно всю жизнь на собственных конях раскатывал. Осадил жеребца, выпростал ноги из стремян и легко соскочил на землю, будто спорхнул. Сдернул с головы шапку и поклонился в пояс:
– Здравствуй, Артемий Семеныч!
Не дождавшись ответного приветствия, быстро выговорил, видно, заранее придуманные слова, на одном дыхании:
– Я, Артемий Семеныч, на житье вернулся. Буду хозяйское дело ставить. И просьба у меня – Анну не трогай, на сносях она теперь. По-доброму прошу.
– Ишь ты! По-доброму! А если по-худому, что будет?
– Я муж ей, в ответе за нее.
– Му-у-ж… – Артемий Семеныч поднялся и выпрямился. – Суразенок ты, а не муж!
– Я сказал, а ты думай. И не ори на меня – не запрягал. Ради Анны на поклон приехал, ради нее время выбрал, чтобы с глазу на глаз… На бабу свою ори, а нас с Анной не трогай! – Данила нахлобучил шапку, махом взлетел в седло, и из-под копыт гнедого жеребца только ошметья снега в Артемия Семеныча брызнули.
Он аж задохнулся от злости. Сел на пень и столько ругательных слов в груди закипело! Но говорить их было уже некому – даже звука копыт не слышалось. Стукнул кулаком по коленке и матерно выругался.
Как ни зол был Артемий Семеныч, а заметил: и конь под Данилой добрый, и сам он в справной одежде, в меховых вязаных перчатках, в легких белых катанках – приоделся! Разбогател, что ли? С какого угара? И что за дело хозяйское собирается ставить?
Вернулись Игнат с Никитой и привезли новость: Данила, оказывается, еще вчера приехал в Успенку, с Анной и с каким-то незнакомым мужиком. Приехали на трех подводах и с большой поклажей, закрытой рядном и увязанной веревками. Остановились у Митрофановны. С утра Данила обходил мужиков в деревне и просил прийти вечером к сборне, говорил, что имеется у него большой разговор, и если договорятся, то мужики не пожалеют и смогут в оставшееся до весны время, до пахоты, хорошо заработать.
Артемий Семеныч выслушал новость и, не зная, что сказать, прикрикнул на сыновей, чтобы они поскорее грузили мясо. Зимний день короткий, и надо было засветло вернуться домой и, может быть, побывать у сборни. С одной стороны, Артемий Семеныч очень хотел послушать – чего там суразенок балаболить станет? А с другой стороны – представил, как над ним ухмыляться будут, и гордыня взыграла. Подумав, решил послать сыновей – пускай они сходят, после перескажут…
А в избе у Митрофановны в это время топилась еще с утра, не остывая, печка, на ней кипятилась вода в чугунах и творилась большая уборка. Анна мыла и терла на второй половине избы, куда Митрофановна редко заглядывала и где изрядно накопилось грязи. Все в руках у Анны ладилось, за работой она пела, голос ее звенел, и скоро полы и стены засияли, на окнах заиграли новые занавески, большая деревянная кровать украсилась множеством подушек, цветным покрывалом и кружевным подзором. Не узнать жилья! Митрофановна только руками хлопала, дивясь хозяйской хватке работящей девки. И еще дивилась: ушли по осени беглые жених с невестой с одним заплечным мешком, а вернулись с добром на трех подводах. Уж не зарезал ли Данила богатого купца на большой дороге?
Откуда ей было знать, старой, что все перемены в судьбе Данилы и Анны свершились не по их желанию, а потому, что так придумал Захар Евграфович Луканин, который окончательно утвердился в своем упрямом решении: найти проход через Кедровый кряж и добраться до Цезаря. Когда вернулся домой после несостоявшейся охоты на зайцев и узнал, что Егорка Костянкин все-таки пришел, согласившись на службу, сразу его призвал вместе с Данилой, долго, весь вечер, разговаривал с ними, а напоследок сказал:
– Ну вот, ребята. Будем теперь одной веревочкой связаны. Согласия из вас клещами не тянул, по доброй воле согласились, и взад пятки ходу нет. Дело опасное, всякое может случиться, поэтому держитесь друг за друга. На помощь прискакать я не во всякое время смогу.
Никто об этом опасном деле, кроме них троих, не знал. Для всех остальных имелась иная вывеска: за Успенкой, на перекрестье трех дорог, одна из которых вела в тайгу и дальше, к изножью Кедрового кряжа, Луканин собрался строить постоялый двор, и на этом постоялом дворе кроме приюта для всех желающих будут еще скупать пушнину от всех местных промышленников [17]17
Промышленники – охотники, живущие за счет добычи.
[Закрыть].
Вот о постоялом дворе и собирался сегодня вечером рассказать Данила успенским мужикам и подрядить желающих на рубку и вывозку леса к месту строительства. Но до вечера решил встретиться с Артемием Семенычем и высказать ему те слова, которые сочинил после долгих раздумий. Оседлал коня, доскакал до своего несговорчивого тестя, сказал заранее приготовленные слова и теперь возвращался в деревню, не сильно-то расстраиваясь, что оказались они напрасными. Обремененный новыми заботами и тайным, опасным делом, которое предстояло совершить, Данила почувствовал в себе неведомые ему раньше силы и уверенность. Словно вырос на две головы и крепче, основательней утвердил на земле ноги – попробуй, сшиби.
Егорка, дожидаясь Данилу, сидел на крыльце, лентяйничал и ни о чем не думал. Его судьба, выписав в очередной раз мудреный вензель, в сегодняшний день полностью устраивала бывшего вора и каторжника. А чего желать? Обут, одет, сытый, а самое главное – лежит у господина Луканина новенький паспорт для Егорки и немалые деньги в плоской деревянной коробочке. Своими глазами видел, даже деньги пересчитал. И уверен был, что Луканин его не обманет – не таков человек. Ради паспорта и новой жизни, которую можно будет с ним начать, ну и ради солидных денег, само собой, Егорка готов был сослужить службу Луканину, но еще раз идти по горной тропе отказался сразу и наотрез. А вот найти другие проходы через Кедровый кряж – почему бы и не поискать…
По улице, возвращаясь от колодца с полными ведрами воды, шли две бабы. Поравнялись с домом Митрофановны, повернулись, не опуская коромысел с плеч, и с беззастенчивым любопытством уставились на Егорку, на сани, стоявшие посреди двора, и даже приподнимались, вместе с ведрами, на цыпочки, пытаясь заглянуть в окна: чего там делается? Кипела душа у баб, знать им хотелось, до зла горя: с каким таким добром вернулся суразенок Данила в деревню? Но окна были задернуты новыми цветными занавесками, и ничего сквозь эти занавески не проглядывалось. Егорка соскочил с крыльца, приосанился и вьющимся шагом, прищурив глаз, подплыл к бабенкам. Изогнулся, изображая поклон, и голосом, до крайней степени ласковым, спросил:
– Какое любопытство имеем, милые девоньки?
Бабы засмущались, повернулись разом, словно солдаты, всем своим видом показывая, что идут по спешной надобности и некогда им до крайности, и пошли уже, но Егорка, в спины им, будто досадуя:
– А я рассказать вам хотел… Погодите! Постоялый двор будем ставить…
Бабы снова, как солдаты по команде, развернулись еще раз и подскочили к Егорке. Глаза у них горели.
Егорка, приосанясь еще важнее, сообщил:
– Господин Луканин, богатый человек из Белоярска, будет постоялый двор строить. Распоряжаться там будет Данила Андреич, который из вашей деревни. А для увеселения господ проезжащих будут там содержаться приятные девоньки. Ну, приедет с морозу человек, ему чаю первым делом, водочки, а после – на пуховую перину и девонька мягкая под боком. – Глаза у баб становились круглее деревянных ведер, а Егорка продолжал: – У нас теперь большая забота имеется, чтобы девоньки наши мяконькие были, сладенькие, ну, сами разумеете, какие, ну, вот такие, как вы! Но сначала я должен пробу снять, удостовериться, что мяконькие. Куда вечером приходить?
Бабы дружно, враз, заплевались, одна даже ведра поставила и замахнулась на Егорку коромыслом, но он уже стрельнул на крыльцо, уселся на прежнее место и только похохатывал, прищуривая хитрый глаз, – донельзя был доволен самим собой. Не покидало его в последние дни этакое разудалое шутейство. А почему и не пошутить, если сегодня жизнь так складно складывается, а про завтрашнее даже и не думается…
Прискакал Данила. Разгоряченный, спрыгнул с седла на землю, сдернул с головы шапку и сел, остывая, на крыльце рядом с Егоркой.
– Куда бегал?
– Вчерашний день искал, упарился, а не нашел, – Данила ударил пятерней по шапке, лежащей у него на коленке, глянул на своего нового сотоварища и спросил: – А ты чего лыбишься, как дурак на Пасху?
– Бабы здесь смачные, – вздохнул Егорка, – на ночевку просился – не пущают.
И они оба, закинув головы, захохотали, так громко, что нерасседланный конь поднял голову и насторожил уши, словно недоумевал: чего, спрашивается, ржут?
18
Похохатывали поначалу, правда, не столь громко, и мужики, пришедшие вечером к сборне. Пришли, собираясь поглазеть на занятное зрелище. Да и то сказать: не каждый день такое в деревне случается. Года не исполнилось, как потешались над суразенком, – последним, можно сказать, человеком в деревне, который отправился свататься к дочери справного хозяина Артемия Семеныча Клочихина, – и пересказывали друг другу обидную шутку про сопрелую мотню штанов; ухмылялись, не в глаза, конечно, над самим Артемием Семенычем, когда умыкнул парнишка убегом Анну из родительского дома, но никто в деревне не думал и не гадал, что вернется Данила с тремя возами добра и соберет мужиков, чтобы разговаривать с ними, как равный. И едва только Данила собрался говорить, сняв шапку перед обществом, как из толпы чей-то озорной голос выкрикнул:
– Слышь, паря, а мотню-то зашил?
Данила почувствовал, что кровь ему бросилась в лицо, но с обидой своей совладал, переждал смех и ответил, спокойно и рассудительно:
– Штаны у меня и тогда справные были. Да только собрал я вас, уважаемое общество, не про штаны толковать. Захар Евграфович Луканин, купец из Белоярска, будет ставить постоялый двор на Барсучьей гриве, где дороги пересекаются. Для строительства лес нужен. Рубить его будем за Старой балкой. Расклад такой: сам свалил, сам ошкурил и сам на Барсучью гриву доставил. За каждую возку, не меньше пяти бревен, два с половиной рубля платы будет. Кому такая цена глянется, милости прошу с утра завтра к Митрофановне подъезжать, я у нее остановился.
Передохнул Данила, шапку нахлобучил, и в этот миг его словно кто в спину толкнул, а на ухо шепнул неслышно: теперь ступай, ступай, не оглядывайся. И он, подчиняясь, двинулся развалистым шагом, не оглядываясь на мужиков у сборни, которые остались стоять в большом изумлении. Совсем не такого поворота ожидали они, когда сюда шли, не вышло потешного зрелища. Чесали затылки, прикидывали: если с утречка пораньше выехать да хорошенько топором помахать, можно до потемок две ходки сделать. А это чистых пять рублей. За день… Заскорузлые пальцы все крепче скребли затылки.
Разошлись мужики от сборни скоро, будто птичью стаю спугнули и она разлетелась.
Данила, вернувшись в дом Митрофановны, пребывал в сомнениях: верно ли он сделал, не оставшись у сборни? Может, мужики захотели бы поспрашивать, может быть… Но вспомнился обидный выкрик про мотню, и Данила, отбросив сомнения, решил, что сделал он все верно. Кому надо, те появятся. А деньги надо всем. Кто еще здесь такую работу предложит – два с половиной рубля в день… Утвердившись в правильности своего решения, он повеселел, приобнял Анну и уселся за стол, накрытый к ужину, как хозяин – с торца. Анна с Митрофановной постарались, и стол ломился. Ели, проголодавшись за день, от души. А после ужина, сморившись, все дружно зазевали и собирались уже укладываться спать, когда на пороге появилась гостья – Зинка Осокина, неразлучная подружка Анны еще с детских лет. Стрельнула глазами, всех оглядывая, и затараторила:
– Ой, здравствуй, подружка! В деревне только про вас и разговоров. Тятя со сборни пришел, руками разводит. Вы как приехали-то – надолго? А где жить будете? Тут, у Митрофановны? А на возах чего привезли, какое добро? Все городское?
И спрашивала, спрашивала Зинка, не получая ни одного ответа. Да и ответить ей было невозможно, как и вставить хоть одно слово в сорочью скороговорку.
Анна подружке обрадовалась. Усадила за стол, налила чаю, смотрела на нее и улыбалась. Все-таки соскучилась она за это время, живя среди чужих людей, по родной Успенке. Вот еще бы с матерью увидеться… Да только идти в родительский дом Данила ей строго-настрого запретил, и теперь надеялась Анна на свою подружку: придумает Зинка, найдет предлог и вызовет Агафью Ивановну в укромное место. Там и встретятся, хоть обнимутся да поплачут…
Угомонились, выпроводив Зинку, поздно. Данила сразу уснул и не слышал, как Анна, тихонько поднявшись с кровати, долго молилась перед иконой Богородицы и просила заступничества. Просила за Данилу, за Агафью Ивановну, за братьев своих и за крутого характером Артемия Семеныча.
Богородица смотрела на нее, стоящую на коленях, и взгляд был по-матерински тихим и ласковым.
Утром, когда Данила, проснувшись, выбрался на крыльцо, он только и нашелся, что довольно хмыкнуть: узкий переулок, в котором стоял дом Митрофановны, был забит лошадьми, мужиками и крепкими, длинными санями, на которых возят бревна.
Часть третья
1
И вспомнился вдруг, совсем не к месту, рассказ одного из придворных, который сетовал: одеть Государя в новый костюм – это целая история. Любит старые вещи, обношенные, простые, и на дух не переносит роскоши. Потому и в Зимний дворец до сих пор не переехал, а пребывает в Аничковом, где комнатки у него маленькие и скромные. В одной из них Государь и принимал всегда Александра Васильевича, назначая для аудиенции всегда одно и то же время – в три часа пополудни.
В простой поддевке с широкими брюками, в высоких сапогах, огромный и кряжистый, он излучал благодушие, какое бывает только у сильных и уверенных в себе людей, чаще всего – у землепашцев и кузнецов. Всякий раз Александр Васильевич любовался на него, ощущая, почти физически, твердость, которая чувствовалась в каждом несуетном движении и в каждом слове – весомом и твердом. И снова вспомнился, опять же вроде бы не к месту, еще один рассказ все того же придворного: на официальном приеме австрийский посол имел неосторожность самоуверенно заявить, что для урегулирования балканского вопроса вполне достаточно двух-трех дивизий. Государь его выслушал, взял со стола ложку, завязал ее узлом и предупредил: «Вот что я сделаю с вашими дивизиями!»
– Я прочитал ваш доклад, Александр Васильевич, – Император положил перед собой тонкую папку и накрыл ее широкой ладонью, – и у меня возник лишь один вопрос: вы полагаете, что это отголоски Берлинской конференции? [18]18
В 1884 году в Берлине крупнейшие державы приняли «Акт Берлинской конференции». Согласно этому акту, страна, не способная освоить свои природные ресурсы, должна предоставить их другим, более развитым странам. Формально речь шла об Африке. На самом деле – о России.
[Закрыть]
– Совершенно верно, Ваше Императорское Величество, – не раздумывая, ответил Александр Васильевич, – своего рода пробный камешек. Желают исподтишка кинуть в русский огород и посмотреть: что из этого получится? Черную метку хотят послать.
– Даю вам, Александр Васильевич, все полномочия в этом деле и всяческую мою поддержку. Если возникнут затруднения – сообщите. Как он у вас там именуется – Коршун? Вот и пусть их в задницу клюнет, да покрепче. Я на вас надеюсь, Александр Васильевич.
– Приложу все силы, Ваше Императорское Величество, и надеюсь в ближайшем времени доложить об успешном завершении этого дела.
– Уж постарайтесь. Так постарайтесь, чтобы отбить у них охоту. А края сибирские скоро ближе станут, благодаря железной дороге. Построим мы ее! – Государь помолчал, задумавшись, и продолжил: – По тюремному ведомству докладывали недавно… Наши каторжные, если вчистую в карты проиграются, свой кулак на стол ставят, как бы слово дают, что возвернут долги. Россия, слава Богу, страна не бедная, и есть что на кон выставить, но я им, господам любезным, вот что поставлю! – и крепкий, увесистый, по-мужицки грозный кулак Божиею поспешествущею милостию Александра Третьего, Императора и Самодержца Всероссийского, Московского, Киевского, Новгородского, Царя Казанского, Царя Астраханского, Царя Польского, Царя Сибирского, Царя Херсониса Таврического, Царя Грузинского, Великого Князя Финляндского и прочая, и прочая, и прочая, – увесисто грохнул о столешницу, даже тоненькая папка с докладом Александра Васильевича взлетела и распахнулась.
Сам Александр Васильевич почтительно встал и поклонился. Короткая аудиенция была закончена. И главное, что он желал услышать от Государя, было сказано.
2
В белых передничках, в одинаковых синих платьицах с кружевными воротничками, донельзя смущаясь и опуская взгляды в пол, воспитанницы сиропитательного приюта вышли на сцену и запели французскую песенку. И как только запели, так сразу и преобразились. Тщательно причесанные головки с косичками вздернулись вверх, глазенки засверкали, а одна из девочек, когда допели песенку и когда надо было сделать реверанс и поклониться зрителям, озорно прищурилась и подмигнула. Захару Евграфовичу показалось, что подмигнула шалунья именно ему. Он разулыбался, довольный, и долго хлопал, отбивая ладони.
Шел благотворительный вечер, устроенный Ксенией, сбор от которого должен был пойти на нужды приюта. Воспитанницы демонстрировали со сцены свои таланты – пение, декламацию стихов и даже игру на музыкальных инструментах, а публика, весь цвет белоярского общества, снисходительно аплодировала и дожидалась того момента, когда устроители вечера призовут в большую залу, где будет играть оркестр пожарной команды, откроется буфет и начнутся танцы.
Так и произошло. Девочки спели еще одну песенку на французском, и уважаемых господ и дам пригласили в залу. Оркестр играл замечательно, буфет бойко торговал, а в специальные ящички, расставленные вдоль стены, опускались деньги – на благое дело. Хотя, если говорить честно, опускались ассигнации не очень большого достоинства и не очень охотно – очередей возле ящичков не выстроилось. Ксения, видя это, огорчалась, щеки у нее пылали румянцем, и Захар Евграфович, пригласив сестру на танец, успокаивал ее:
– Не огорчайся, Ксюша, я тебе говорил, что в общую кассу наш брат деньги бросать не желает. Он в десять раз больше отвалить может, но ему непременно звон требуется, чтобы все знали: это я, Иван Иванов, пять или десять тыщ на приют положил, глазом не моргнул. И дайте мне, Ивану Иванову, медаль на шею. А ты медаль не дашь. Увы… Так что не огорчайся, а радуйся. Пели твои красавицы знатно. Кто бы мог подумать, что в нашем Белоярске дети французские песенки распевать будут. Молодец, Ксюша!
– Это Луиза, она молодец, моей заслуги нет. Ты знаешь, Захарушка, так странно, я как будто подругу в ней нашла. Мы с полуслова друг друга понимаем…
– А с какого полуслова – русского или французского? – пошутил Захар Евграфович, которому очень уж хотелось развеселить сестру.
– Бывал бы дома почаще, ты бы таких вопросов не задавал, Захарушка. У Луизы удивительная способность к языкам, она уже понимает по-русски и даже говорит. Произношение, конечно, не очень удается, но мы каждый день занимаемся. А вот, кстати, и сама Луиза. Пойдем, поговорим с ней, а то, видишь, она одна стоит. Неловко…
Они проскользнули между танцующими парами и подошли к Луизе, которая действительно в одиночестве стояла у окна, всматриваясь в вечернюю темноту через искрящиеся узоры на стекле, нарисованные морозом, заметно покрепчавшим еще с утра. Одета она была в длинное черное платье с блестками, узкие нежные плечи прикрывал белый газовый шарф, и, когда она повернулась, шарф соскользнул с плеча, и Луиза поправила его плавным жестом, смущенно при этом улыбнувшись и приветливо глядя на Захара Евграфовича и на Ксению большими темными глазами.
«Вот тебе и тра-та-та, песенка французская! – невольно воскликнул про себя Захар Евграфович. – Теперь держите меня семеро!»
Он так смотрел на Луизу, словно видел ее в первый раз. А может быть, и впрямь впервые видел? Все эти месяцы, донельзя занятый своими делами, связанными с частыми разъездами, своими неотступными мыслями о том, как пробраться через Кедровый кряж и дотянуться до Цезаря, Захар Евграфович не сильно-то внимательно оглядывался вокруг, и взгляд его на Луизе, которая большую часть времени проводила в приюте, ни разу не задержался. На ходу, мимолетом, здоровался и спешил дальше, полностью поручив француженку на попечение сестры. И только сейчас разглядел. Разглядел и ахнул.
– Луизонька, хочу тебя обрадовать, – заторопилась Ксения сообщить ей приятную новость, – Захару Евграфовичу ваши девочки очень понравились. Говорит, что поют они замечательно.
Луиза снова смущенно улыбнулась и заговорила, старательно подбирая слова и столь же старательно их выговаривая:
– Спа-сиба, мсье Луканьин. Мне – радость… – быстро взглянула на Ксению, и та поспешила помочь:
– Радостно.
– Мне радость-но, что мсье Луканьин… – она снова сбилась, улыбнулась и добавила, засмеявшись: – Радостьно!
Смех у нее был чистый, высокий, будто колокольчик под дугой звенел-рассыпался.
Ответить ей Захар Евграфович не успел. Налетела, откуда-то сбоку, словно порыв внезапного вихря, жена исправника, ухватилась за его рукав и восторженно, закатывая глаза, зачастила, будто боялась, что ей прихлопнут сейчас рот и не дадут высказаться о тех чувствах, которые ее распирают:
– Я в восторге! Захар Евграфович, душка! Я в восторге! Нам не хватает в городе культурной жизни. Я придумала!
– Ни-и-на, – зарокотал, степенно подошедший следом Окороков, – ну, нельзя же так, дорогая.
– Ой, не мешай! Захар Евграфович, я придумала! Нам необходимо создать музыкально-литературное общество. Будем устраивать вечера, будем устраивать сборы, а вы станете нашим главным попечителем. Правда замечательно?!
Захар Евграфович тоскливо повел вокруг взглядом. Уж чего-чего, а попечителем еще одного общества, мгновенно рожденного в головке беспрерывно говорящей жены исправника, он становиться не желал никоим образом. И не только потому, что умел считать копейку и деньгами никогда не разбрасывался, а потому, что искренне был убежден: всяческие общества – баловство. Желаете на скрипках играть и стихи декламировать? Собирайтесь на квартире, ведь не в шалаше ютитесь, играйте там и пойте, сколько душе угодно. А он свои деньги лучше в приют вложит, здесь девочки по-настоящему судьбой обижены, без всякого баловства.
Нина Дмитриевна продолжала теребить его за рукав и говорила, не прерываясь. Но увидел Захар Евграфович, почти уже погибая, на свое счастье, Илью Васильевич Буранова, степенно проходившего мимо. Подхватил Нину Дмитриевну под пухлый локоток, повел навстречу городскому голове и добился желаемого: в сплошной скороговорке наступила пауза, и он в нее вклинился:
– Я никак не могу, уважаемая Нина Дмитриевна, быть попечителем нового общества. Музыка, литература и вообще всякие высокие искусства – это удел Ильи Васильевича. Я сам слышал, как он однажды публично сожалел, что у нас до сих пор нет в городе музыкальных вечеров. Илья Васильевич! С вами Нина Дмитриевна желает поговорить…
Отпустил пухлый локоток и быстро-быстро, не оглядываясь, вернулся на прежнее место.
– Извините, Захар Евграфович, – Окороков смущенно развел огромными ручищами и шумно вздохнул, – уж такая натура у нас, неугомонная. Растеребит сейчас нашего голову… А пойдемте лучше в буфет, слышал я, что буфет нынче отменный.
Захар Евграфович согласно кивнул, направился следом за Окороковым в буфет и успел еще краем глаза увидеть, как Илья Васильевич, подобрав от удивления пухлый животик, пятился перед неудержимым напором Нины Дмитриевны, пока не уперся спиной в стену. А упершись, замахал ручками и согласно закивал головой.
В буфете, разговаривая о разных пустяках, Захар Евграфович с Окороковым выпили коньячку, хорошо закусили и оба пришли в прекрасное расположение духа.
– Я рад, Захар Евграфович, что наша француженка делает успехи, – говорил Окороков. – К слову сказать, поинтересоваться хочу: как она? Не скучает?
– Да я, знаете ли, все в разъездах, даже и не разговаривал ни разу. С Ксенией Евграфовной они очень подружились, думаю, что не скучает.
– Вот и хорошо. Сколько я бумаги исписал… Значит, говорите, не скучает? Да-да… А если мы еще коньячку попросим, не возражаете?
– Не возражаю.
Попросили еще коньячку, но выпить его не успели. В буфет, громыхая мерзлыми сапогами и длинной шашкой, ввалился городовой и, почтительно лавируя между столиками, подошел к исправнику, быстро зашептал ему на ухо. Захар Евграфович успел расслышать только одно слово: «Накрыли…» Но не придал услышанному слову никакого значения. Мало ли кого накрыли. Народец в Белоярске пестрый, беспокойный, и работы у служивых чинов всегда хватает с избытком.
Окороков быстрым движением отодвинул рюмку с коньяком и скорым шагом вышел из буфета, даже не попрощавшись.
А Захар Евграфович, посидев еще некоторое время за столиком, поднялся и пошел в залу, где по-прежнему гремела веселая музыка.
Он хотел увидеть Луизу.








