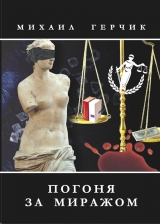
Текст книги "Погоня за миражом"
Автор книги: Михаил Герчик
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Григорий налил себе водки, выпил и закашлялся.
– Фу, какая гадость! Значит, вот какую роль ты уготовил мне? Громоотвода?
– Называй как хочешь. Громоотвод – это не так и плохо, он человеческие жизни спасает. А вообще-то Андрей с нами не церемонится, не понимаю, почему мы...
– Потому что мы – другие.
– Возможно. Но знаешь, когда началась эта история с коттеджами, я почувствовал себя такой же сволочью, как и он. Продажной и подлой, готовой на все ради жирного куска.
Прикончив бутылку, они пошли к Рите. В спальне было темно, сквозь стеклянную дверь не просвечивал ночник, который она обычно не выключала.
– Спит, – с облегчением сказал Шевчук, довольный, что можно оттянуть неприятный разговор. – Не будем ее тревожить, она очень тяжело засыпает.
Где-то после одиннадцати, когда была допита вторая бутылка, Григорий позвонил Татьяне, сказал заплетающимся языком, что заночует у Шевчуков, бросил трубку, чтобы не выслушивать ее причитаний, и вскоре, кое-как раздевшись, уснул на тахте.
Глава 22.
К тому времени, когда Шевчук и Злотник подошли к спальне, и, потоптавшись возле закрытой двери, вернулись назад, Рита уже была там, где нет ни горя, ни печали. Нет, она еще не умерла, она еще жила, но рубеж, отделявший ее от небытия, был тоненьким и зыбким, как первый октябрьский ледок на закраинах озера. Жизнь вытекала из нее медленно, по каплям, как вытекает вода из неисправного крана, и никто на свете не знал, когда упадет, оборвется последняя капелька.
Слова Шевчука ударили ее в сердце с такой страшной силой, что она едва добрела до спальни. Отбросив костыль, рухнула на постель и беззвучно зарыдала, уткнувшись лицом в подушку и захлебываясь от слез. Все, что так долго копилось в ее истерзанной душе, прорвалось наружу с этими слезами, но облегчения они не принесли. Рита понимала, что слова эти вызваны отчаянием; конечно же, Володя горько сожалеет, что не сдержался, но он не смел, не должен был этого говорить. Ни при каких обстоятельствах. Слишком уж это жестоко, не по-человечески. И в то же время она ощущала, не могла не ощущать, что вырвались они не случайно, что в них заключена страшная правда, которая медленно, как злокачественная опухоль, вызревала в нем все два года ее болезни. За эти два года она стала противна и ненавистна сама себе, стоило ли удивляться его прорвавшейся ненависти?!
В голове уже не шумело и не попискивало, в голове гремели церковные колокола, и их протяжный глухой звон сводил с ума. Рита понимала: они предвещают приближение второго удара, которого больше всего опасались врачи. Вот так же мучительно у нее болел затылок и гремело в голове перед первым. Второй удар мог убить ее быстро и безжалостно, а мог превратить в живой труп, в мумию, полностью отнять речь и навсегда приковать к постели. Навсегда – на сколько? На месяц, на год, на пять лет? Рита знала: при хорошем сердце – возможно, и больше, кое у кого это затягивается на целую вечность, а у нее было хорошее сердце. И если Володя уже сейчас ждет ее смерти, что же будет, когда она начнет ходить под себя, заживо разлагаться, гнить в своей постели, беспомощная, как грудной младенец?.. Когда сама станет в душе молить Бога о смерти, как об избавлении, а смерть, словно в насмешку, будет забирать молодых и здоровых, тщательно обходя их дом?
В ней уже давно пропала уверенность в себе, в своих силах, все стало безразличным и ненужным. Заставляла жить, цепляться за жизнь только надежда, что однажды Володя помирится с Никой. Сегодня эта надежда умерла, а с нею умерло все, ради чего она мучилась и страдала.
Вплоть до нелепой беременности Ники, с которой начались все их неприятности, Рита считала себя счастливой. Хороший муж, хорошие дети, хорошая работа... Постепенно в семью пришел достаток, особенно когда Шевчук стал работать в «Афродите».Что еще нужно? Ника задала им жару, Ника... Как и Володя, Рита больше всего переживала за нее – не свихнулась бы, не пошла по рукам... Господи, десятки ее подружек, прекрасных девочек из хороших семей стали за эти годы расхожим товаром! Не свихнулась... Как и многие, Рита не понимала, каким образом Нике удалось женить на себе Некрашевича, но когда это свершилось, и особенно когда Ника сказала, что ждет ребенка, – а она все годы боялась, будут ли у Ники после аборта дети, – поверила: все у нее будет в порядке. Она успокоилась, а Володя – нет. Сколько же зла скопилось в его сердце, как он будет с этим злом жить?!
В голове, разрывая ее, кроша кости черепа, звонили колокола. Рита подумала о будущем внуке или внучке. Как ей хотелось дождаться, увидеть маленького! Конечно, бабушка она никакая, ложку в руках не удержит, кто бы это доверил ей младенца, но прикоснуться к нему губами, заглянуть в пуговки-глазки – какое счастье!
Не дано. Ушел поезд, ушел...
Внезапно Рита почувствовала, что у нее деревенеют ноги. Попыталась пошевелить пальцами и не поняла, шевелятся они или нет. Сунула руку под одеяло, ущипнула себя за икру, но ничего не ощутила. С ужасом поняла – пора. Иначе можно опоздать. Превозмогая боль во всем теле, свесилась, чтобы достать из прикроватной тумбочки флакон, куда чуть ли не год ссыпала снотворные таблетки – горсть таблеток должна была помочь ей тихо и незаметно уйти из жизни, и в это мгновение словно граната взорвалась у нее в голове. Рой слепящих огней закружился перед глазами, всасывая ее в бездонную воронку, затем какая-то страшная сила изогнула, приподняла ее и отбросила назад, на кровать. Падая, Рита задела рукой провод ночника. Лампа упала на пол и разбилась, погрузив спальню в темноту.
Глава 23.
Спал Пашкевич недолго, но проснулся с ощущением, что выспался, как уже давно не удавалось. Сильное тренированное тело было снова послушно ему, нигде ничего не ломило, не болело, не саднило. Это было так хорошо, что он засмеялся от неожиданной радости.
За окном тускло серел снег. Дрова в камине уже прогорели, но из жерла его все еще сочилось тепло. Женя так и не ушла в спальню, сладко спала в кресле, закутавшись в одеяло. Лицо у нее было розовое и нежное, как у младенца, над верхней губой чуть приметно золотился легкий пушок. Пашкевич почувствовал, что у него туманятся глаза и перехватывает горло. Никогда она не вызывала в нем такого умиления – шлюха и шлюха, иначе он о ней и не думал, но сейчас почему-то привычное словечко показалось гадким. Как зерно, брошенное в прогретую солнцем почву и готовое пробиться зеленым ростком, в нем набухало, рвалось наружу иное чувство, удивлявшее его самого своей необычностью и остротой. Неужели и впрямь скоро эта девчонка станет матерью его сына, наполнит его жизнь смыслом, сделает его по-настоящему счастливым? Пашкевич все еще никак не мог в это поверить.
Он умылся, нашел в комоде свежую рубашку, галстук. Разбудил Женю.
– Как ты, папочка? – сладко потянувшись, спросила она. – Ох и напугал ты меня вчера! Подай, пожалуйста, платье, я оденусь.
Пока они собирались, рассвело. Михалыч уже прогрел машину, она сыто урчала у крыльца. Из-за леса выкатилось редкое для конца ноября блеклое солнце. По вымороженному небу плыли клочья белых облаков. Ели под снегом стояли словно засахаренные. Пашкевич попрощался со стариками и сел за руль.
Он уже подъезжал к кольцевой, когда запищал сотовый телефон. Звонил Виктор.
– Андрей Иванович, – поздоровавшись, сказал он, – у меня новость. К сожалению, плохая.
– Говори, не тяни душу, – Пашкевич на всякий случай сбросил скорость.
– На старом складе прорвало батарею парового отопления. Хлестало, видимо, всю ночь, воды было по колено. Погибли тысячи книг.
– А сторож? Где черти носили сторожа?
– Спал пьяный в подсобке. Я уже привез сантехников, отопление отключили, батарею ремонтируют. Аксючиц собрал людей, там сейчас половина издательства. Разбираются. Были бы стеллажи, а то все на полу. А пол бетонный, куда воде и пару деваться... Даже если высушить и прогладить, это ничего не даст. Пленка на обложках отслоилась, листы набухли. Только на макулатуру.
– Дела... – сквозь зубы процедил Пашкевич. – Ты его на гору, а черт тебя за ногу. Тихоня там?
– Да, подсчитывает убытки.
– Она мне этого алкаша сосватала. Я с нее шкуру спущу. – Виктор дипломатично промолчал. – Ладно, я заскочу домой переодеться и поеду в издательство. Надо срочно подписать банковские документы. Если что, звони.
– Договорились, – ответил Виктор и отключился.
Время, когда Пашкевич чуть ли не молился на своего главбуха, давно прошло. Она слишком много знала о нем и его делах, и это раздражало и беспокоило. В издательстве она незаметно забирала все большую власть, без ее участия и согласия не решался ни один мало-мальски серьезный вопрос. Пашкевич давно заметил, что слишком часто последнее слово остается не за ним, а за ней. Исподволь, постепенно она словно опутывала его по рукам и ногам липкой паутиной; вначале невесомые, невидимые, путы эти стали действовать ему на нервы. Он не терпел соперничества: в бизнесе, как и в доме не должно быть двух хозяев, а Лидия Николаевна явно ощущала себя в «Афродите» хозяйкой. На людях она не показывала этого, была с ним сдержанна и почтительна, как и подобает человеку подчиненному, но на самом деле поступала так, как считала нужным, даже для приличия не интересуясь его мнением.
Он понимал, что большей частью своих денег обязан ее ловкости и находчивости, умению держать язык за зубами. Не дай Бог, случись серьезный прокол, не продаст, хотя лишнего на себя, конечно, не возьмет. Однако она становилась неуправляемой, а примириться с этим Пашкевич не мог. Это по ее настоянию зарплату в издательстве платили не два, как везде, а раз в месяц, постоянно задерживая едва ли не до конца следующего месяца, хотя никакой надобности в этом не было. Люди жаловались, возмущались, ему приходилось оправдываться, а она прокручивала огромные суммы в коммерческих банках, оставляя изрядную часть прибыли себе. Она выставила его на посмешище, не дав Тамаре Мельник денег на эти проклятые новогодние заказы, потому что имела на нее зуб, и вот Тамары нет, а дела в торговом отделе после ее ухода идут из рук вон плохо. Тамара не допустила бы, чтобы два тиража загнали на склад, при ней оптовики вывозили большую часть книг прямо из полиграфкомбината.
Пашкевич осторожно вел машину по обледеневшей, еще не разбитой грузовиками дороге. Хорошее настроение, с которым он проснулся, пропало. Запершило в горле, снова подступила тошнота. Надо вечером прозвонить профессору Эскиной, пусть посмотрит, что ли? Вот уж правду говорят: беда одна не ходит.
Он подвез Женю, дал денег, велел к концу дня позвонить Аксючицу, продиктовать паспортные данные, чтобы тот подготовил купчую на квартиру. Затем заскочил домой. Лариса уже уехала на работу. Клавдия что-то стряпала на кухне. Услыхав радостный лай Барса, выглянула в прихожую, поздоровалась. Он кивнул, сказал, чтобы отнесла в химчистку костюм, на котором темнели так и не отмытые Агафьей пятна. Принял душ, переоделся. Прошел в кабинет, перемотал отснятую кассету, включил видеомагнитофон. Угрюмо просмотрел знакомый по прежним пленкам сюжет – ничего нового. С удивлением поймал себя на мысли, что не испытывает прежней жгучей боли. Сердце билось ровно и спокойно, словно на экране занимались любовью не жена, в которой он еще совсем недавно не чаял души, и ее хахаль, а чужие люди. Даже любопытства не вызвало, нагляделся. Выключил видеомагнитофон, убрал кассету в сейф. Новую не поставил. Зачем, если отснятые уже некуда девать.
Едва Пашкевич приехал в издательство, как со склада вернулся Аксючиц. Александр Александрович выглядел усталым и расстроенным.
– Много погибло?
– Много, – вздохнул Аксючиц, но не сожаление, а плохо скрываемое злорадство светилось в его глазах. – Но дело не в этом. Я воробей стреляный, Андрей Иванович, боюсь, что потоп произошел не случайно. Конечно, на глазок утверждать трудно, но я не сомневаюсь, что при ревизии там вскроется крупная недостача. Чтобы покрыть ее, все это и устроено. Там вода так хлестала, покойник проснулся бы. Воровство это, Андрей Иванович, а прорванная батарея – старый фокус. Как говорится, все концы в воду. Думаю, замешаны в этом деле не только сторож, но и милейшая наша Лидия Николаевна. Не зря она так торопится испорченные книги сегодня же вывезти в макулатуру. Припишет пару-тройку тысяч – кто ее проверит?!
Пашкевич набрал номер сотового телефона Тихони.
– Как вы там?
– Перебираем, проветриваем, сушим. Подсчитываем убытки. Жалко, конечно, но как-то переживем, что ж поделаешь. Бывает... Надо поскорее строить собственные склады; если бы Аксючиц не спал в шапку, а крутился, мы бы уже давно из этого подвала переехали.
– Вот что, – сказал Пашкевич, – подмокшие книги в макулатуру не сдавать. Ни в коем случае. Сложите все в отдельный штабель, я сегодня же назначу ревизию склада. Сторожа уволим, зарплату и прогрессивку удержим в счет погашения убытков. Если обнаружится недостача, обратимся в милицию, пусть разбираются.
– Дело хозяйское, – ответила Тихоня, – Вы у себя? Я скоро приеду.
Он захлопнул крышечку телефона, посмотрел на Аксючица. Уловил в его напряженном взгляде одобрение. Спокойный голос Лидии Николаевны не обманул Пашкевича. У Аксючица глаз – алмаз, он явно следил за этим складом, чтобы уесть Тихоню, рассчитаться с ней за племянницу, напраслину возводить не стал бы. Какое все-таки сладкое чувство – месть. Старик вроде бы даже помолодел от удовольствия.
– Поезжай в Дражню, пошевели этих обормотов-строителей, – сказал Пашкевич. – Тихоня права: надо поскорее заканчивать новый склад и убираться из чужих подвалов. Вернешься оттуда, подберешь два-три человека, возьмешь в бухгалтерии документы и приступай к ревизии. Пересчитайте все книги до единого экземпляра. Если обнаружится недостача... – он сжал кулаки. – Ладно, потом посмотрим. Сторожа выгони, попроси временно подежурить кладовщицу, кого-нибудь найдем. Да, кстати, – остановил он уже вставшего Аксючица, – вот еще какое дело, Александр Александрович. Нашу квартиру в Садовом переулке... Переоформи ее на Евгению Николаевну Белявскую. Ну, на Женю, ты же знаешь. Сделай, пожалуйста, побыстрее, деньги в бухгалтерию я внесу.
Аксючиц ушел. Пашкевич отодвинул папку с документами и откинулся в кресле. Вернулась вчерашняя слабость, вялость. Ломило суставы, сохло во рту. Язык распух и стал словно деревянный Он принес из холодильника бутылку минеральной воды, с жадностью выпил целый стакан. Вроде отпустило. Почему-то все стало безразлично, – да ну вас всех к бесу! Единственное, что не давало покоя, – Тихоня. Лучшего повода расстаться с нею не придумаешь, особенно если Аксючиц прав и она замешана в воровстве. Вряд ли сторож делился с ней, хватает у нее денег, но то, что она покрывала его, что они сговорились устроить этот потоп, – очевидно.
Через какое-то время первого этажа донесся резкий голос – похоже, Лидия Николаевна распекала кого-то из сотрудников. Затем на лестнице послышались ее шаги – тяжелые, уверенные, громкий стук в дверь.
– Входите, – сказал Пашкевич.
Лидия Николаевна размашисто пересекла кабинет, не дожидаясь приглашения, села в кресло напротив. Вид у нее был воинственный, губы поджаты в тонкую ниточку, на скулах горели красные пятна.
– Значит так, Андрей Иванович, произошел несчастный случай, и нам всем придется с этим примириться. Хотите вы или нет, а испорченные книги в ближайшие дни вывезут в макулатуру, держать их на складе нечего, там и так не повернуться. Никакой ревизии не будет, и уж тем более – никакой милиции. И скажите этому старому кретину Аксючицу, чтобы не лез не в свои дела, иначе я ему шею сверну.
Пашкевич смотрел на нее с немым изумлением, чувствуя, как его переполняет глухая ярость.
– Ты что, спятила? – наконец, с трудом сдерживаясь, произнес он. – Ты как со мной разговариваешь, дрянь этакая!? Забыла, кто ты, а кто я? Ну так я тебе это быстро напомню. Можешь убираться вместе со своим ворюгой сторожем на все четыре стороны, дурища несчастная!
Тихоня встала, перегнулась, опершись растопыренными пальцами на столешницу, через стол и впилась своими глазами ему в глаза. Взгляд у нее был острый и холодный, как у змеи, у Пашкевича мурашки по спине пробежали от этого тяжелого ненавидящего взгляда.
– Это ты забыл, кто я, ты, вонючий козел! – негромко, чеканя каждое слово, произнесла она. – Если ты еще хоть раз откроешь на меня пасть, я тебя с дерьмом смешаю и по стене разотру. Понял? Деловой... И никакие телохранители тебе не помогут, хоть десяток найми. Это я... я тебя сделала богатым и независимым. Я пять лет по лезвию бритвы ходила, чтобы набить твои карманы и твои счета, надежно запрятать их, ты для этого даже пальцем не пошевелил. Да, я пригрела этого придурка сторожа, да, он загнал налево пару тысяч книг, скотина, а потом, не посоветовавшись со мной, устроил наводнение, хотя, скажи он мне, я этого никогда не допустила бы. Я ему обязана жизнью, понимаешь? Жизнью... А такое не забывается. То, что он украл, я покрою, остальное спишем, не разоримся. Воровать больше не будет, не сомневайся, я уже с ним поговорила. Деваться ему пока некуда, так что на работе он останется. Объявишь выговор, удержим зарплату...
– Ах ты, дрянь! – взорвался Пашкевич. – Не зря Аксючиц сказал, что ты в этом замешана! Так ты мне еще и угрожать осмеливаешься?!
– Не угрожаю – предупреждаю. – Лидия Николаевна опустилась в кресло, сложила на коленях руки. – Я уже нахлебалась лагерной баланды от пуза, мне ничего не страшно. А вот ты поваляешься возле параши, покормишь вшей – враз поумнеешь. И не вздумай поручить Виктору или еще какому-нибудь отморозку замочить меня, у меня все наши делишки на дискете записаны, и дискетка у надежных людей спрятана. Если с моей головы хоть волос упадет, тебе крышка. Ты меня любить должен, пылинки с меня сдувать, а не всякие дурацкие ревизии назначать. Хватает у меня проверяльщиков и без Аксючица. Усек?
Пашкевич закрыл глаза. Откуда-то из небытия выплыла набитая потными от духоты людьми, как бочка селедкой, камера следственного изолятора, в которой он дожидался суда, и тошнотворная вонь параши,. и чугунная жесткость трехъярусных нар, и отвратительный вкус баланды из квашеной капусты, и белые жирные вши, которых его сосед с треском давил ногтями, и чувство отчаяния – все кончилось! Хорошо, что эта гадина ничего не знает о его прошлом. Ему-то казалось, что оно навсегда ушло из его жизни, как дурной сон, но, оказывается, ничто не уходит бесследно, все таится в каких-то неведомых уголках души, чтобы однажды воскреснуть и крутым кипятком плеснуть в лицо.
Пашкевич почувствовал, что его так и подмывает вскочить и ударить Тихоню. Но усилием воли он заставил себя остаться в кресле. В погоне за деньгами он сам дал этой сволочи неограниченную власть, и она была бы последней дурой, если бы не воспользовалась ею в собственных интересах. Но ведь он никогда не считал Тихоню дурой. Ясно, она готова на все, лишь бы прикрыть своего дружка: долг платежом красен. Нужно отступить. С Тихоней и ее дискетой в ближайшее время придется что-то сделать, нельзя жить на минном поле, но что и как – следует обдумать спокойно и тщательно, любой поспешный, неверный шаг может обернуться бедой. Судя по всему, эта падаль действительно ни перед чем не остановится.
Скрепя сердце, Пашкевич попытался все обратить в шутку.
– Чего ты развоевалась, как пьяная баба на базаре! Ну, случилось и случилось, могла объяснить все по-человечески, без угроз и оскорблений. – Он встал из-за стола, с трудом пересиливая отвращение, взял ее за руку. – Не надо, Лида. Я не сахар, но и ты не мед. Да, ты работала на меня, но и о себе, уверен, не забывала. Между нами только одна разница: ты мои счета знаешь, а я твои нет. Но что они есть и осело на них немало – не сомневаюсь. Начнут копаться в моих, доберутся и до твоих. Ладно, давай не будем становиться друг другу на горло. Мы с тобой в одной лодке, не надо ее раскачивать, тонуть никому не хочется, ни мне, ни тебе.
– Вы правы, Андрей Иванович, – Лидия Николаевна наклонила голову, чтобы не смотреть ему в глаза. – Не беспокойтесь, больше такое не повторится. С вашего разрешения я вернусь туда и все улажу.
Когда за Тихоней закрылась дверь, Пашкевич яростно ударил кулаком по столу и злобно выматерился. «Сука, – давясь слюной, шептал он, – паршивая грязная сука... Ты у меня еще попляшешь...»
Глава 24.
В подвале было парно и душно, как в бане. Вытяжки не работали, дверь не откроешь – холодный морозный воздух погубит то, что пощадила вода. Сантехники заменяли неисправную батарею. Женщины тряпками собирали с пола воду в ведра. Вскоре привезли и включили вентиляторы, стало легче. В проходах между стеллажами настелили доски. На них укладывали уцелевшие пачки книг из верхних рядов; книги намокшие, разбухшие, с отслоившимся, сморщенным целлофаном на обложках раскладывали на просушку. Весь этот разор людей, работавших на складе, не волновал – ни доходы, ни убытки издательства на зарплате сотрудников уже давно никак не сказывались. А чужое – не свое.
От сырого затхлого воздуха Григория замутило. Он зашел в подсобку, жадно попил ледяной воды. До конца дня он перебирал со всеми намокшие книги. Устал, как собака, по дороге домой задремал в автобусе. Чуть не проспал свою остановку.
Дома стоял дым коромыслом. Отмечали день рождения Аленкиного жениха, капитана-ракетчика Саши Новосельцева – Григорий умудрился начисто забыть об этом событии, хорошо хоть, заранее подарок купил. Саша привел двух своих друзей-военных, Аленка пригласила институтских подружек. Было весело и шумно.
Григорий для приличия посидел с часок за столом и ушел к себе работать. Татьяна, как это все чаще случалось с ней в последнее время, быстро упилась; сквозь закрытую дверь Григорий слышал ее резкий пронзительный голос, неестественно громкий смех. Молодежь пела, танцевала под магнитофон, к одиннадцати все разошлись.
Аленка пошла провожать гостей. Татьяна подергала ручку его двери, которую он предусмотрительно закрыл на ключ.
– Открой!
– Ступай спать, – попросил Григорий. – У меня очень много работы и нет никакого желания выяснять наши отношения.
– А у меня есть! – крикнула она и забарабанила в дверь. – Сейчас же открой, иначе я выбью твою проклятую дверь!
Он не ответил.
Минут двадцать она бесновалась за замкнутой дверью, потом стало тихо. Почему-то остро запахло бензином. Григорий оторвал голову от рукописи и увидел, как из-под двери по полу растекается темная лужица. Через мгновение она вспыхнула белым пламенем.
– Теперь ты откроешь, сволочь, или сгоришь заживо в своей конуре! – с ликованием крикнула Татьяна.
Он схватил одеяло и, обжигая руки, сбил огонь. Высадил обгоревшую дверь. Татьяна швырнула в него пустую бутылку из-под бензина. Григорий увернулся. Зазвенело разбитое стекло – бутылка угодила в книжную полку. Татьяна истерически смеялась, глаза у нее были пустые, как у Зямы, когда ему всюду мерещились крысы.
«Допилась до белой горячки, дура!» – подумал он, схватил жену на руки, затащил в комнату и бросил на тахту. Навалился на нее всем телом, зажал рукой рот, чтобы соседи не сбежались на ее вопли, дождался, пока она перестала трепыхаться и уснула. Вытер кровь с расцарапанного ее ногтями лица. Царапины были глубокие, то-то бабы в издательстве почешут языки. Смазал волдыри от ожога на руках постным маслом. Скомкал обгоревшее одеяло, собрал осколки стекла от книжной полки, выбросил в мусоропровод.
Вернулась Аленка. С ужасом посмотрела на обгоревшую разбитую дверь, на черные пятна на полу, на его окровавленное лицо. Закашлялась от запаха еще не выветрившейся гари. Татьяна, как пьяный мужик, храпела на тахте, укрытая простыней.
– Господи, – сказала Аленка, заломив тонкие руки, – какое счастье, что скоро я от вас уйду! Хоть на край света, только бы вас не видеть.
Григорий угрюмо молчал. Он любил дочь и многое вытерпел из-за нее. Для чего? Чтобы услышать эти полные ненависти и презрения слова?
Она была красива, его девочка, от него она унаследовала смуглую кожу, жгучие черные глаза, пышные, цвета вороньего крыла, кудри, и невероятные для девчонки трудолюбие и усидчивость, от матери – стройную фигуру, высокую грудь и осиную талию; растолстела Татьяна после сорока, раньше была тоненькой, как хворостинка. Дочь никогда не вмешивалась в их скандалы, тут же молча уходила к себе, но Григорий видел, как тяжело ей все это дается. Чем старше она становилась, тем раздражительнее и нетерпимее, равнодушнее и холоднее. Но он даже не предполагал, как опротивел ей родительский дом, опостылела родительская любовь.
– Как ты живешь с этой стервой? – сказала Аленка.– Ты – умный интеллигентный человек, а она вздорная базарная баба. Как ты прожил с ней целую жизнь, папа? Ведь она не уважает тебя и не любит. Она спивается, неужели ты этого не видишь?
– Между прочим, эта стерва – твоя мать, – ответил он, прижимая к щеке окровавленный платок. – Она несчастная женщина, у нее в семье пили все: и дед, и бабка, и отец с матерью. Боюсь, что это наследственное. Конечно, с этим надо что-то делать, но что? В больницу она не пойдет, сама уже остановиться не сможет. А почему я с ней живу? Я сам себе задавал этот вопрос тысячу раз, но у меня нет однозначного ответа. Наверное, люблю. И она меня любит. Правда, от ее любви меня частенько поташнивает, но... И еще потому, наверное, что не хотел, чтобы ты росла сиротой, ты же знаешь – я люблю тебя.
– Ты мастак говорить, однако... Извини меня, папа, но ты – тряпка. Мягкая и бесхарактерная. О такую тряпку очень удобно вытирать ноги. Вот она и вытирает.
– К сожалению, и ты тоже, – с обидой ответил он, – хотя у тебя я этого уж точно не заслужил. Извини, Аленка, мне не хочется продолжать этот разговор. Я завтра вызову мастеров, к вечеру все отремонтируют и приведут в порядок. Не переживай, Саша ничего не заметит.
– Да при чем тут Саша? – она с горечью махнула рукой. – Мне за тебя больно.
Ничего не ответив, он ушел на кухню. Сварил чашку крепкого кофе, сел к подоконнику, уставленному горшками с геранью, ушел в себя, как улитка в раковину.
Глава 25.
Несколько дней Пашкевич разбирал бумаги, накопившиеся за время его поездки в Америку. Договоры с переводчиками, художниками, внештатными редакторами и корректорами, поставщиками бумаги и переплетных материалов, счета из типографий, графики прохождения книг, отчеты о работе дочерних фирм, книжных магазинов и киосков, бухгалтерские отчеты о поступлении и расходовании денег, о всевозможных платежах – всюду нужен глаз да глаз. Он вдруг обнаружил, как выросли в последнее время счета за телефонные разговоры. Конечно, мелочь, но курочка по зернышку клюет... Надо с этим кончать. Никакой личной болтовни, пусть пользуются автоматами. Затребовать распечатку междугородних разговоров, наверняка найдутся любители пообщаться за счет фирмы с друзьями и родственниками в других городах, а то и за бугром. То-то будет сюрприз, когда Тихоня выставит этим говорунам счета. Вдобавок лишить премиальных, чтобы впредь неповадно было.
Он уже давно забыл о своем решении не сидеть целыми днями за столом, в обед ходить гулять в парк, в шесть возвращаться домой. Так можно работать только тогда, когда у тебя надежные помощники, а Пашкевич не доверял никому. Вот ведь ни Тихоня, ни Аксючиц не обратили внимания на телефонные счета, доверься им...
Разобравшись наконец с бумагами, он откинулся на спинку кресла. Вновь, как несколько дней назад, перед поездкой на дачу, навалилась странная слабость, сердце билось глухо, с перебоями. Постарел, что ли? Хотя, какая это старость... Скоро отцом станет. Смешно все-таки, в его возрасте люди становятся дедами. А может, и у него уже есть внук или внучка, кто знает. Если есть внук, он окажется старше сына.
Он рассеянно придвинул распечатку Анонима. Шевчук прав, сегодня публиковать эту гадость нельзя. Еще вчера было можно, а сегодня нельзя, какую бы прибыль это ни сулило. Газеты поднимут такой вой – не отмоешься. Раньше он смотрел на «Афродиту» лишь как на средство разбогатеть. Теперь, когда у него будет сын, наследник, относиться к фирме только как к насосу для выкачивания денег Пашкевич уже не мог. Издательство должно поменять и профиль, и облик, имидж, как сейчас говорят, стать солидной уважаемой фирмой. Прошлое с дрянными книжонками постепенно забудется, все знают, что в белых перчатках первоначальный капитал не накопить. Нет, сыну нужно оставить не только деньги, но и дело, настоящее дело, чтобы не рос богатым дебилом, прожигающим нажитое отцом, а стал продолжателем того, во что он вложил всю душу. Тогда, наверное, не так страшно будет умирать.
Спасаясь от внутреннего жара, он приоткрыл фрамугу. Остро потянуло холодком, ветер зашевелил волосы, дышать стало легче. Понемногу отпускала боль. Глядя на поток машин, медленно ползущих по узкой улице, Пашкевич думал о Шевчуке. Он уже знал, что у Риты случился второй инсульт и ее отвезли в больницу, может, именно поэтому Володя больше не вызывал в нем ни злобы, ни раздражения. Несчастный, в сущности, человек. «Может, пусть пока поработает? —подумал Пашкевич, чувствуя, как окунается в дрему. – Выгнать его я всегда успею. Жизнь поубавит в нем фанаберии, мечты о замке с рыцарской башней забудутся, нужен ему теперь этот замок, как рыбе зонтик. Конечно, незаменимых людей нет, но, если честно, без него «Афродита» как яйцо без соли. Просто надо не забывать время от времени накручивать им хвосты, и ему, и Грише, чтобы не слишком-то воображали о себе».
Слова расплывались, путались, за окном темнело, молчал телефон. Пашкевич вдруг почувствовал такое лютое одиночество, что ему захотелось заплакать. Но слез не было, только странная слабость и сонливость. Захотелось домой.
В машине он почувствовал себя совсем плохо. Мутилось сознание, перед светофором чуть не врезался в затормозивший впереди панелевоз. Бросил машину у подъезда, попросил охранника загнать на стоянку. Пошатываясь, словно пьяный, добрел до лифта, поднялся на свою площадку. Позвонил, чтобы не доставать ключи, и, как подкошенный, рухнул на коврик у двери.
Очнулся уже у себя в кабинете, на диване. Свежее накрахмаленное белье приятно холодило тело. Мягкий рассеянный свет торшера не слепил. Прямо над собой Пашкевич увидел бледное встревоженное лицо Ларисы.
– Слава Богу, – сказала она. – Я уже хотела вызвать «скорую». Что с тобой?
– Понятия не имею, – неуверенно пробормотал он. – Какая-то дурацкая слабость, тело словно ватное. Во вторник на даче кровь из носу хлынула, еле остановили, мутило последние дни. Сегодня знобит, понос, как будто чем-то отравился.








