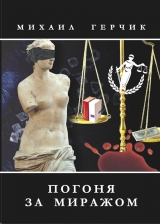
Текст книги "Погоня за миражом"
Автор книги: Михаил Герчик
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Это что же – любовь с первого взгляда? – Ей мучительно хотелось оборвать, закончить этот разговор, но он засасывал, втягивал ее в свою бездонную глубину.
– Вам хочется всему дать название, – скупо усмехнулся Виктор.– Может, и любовь, не знаю. Но все женщины, кроме вас, для меня словно вымерли. – Он прикурил новую сигарету. – Не рассказывайте о нашем разговоре Пашкевичу. Он выгонит меня, а я вдруг возьму да и вспомню, что не всегда был лопоухим щенком.
У Ларисы мороз пробежал по телу, таким усталым, равнодушным тоном это было произнесено.
– Ради Бога, о чем вы... – испугалась она.
– Не бойтесь, я его не трону. Пока он вам нужен, пусть живет.
– Виктор, – взмолилась Лариса, – забудьте обо мне. Это блажь, наваждение. Заведите себе хорошенькую девочку, и все как рукой снимет.
– Значит, вы ничего не поняли, – печально ответил он. – Я ведь сказал: от меня это не зависит. Рад бы в рай – грехи не пускают.
– Зря я затеяла этот разговор.
– А я рад. У меня будто камень с души свалился. Теперь вы знаете: я люблю вас. И буду любить всю жизнь. Я еще никого так не любил и уже не полюблю. Не улыбайтесь, пожалуйста, это правда. Я умею ждать – год, два, сколько понадобится. Но запомните: я дождусь. – Он встал, поставил свою чашку в раковину, холодный и отрешенный, только потемневшие разноцветные глаза его выдавали тщательно скрываемое волнение, непонятную ему самому душевную муку. – Когда я понадоблюсь, свистните. Прибегу, как собака. – Потрепал Барса по загривку и вышел.
Лариса медленно допила свой кофе. Подошла в коридоре к зеркалу и долго рассматривала себя. Что он во мне нашел, этот свирепый волк, которого любовь превратила в добродушного щенка, но который в душе так и остался хищником? Неужели я и впрямь еще могу на кого-то подействовать, как удар молнии? Бред какой-то. Вон уже и морщинки в уголках глаз, тоненькие, будто иголкой процарапали. Симпатяжка, не без того, и все, как говорится, при мне, но мало ли сейчас симпатяжек по сто баксов штука?! А ведь это добром не кончится. Парень явно не способен на легкую интрижку. Мало ты пережила, дуреха, еще хочется?
– Хочется, – беззвучно сказала она своему отражению в зеркале и звонко, на всю квартиру, рассмеялась. – Ну просто ужасно хочется. Никогда еще не спала с волками. С баранами спала, и с козлами, а с волком... – Глянула на часики. – О Господи, я ведь уже на работу опаздываю. – Схватила сумочку, ключи от машины и, не дожидаясь лифта, легко, как в юности, побежала на стоянку.
Глава 18
Не дождавшись от Ларисы платы за молчание, Клавдия тонко намекнула Пашкевичу, что хозяйка завела себе хахаля. Сто долларов, которые он сунул ей в карман, свидетельствовали о том, что намек Андрей Иванович понял.
Пашкевич все еще любил Ларису, хотя они прожили вместе уже восемь лет .В отличие от многих женщин, которых он знал и с которыми был близок, она не надоела, не приелась. С ней было не только хорошо спать, но, как сказал поэт, хорошо просыпаться. Она была умна и ненавязчива, не склочна и не мелочна, не тянула душу, когда ему хотелось помолчать, прислушивалась к нему и не стремилась его подчинить. Привыкнув во всем полагаться на себя и никому не доверять, только с ней он обсуждал свои самые рисковые дела и не переставал удивляться ее трезвости и обстоятельности. Красивая, элегантная, Лариса была душой любой компании, будь то книгоиздатели, финансисты, промышленники или государственные чиновники; Пашкевич часто ловил на себе их завистливые взгляды.
Уязвило его даже не то, что Лариса спуталась с его телохранителем, похоже, изменяла она ему и раньше. Пашкевич догадывался о ее очередном увлечении по неожиданно острым вспышкам любви к себе; иногда ему казалось, что так она старается загладить свой грех. Не без греха был и он, и это да еще невозможность представить без нее собственную жизнь, заставляло терпеть. Обидело и оскорбило то, что она занялась этим дома, такого еще не случалось. Это был прямой вызов ему, и сути этого вызова он не понимал. А все непонятное вызывало в нем чувство тревоги.
Спустя несколько дней после разговора с Клавдией, он привез домой специалиста по видеосистемам. В правом углу спальни висели голландские искусственные цветы – целый водопад вьющихся лиан с большими глянцевыми листьями и россыпью ярких крупных цветков. Среди них мастер установил крохотную видеокамеру, работавшую в автоматическом режиме. Через вентиляционный лючок провел в кабинет Пашкевича кабель, установил записывающую аппаратуру. А уже назавтра, замкнувшись у себя в кабинете, Пашкевич включил фильм, главными и единственными героями которого были Лариса и Виктор.
То, что возникло на экране телевизора, потрясло его. Он ожидал увидеть необузданную страсть, искаженные судорогой лица, блестящие от пота тела – что-то такое, чего он сам уже не мог дать Ларисе. Но ничего подобного не происходило. Просто мужчина и женщина ласкали друг друга. Долго, нежно и... целомудренно, что ли, он так и не смог подобрать иного слова. Сам Пашкевич бывал куда грубее с нею, его постоянно сжигал огонь нетерпения, и ему казалось, что Ларисе это нравится. Но, пожалуй, Виктор нравился ей куда больше. Пашкевич догадывался об этом по ее сияющим глазам, по нетерпеливому ожиданию, которое рвалось из них.
Он понимал, что смотреть эту кассету гадко, но ничего не мог с собой поделать. С жадным любопытством, словно ему было не сорок восемь, а раза в три меньше или вдвое больше, испытывая стеснение и боль в груди, он следил за тем, как его жена извивается в сильных, мускулистых руках любовника, как стремительно нарастает в ней возбуждение, слышал сдавленное дыхание, смешные и глупые слова, которые сам не раз нашептывал ей в такие мгновения, вскрики и стоны, которые сменял вопль облегчения, освобождения из томительного плена страсти, и глотал закипавшие в нем слезы от бессильной ярости и отчаяния.
Вжавшись в кресло, он снова и снова прокручивал уже знакомые до мельчайших подробностей кадры. Затем яростно запустил пультом в стену. Пластмассовая коробочка разлетелась вдребезги. Пашкевич почувствовал себя вывалявшимся в навозе. Все было грязным, липким, противным: руки, одежда, мысли. Он продолжал менять кассеты в видеомагнитофоне, но больше их не смотрел, складывал в сейф. Там они лежали, как мины, чтобы однажды взорваться и разнести все в клочья.
Глава 19
Короткий декабрьский день давно угас, хотя больше не мело. Пашкевич как включил утром свет, так и не выключал. Звонил телефон, в кабинет входили и выходили люди. Он отвечал на звонки, подписывал какие-то бумаги, утверждал и отвергал обложки новых книг, спорил с художниками и фотографами – работал.
Наконец выдалась свободная минута, и он подошел к окну. Раздвинул жалюзи. Да, дорога, похоже, скользкая. А впрочем, неважно. Тридцать минут – и ты в раю. Быстренько раздеться, достать из бадьи распаренный веник. Плеснуть на раскаленные камни из ковшика водички, настоянной на мяте, чтобы обдало, окутало нежным, как лепестки цветов, духом, чтобы все тело покрылось капельками пота. Растянуться на липовом полке, расслабиться, и пусть Женечка старается, отрабатывает деньги, которые он на нее тратит. Она это умеет.
Пашкевич представил Женю на полке в бане – налитые, дерзко торчащие груди с маленькими коричневыми сосками, которые он так любил ласкать, крутые бедра и длинные стройные ноги с красными ноготками, плоский упругий живот, – но привычного возбуждения не почувствовал. Тупая апатия навалилась на него, как медведь, и он понял, что выдохся. Надо бы полистать эти распечатки, но пусть остаются назавтра. Все равно толку от такого чтения не будет. Лучше что-нибудь перекусить. Совершенно не хочется есть, но нельзя же целый день – на чашке кофе утром и стакане молока в обед. Может, из-за этого такая слабость?
В стенной нише стоял большой холодильник, там было все, чтобы без суеты принять нужных людей. Пашкевич открыл, отрезал тоненький ломтик ветчины, пожевал и выплюнул – никакого вкуса. Как трава. А ветчина была свежая, сочная, в другое время умял бы кусок за милую душу. Заболел?
Наконец на лестнице послышался дробный стук каблучков – Женя. Посмотрел на часы, с досадой поморщился. Снова безвылазно просидел в кабинете больше десяти часов. Дурь собачья, и кому это надо? Так ведь и загнуться недолго.
Женя ворвалась в кабинет, как ветер. Раскрасневшаяся с мороза, с инеем на мохнатых ресницах и выбившейся из-под меховой шапочки прядке огненно-рыжих волос, была она чудо как хороша. Любуясь ею, Пашкевич даже о своем недомогании забыл. Женя бросилась ему на шею, чуть не сбив с ног, и закружила по комнате. От нее вкусно пахло снегом и духами «Черная магия», а радостное возбуждение казалось таким искренним, что у Пашкевича потеплело на душе.
– Хватит, достаточно, – добродушно проворчал он, отвечая на быстрые обжигающие поцелуи. – Ты сегодня красивая.
– Я всегда красивая, папуля, – засмеялась Женя, и на румяных щеках ее появились нежные ямочки. – За это ты меня и любишь.
– Ты опоздала на двадцать минут. Где тебя носило?
– Я же говорила – на консультации. Папочка, у меня потрясная новость. Сядь в кресло, а то упадешь, а мне не хочется, чтобы ты разбился. Особенно сейчас.
– Ну, ну... – он сел в свое кресло. – Выкладывай. Новые сапоги приглядела?
– Какие сапоги, о чем ты? Папуля, не пройдет и полгода, как у тебя появится сын. Мальчик. Уже в середине мая. Маленький Андрюшка Пашкевич. Ну как, здорово?
Что-то случилось с ним – он и сам не мог понять, что. Он засмеялся. Нет, захохотал. Во все горло, как не смеялся, наверное, уже тысячу лет. Он корчился в кресле от хохота, пока на глазах не выступили слезы. Вот это цирк! Вчера Некрашевич, сегодня – эта идиотка. Да они что, сговорились, что ли? Обалдеть можно!
Женя обиженно надулась. Она ожидала чего угодно – бурного восторга или грубой ругани, но только не смеха. Злого, издевательского. Резко повернувшись, она пошла к двери. Пашкевич догнал, схватил за руку.
– Ты куда? Постой, не валяй дурака. Сядь. Вот так. Ты же предохранялась.
– Пока не поняла, как ты мне дорог. И как одинок. И как мечтаешь о сыне.
– Откуда ты это взяла?
– Взяла... Я знаю, у тебя есть дочь от первой жены, но вы давно расплевались, так что ее как будто и нету. А твоя коза драная... Она никогда ничего не принесет тебе, кроме рогов. Не обижайся, это правда. А все мужчины мечтают о сыне. Мой папаша мать из больницы забирать не хотел, когда ему сказали, что у него девочка. Поэтому я так долго ничего тебе не говорила. Хотела узнать, кто у нас родится. А это определяют на двенадцатой неделе. Вот так, Андрей свет Иванович. Сегодня пришли результаты исследования. С сыночком тебя! Ну, а если тебе это смешно, я уйду.
– Никуда ты не уйдешь. – Пашкевич придержал ее за плечо. – Ты уверена, что ребенок от меня?
– Я ведь не дура, папуля. Это ты считаешь меня дурой, красивой телкой, а я совсем не дура, честно. Теперь ничего не стоит проверить, твой это ребенок или нет, достаточно одной капельки крови. Не твой – ну и вышвырнешь нас обоих из своей жизни. Но он – твой, Андрюшенька. Твоя кровинка, твоя крохотуля. Захочешь ты его признать или нет – дело твое, как-нибудь проживем. Но учти, аборт я уже не сделаю, поздно. Да и в любом случае не сделала бы. Я тебя люблю и его – погладила себя по животу – люблю; в конце концов это будет память о тебе, о нашей любви.
– Постой, не говори чепухи. Тебе же не завтра рожать, что-нибудь придумаем.
– Жестокий ты человек. – Женя прикусила губу. – Хоть бы обнял, поцеловал, спасибо сказал... Я к тебе из института как на крыльях летела, думала, ты от радости с ума сойдешь, а ты – «что-нибудь придумаем...»
Пашкевич почувствовал себя неловко. В его голове все еще не укладывалось, что он станет отцом, все это казалось дурацкой шуткой, розыгрышем, но глядя в потемневшие Женины глаза, он понял, что это правда, и что-то шевельнулось в его душе, робкое, задавленное, еще вчера казавшееся невозможным, несбыточным, и он почувствовал, что задыхается.
– Не в этом дело, Женечка. Ты не поймешь, слишком долго объяснять. Я такой, какой есть, и уже другим не стану. Просто я не ожидал этого и немного растерялся. Но это действительно прекрасная новость. Правда, я не сойду от нее с ума, мне еще надо к ней привыкнуть, но награды она заслуживает. Вот что... Я завтра же прикажу Аксючицу переоформить квартиру на твое имя. Дам денег – тебе теперь нужно хорошо питаться и следить за собой. Ты же знаешь, достаточно поскользнуться, грохнуться – и всякое может быть... И давай договоримся: с сегодняшнего дня – ни одной сигареты, ни грамма спиртного. Малышу это вредно. Узнаю – прибью.
– Я уже давно не курю. И не пью. Ты даже не заметил...
– Очень хорошо. А сейчас поехали на дачу. Нужно это событие отметить. Тебе нельзя, но мне-то рюмочку можно. С утра маковой росинки во рту не было.
Пашкевич оделся, замкнул кабинет, кивнул в коридоре уборщице, которая возилась с пылесосом, и они вышли на улицу. Он глубоко вдохнул свежий морозный воздух и невольно схватил Женю за руку, чтобы не упасть.
– Что с тобой, папуля? – испугалась она.
– Ничего, все в порядке. – Он потер виски, обретая устойчивость, но улица все еще раскачивалась перед его глазами, с прохожими, фонарями вдоль тротуара и автомобилями. Наконец все стало на свои места.
– Ты очень много работаешь, Андрюша, так нельзя. Уж я позабочусь, чтобы ты так не надрывался.
Пашкевич улыбнулся – она уже готова о нем позаботиться. Вот сучья порода! Дай палец, откусит руку. Но одернуть ее почему-то не захотелось.
– Ты все сказала? Тогда поехали.
Нет, Женя сказала ему далеко не все, о главном умолчала. А главное заключалось в том, что врачи, исследовавшие ее, посоветовали Жене немедленно избавиться от этого ребенка. Они обнаружили, что у него что-то там неладное с хромосомами, что он родится с болезнью Дауна. Ей рассказали и даже показали маленький фильм о том, какая это страшная, неизлечимая болезнь. Этот фильм привел бы любую будущую мать в ужас; она сто раз подумала бы, стоит ли обрекать и его, и себя на такие муки. Женя не колебалась и секунды. Она тут же сообразила: больного сына Пашкевич никогда не бросит. Несчастный ублюдок куда быстрее, чем здоровый малыш, заставит его развестись с Ларисой и жениться на ней. Кто знает, от кого он унаследовал эти поломанные хромосомы, в ее роду не было ни паралитиков, ни слабоумных дебилов, может, от Андрея Ивановича эта ниточка тянется? А чувство вины – штука страшная. За больным ребенком найдется кому ухаживать, а потом его можно определить в какой-нибудь санаторий, где за хорошие деньги за такими детьми присматривают пожизненно. Во всяком случае он не помешает ей жить в свое удовольствие. Нужно только притворяться, а притворяться она умеет.
Нет, не так глупа была Женя-Женечка, как это Пашкевичу казалось.
Глава 20
Женя рассказывала что-то веселое, то и дело взрываясь заливистым смехом; она вообще была хохотушка, и Пашкевичу это нравилось; но теперь он ее не слышал – внимательно следил за дорогой. «Господи помилуй, – думал он, – неужели у меня и вправду будет сын? Мне сорок восемь, через двадцать лет я еще буду вполне нормальным мужиком. А мальчишка станет взрослым, самостоятельным человеком. Похожим на меня не только лицом или там глазами, но и характером, волей, трудолюбием. Я дам ему блестящее образование, научу всему, что знаю и умею сам, и он продолжит мое дело. Что ждет «Афродиту» после моей смерти? Крах, распродажа. Мне ведь даже оставить то, что я нажил, некому. Ларисе, чтобы она промотала со своим хахалем? Когда-то я расшвыривал деньги, чтобы потешить гордыню, что было, то было, но на себя я всегда тратил копейки. Меня никогда не привлекали роскошные отели и рестораны, Багамские или еще какие-то там острова; пять раз побывав в Америке, я ни разу не съездил во Флориду или в Лас-Вегас, не заглянул ни в один музей. Я ездил туда не отдыхать и развлекаться – работать, а отдыхал на Нарочи или в Озерище – с удочкой и спиннингом, с кошелкой для грибов, с банькой и крынкой парного молока. Моя жизнь, моя работа давно потеряли смысл, я этого не осознавал, но чувствовал – шкурой, подсознанием. Именно потому, что остался один. На тот свет с собой ничего не унесешь, как пришел в жизнь голеньким, так и уйдешь, разве что шикарный гроб купят и шикарные поминки закатят, но что тебе до этого?! Вместе со мной ушел бы весь мой мир – все, что я любил, создавал, пестовал, из-за чего рвал жилы – свои и чужие. А так он останется. И продлится в моем сыне. И неважно, кто будет его матерью – Лариса или эта кукла. Женя, похоже, и впрямь не так глупа, как кажется. Если я решу на ней жениться, всем придется с этим смириться, как смирились с женитьбой Некрашевича».
Дача и подъезд к ней были ярко освещены – сторож Михалыч ждал хозяина.
Жадно хватая пересохшими, потрескавшимися от внутреннего жара губами сладкий морозный воздух, Пашкевич остановился на высоком крыльце. Вдоль дорожки громоздились высокие сугробы, в безжизненном свете фонарей снег казался не белым, а синеватым, черные тени от берез, сосен и елей вычерчивали на нем сложные геометрические узоры. Небо было чистым и звездным, среди звезд медленно плыла утлая лодочка молодого месяца. Слабый ветерок осыпал с елей снег, обледеневшие ветки берез тихонько позванивали. Похоже, к утру мороз усилится.
Пашкевич запрокинул голову, нашел на привычном месте ковш Большой Медведицы, в который цедился слабый лунный свет, и долго вглядывался в мерцающие звезды, ощущая странную слабость во всем теле. Не хотелось ни бани с ее духмяным паром, ни Жени с ее юными прелестями, ни пить, ни есть. Стоять, задрав голову, погружаясь, как в обморочный сон, в тишину, смотреть на мерцающие в темно-фиолетовом небе звезды и ни о чем не думать. Какая-то жилка напряженно дрожала в нем, словно озноб, но это не было ознобом, наоборот, ему было жарко, душно, хотя он так и не застегнул пальто и не надел шапку.
Наконец Пашкевич прошел в баню. В комнате отдыха горел камин, на столе тихонько сипел электрический самовар, стояли тарелки с тонко нарезанной розоватой семгой, ветчиной и копченой колбасой, свежими помидорами и огурцами. Среди бутылок с чешским пивом серебрилась горка воблы.
– Может, сначала перекусим? – предложила Женя. – Хоть чуть-чуть. Я страсть какая прожорливая стала в последнее время.
– Давай, – согласился Пашкевич, хотя при виде расставленной на столе еды его снова замутило. – Только помни уговор: не пить ничего, кроме чая.
– А пиво можно? – жалобно спросила Женя.
– Забудь, – жестко ответил он.– Открой колу или минеральную.
Он плеснул себе в бокал коньяка, налил Жене шипящей кока-колы.
– Будь здорова! Теперь это самое главное. Будешь здорова ты, будет здоров и малыш.
Женя с жадностью набросилась на еду. А Пашкевич взял свой бокал и сел в качалку перед камином, в котором угорались толстые поленья. Березовый жар обдал его. Он отпил из бокала глоток, почувствовал, как коньяк ожег пустой желудок, покалывающим теплом разлился по телу. До родов пять месяцев. За это время нужно будет принять решение. Может, самое важное в жизни. Ну, что ж, он никогда не боялся принимать решения. В сущности, это будет просто. Показать Ларисе пленку из сейфа. Она достаточно умна и горда, чтобы все понять.
Он скосил глаза на Женю, с аппетитом уплетавшую все подряд, и впервые подумал о ней как о возможной жене. А вообще-то ничего страшного. Юная, красивая, правда, немного вульгарная, но это пройдет. Он выдрессирует ее. Никакой светской жизни, никаких приемов, никаких хахалей... Ребенок, семья, безусловное подчинение. Каждому его слову, взгляду, жесту. То, чего он даже не пытался добиться от Ларисы: понимал – не выйдет, не тот характер. И все-таки мысль о том, что с Ларисой, вероятно, придется расстаться, что Женя, эта хитрая стерва, подловила-таки его на крючок, заставляла Пашкевича страдальчески морщиться, щурясь на огонь.
– А ты почему ничего не ешь? – Женя с куском холодной курицы забралась к нему на колени. – Тебе сегодня надо быть сильным. Знаешь, как я по тебе соскучилась! Ну-ка открой рот.
Она запихнула ему в рот кусок белого мяса. Пашкевич пожевал, с усилием проглотил. И тут у него из носа хлынула кровь.
Женя сдавленно вскрикнула и соскочила с его колен.
– Что с тобой, папуля?!
– Полотенце! – прохрипел он, запрокинув голову и зажимая нос окровавленными пальцами. – Быстрее!
Побледневшая от страха Женя принесла полотенце.
Кровь пошла в горло, Пашкевич чувствовал ее солоноватый привкус.
– Намочи в холодной воде, дура! Не стой, как истукан. Михалыча позови, Агафью. Пусть снега, льда...
Женя пулей вылетела в коридор. Набросив шубку на плечи, помчалась за сторожем. Пашкевич прижал мокрое полотенце к лицу.
Прибежали встревоженные Михалыч и Агафья, принесли в тазике куски льда. Агафья набила им круглый резиновый пузырь с широким горлом. Сняли с Пашкевича запачканные кровью пиджак и рубашку, осторожно уложили на топчан, укрыли до подбородка пушистым пледом. Агафья влажным полотенцем вытерла ему лицо и руки, приложила к переносице холодный пузырь.
Кровь тоненькими ручейками стекала с уголков рта. Женя забилась в кресло и плакала, жалобно всхлипывая. Агафья бросила ей чистое мокрое полотенце, она вытерлась, принялась оттирать пятна на платье. Платье было безнадежно испорчено. Женя вышла и все сбросила с себя, вернулась в банном халате. В ее больших синих глазах бился страх. А вдруг он откинет коньки, вот будет фокус! Придется просить, чтобы устроили преждевременные роды, без Пашкевича ей беременность и на фиг не нужна. Хоть бы успел квартиру на нее переписать! Давно просила, так ведь нет, жадоба несчастная... Пока за горло не взяла, все шуточками отделывался. «Завтра дам команду Аксючицу...» Господи, дай ему дожить хотя бы до завтра, иначе снова общежитие, да и то если повезет, если есть места, а иначе – частная комнатенка, пока не подкатится еще какой-нибудь старый боров. Сколько кровищи натекло – ужас! А если бы все это случилось попозже, в постели?..
Пашкевич видел Женю краем глаза и отчетливо понимал, о чем она думает – все отражалось на ее испуганном, опухшем от слез лице. А ты чего ждал, угрюмо усмехнулся он. Конечно, она прежде всего думает о себе, боится за себя. Аборт уже делать поздно, веселенькая перспектива – остаться с байстрюком на руках без копейки. Не дай Бог, со мной что-то случится прямо сейчас, в эту ночь, Аксючиц ее завтра же вышвырнет из квартиры. Да нет, глупости, ничего со мной не случится. Просто лопнул какой-то сосудик от перенапряжения – слишком много работаю. Но это – хороший урок. Надо завтра же связаться с Тарлецким и сделать необходимые распоряжения. Плевать на Женечку, но она носит моего ребенка. А я не могу допустить, чтобы мой сын рос нищим и заброшенным. Если что – Тарлецкий станет его опекуном. Бред, конечно, но все нужно предусмотреть. И все-таки откуда столько крови? Бывало, в детстве расквасишь нос, через минуту-другую все проходит. Что это – первый звоночек? Сорок восемь... Как говорят врачи, опасный возраст.
От холода лицо словно одеревенело, больно было пошевелить губами, но кровь вроде остановилась. Пашкевич осторожно повернул голову, сплюнул сгустки.
– Слава Богу, унялась, – подтвердила и Агафья, приподняв его голову. Вылила из пузыря воду, добавила льда. – Подержите еще чуток на всякий случай. Париться вам сегодня – ни-ни. Полежите часок, а потом мы вас в спальню перенесем.
– Мне и здесь хорошо, – ответил он. – Отведите Женю в спальню, ей отдохнуть надо. А мне принесите еще одно одеяло, что-то меня познабливает.
– Никуда я не пойду! – вскинулась Женя. – Я буду с тобой и сама все сделаю.
Она принесла из спальни шерстяное одеяло, набросила его поверх пледа и заботливо подоткнула края.
– Тогда мы пойдем. Но в случае чего, – повернулась к Жене, – зови нас.
– Спасибо, – сказал Пашкевич. – Не беспокойтесь, все нормально. Отлежусь, к утру буду как огурчик.
Глава 21
После работы Григорий поехал проведать Шевчука. Днем он рассказал ему по телефону о разносе, который устроил редакции Пашкевич, но разговор был коротким; за соседним столом, делая вид, что поглощена работой, Екатерина Прокопьевна Веремейчик внимательно прислушивалась к каждому его слову. Григорий знал, что уже завтра об этом разговоре будет доложено наверх.
Открыл ему Алеша, рыжий и долговязый, как отец. Григорию нравился не по годам серьезный и любознательный паренек. Он знал, как переживает Шевчук за Веронику, радовался, что хоть с сыном у друга все в порядке, и немножко завидовал: родив Аленку, Татьяна больше и думать о детях не хотела. Аленка уже училась на четвертом курсе института иностранных языков; скандалы, которые пьяная жена закатывала ему, не стесняясь дочери, сделали ее раздражительной и грубой; Григорий был уверен, что в душе она презирает их обоих. Он любил свою дочь, это была одна из немногих ниточек, привязывавших его к Татьяне, и страдал, видя как Аленка все больше отдаляется от него.
Шевчук не выглядел больным. Он сидел за столом и читал оригинал-макет книги Троцкого о Сталине – в прошлом году они затеяли серию «Тираны», уже выпустили книги о Гитлере, Муссолини, Ленине, Мао Дзэдуне, Пол Поте, все они пользовались большой популярностью.
Григорий подробно рассказал о своей командировке в Москву, об утреннем разговоре с Пашкевичем.
– Давно я себя так мерзко не чувствовал, как в эту поездку. Никто не хочет разговаривать, смотрят, как на вора. Пираты, хапуги... Мы же его предупреждали: время меняется, надо что-то делать. В ответ одно: давай, давай! А теперь мы с тобой оказались козлами отпущения.
– А ты думал, что он признается в своей вине? Как бы не так! – Шевчук побарабанил пальцами по столу. – И когда же заклание?
– Через две недели. Он хочет собрать совет учредителей.
– Поближе к новому году. Любит устраивать людям подарки.
– Любит. Он... Он предложил мне продать тебя, Володя. Открытым текстом.
– Ничего удивительного, Андрей всегда действовал напролом. И сколько же по нынешнему курсу стоят тридцать сребренников?
– Тысяч пять с хвостиком, – пожал плечами Григорий. – Прогрессивка за ноябрь и дивиденды за четвертый квартал и по итогам года.
– Прилично... – задумчиво произнес Шевчук. – Ну, что ж, Гриша, раз он задумал меня выгнать – выгонит, большинство ему обеспечено. С тобой или без тебя. Ты нужен лишь для того, чтобы больнее унизить меня. Вот, мол, даже лучший друг тебя продал. Ну что ж, пойдем ему навстречу. Вали на меня все: Уокер, авторские права, бестселлеры... Но не сомневайся: следующий на вылет – ты. Для него это стратегическая линия – избавиться от учредителей. От тех, кто слишком хорошо знает его и его делишки и к тому же осмеливается иметь собственное мнение. Недавно мне позвонил Борис Ситников – он заставил его подать заявление. Бориса, который порвал сердце на этой проклятой работе, который, может, сделал для «Афродиты» больше, чем мы все вместе. Ничего святого – вот как это называется. Кстати, Андрей в курсе, что мы заказали переводы еще нескольких романов Энни Уокер? Люди ведь не виноваты, что его домработница...
– Я всех обзвонил и дал отбой. А что я следующий на вылет – не сомневаюсь. – Григорий снял очки, без них большие близорукие глаза его казались нагими и беззащитными. – Володя, я не Аника-воин. Я маленький человек. Приспособленец и трус. Да, да, не спорь, жалкий приспособленец и трус. Я всю жизнь приспосабливался к этому подлому строю, который не считал меня за человека только потому, что я еврей. Говядина второго сорта... Но я никогда не предавал своих друзей. Так что через две недели мы уйдем из «Афродиты» вместе. Да, да, вместе, не спорь. Не пропадем, сейчас каждый день открываются новые газеты, журналы, издательства. Где-нибудь да приткнемся. Правда, таких заработков уже не будет, но, как сказал классик, не в деньгах счастье.
Григорий замолчал, тяжело осунувшись в кресле. Наконец-то он почувствовал, как свалился с его души камень, и душа начала потихоньку расправляться, оживать. Он заложил руки за спину, чтобы Шевчук не увидел, как вздрагивают пальцы – давно обдуманное решение далось Григорию нелегко. Он понимал, что Татьяну оно приведет в бешенство, она уже привыкла к большим деньгам, даже их ей постоянно не хватало, что уж говорить о скромном окладе литсотрудника. Да и то, если удастся устроиться. Ему уже за пятьдесят, не самый подходящий возраст, чтобы искать новую работу. Всюду требуются молодые, энергичные, а он за пять лет в «Афродите» так вымотался, словно провел их в каменоломнях или на лесоповале. Семья, конечно, развалится, а впрочем, что это за семья?!. Больной брат – его семья, а вовсе не жена и не дочь.
Шевчук вышел и вскоре вернулся с бутылкой водки и тарелкой крупно нарезанной колбасы. Сдвинул со стола бумаги, расстелил газету, как когда-то в общежитии, поставил хлеб, банку шпротов, остывшие котлеты.
– Извини, Рита совсем плоха, не будем ее тревожить, пусть лежит. Она бы убила меня за такой прием, но мы как-нибудь обойдемся без китайских церемоний, правда?
– Я хочу зайти к ней, Володя.
– Конечно, зайдешь, поболтаешь, она будет рада. И не косись на бутылку, я ведь знаю, какой ты выпивоха. Но рюмку осилишь, ничего с тобой не случится. А мне просто необходимо выпить.
– Наливай, – согласился Григорий. – А знаешь, мне тоже хочется надраться. Никогда не хотелось, а сейчас хочется.
Они молча чокнулись, выпили, пожевали. Шевчук закурил.
– Я разочарую тебя, дружище, – сказал он, пуская к потолку сизые кольца дыма. – Я понимаю, как ты упиваешься своим благородством, но все это ни к чему. Во-первых, эти две недели... до совета учредителей... их еще надо прожить. Жизнь – штука странная, всякое может случиться. А во-вторых, если уж придется, уйду я один, ты пока останешься.
– Я тебя не понимаю, Володя. – У Григория снова запотели очки, он снял их и потряс головой; вид у него был растерянный и обиженный. – Что за игру ты затеял? Или ты на самом деле считаешь меня подонком? Тогда нам не о чем говорить.
– Сиди! – резко бросил Шевчук, заметив, что он встает. – Я знаю, что говорю и что делаю... Если он и впрямь выгонит меня, я создам собственное издательство, чего бы мне это не стоило. Даже если придется заложить квартиру и дачу. Вот тогда ты и уйдешь. Мы соберем свою команду и утрем ему нос. Но до этого... Какой смысл в том, что без дела будешь болтаться и ты? Понимаешь, мне очень важно, чтобы он не подписал этот идиотский приказ, не обобрал всех под праздник. Пусть отыграется на мне, но зато не пострадают люди. И ты в том числе. А он так и сделает, если поймет, что ты сломался. На моей совести и без того много гадостей, не хочу, чтобы говорили, что из-за меня еще раз пострадала вся редакция. Потерпи ради меня.








