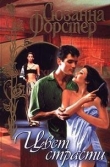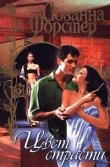Текст книги "Хорошо Всем Известная (СИ)"
Автор книги: Михаил Литов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
– Посмотрите на него! Ведь это же вылитый Митенька Парамонов, наш незабвенный родич, наш, можно сказать, всемерно чтимый герой!
– Хорошо, расскажите о Парамонове, – сказал профессор.
Рассказ старой женщины был недолог и в высшей степени содержателен. Всему голова, всем родич, всякому здешнему отец родной – Митенька Парамонов. Обернувшегося этнографом Хренова завалили пожелтевшими фотографиями мифологического существа, чьи бренные останки давно уже покоились на местном кладбище. Голова... Отец родной... Покончив с чтениями, люд внезапно определился. Был форум, и звучал унылый рассказ залетного литератора, но это уже в прошлом, а настоящим сделался ошеломительный житейский подвиг героя, оплодотворившего целую деревню. Выпучив глаза, долго, с тягостной крестьянской медлительностью исследовали действительность на предмет сходства между той кучей дерьма, в которую превратился Марнухин, и запечатленным на плохонькой фотографии бравым молодцем. Что и говорить, сходство поражало. Начиналась агора, требовалось воспеть и, взяв за образец, как-то повторить подвиг. Несуетно, мягко навалились теплые бабенки на расползшегося отпрыска, предполагая вынашивать, ставить на ноги. Но профессор помешал осуществлению их планов.
– Ваш герой, – рассудил он, – по возрасту годится этому малышу в отцы, а когда б восстал из могилы, так сошел бы и за прадеда. Намек вычерчивается ясно, и историческую параллель провести нетрудно. Виновник дней. И этого достаточно. Больше ничего не делайте.
***
– Но если Митька виновник дней, – заметил чуть позднее муторно размышляющий Петя, – то странная выходит вещь и требует поверки, потому как Манечка, слышал я недавно, имела с ним знатные шуры-муры, так что же, стало быть, Манечка ейная, писателя этого, мамаша?
– Манечка что заноза, которая всегда и всюду впивается, и с кем она только не водила шуры-муры! Даже, думать надо, с ейным истинным отцом тоже. Но в данном случае, – возразила Катя, – она, скорее, старшая сестра, если брать по возрасту.
– Бабища всем хорошо известная не с лучшей стороны, это правда. Но что возраст? Возраст не помеха. Она могла данного писателя ровно в четырнадцать лет родить.
Марнухин уныло вслушивался в эти высказывания.
– У меня и свои родители налицо, мне другие не нужны, – вставил он как бы нехотя.
– Как ни крути, а все равно получается жуткий всплеск и затем поток кровосмешения, – возвестил Петя. – И я требую, чтобы в моем доме больше грехопадений не случалось. Чтоб никакой, тем паче, кровосмесительной напасти.
– Дом и мой, но я тоже требую, – веско припечатала Катя.
Профессор сказал:
– Прежде всего, надо снять с этого незадачливого писателя всякую ответственность за его дерзкую попытку помыться в одной с мамашами и папашами баньке. Даже и в глазах соседей он теперь стал тем, кому не запрещено ею пользоваться. А все, знаете ли, мифотворчество, в частности всплывшая нынче парамоновщина.
– У меня с ним свои счеты, – возбужденно вставил Гордеев, внезапно появившись.
– Я помню, – продолжал профессор, – одну древнюю историю, когда за судебное дело взялись старейшие и мудрейшие. Подобному же греховоднику они присудили не казнь, не черную погибель, а жизнь по славной и ко многому обязывающей легенде. Подсудимый смотрел на важничающих старейшин как на детей малых, а между тем они были из той младенческой поросли, чьими устами глаголет истина. И вот что они молвили, натужно обрисовывая биографию его прошлого... Вот что сказали эти идеологи, поскрипывая сухими бескровными губами и морщинами выкладывая на испепеленных солнцем лицах символические узоры мудрости: проезжая как-то во хмелю через нашу деревню, один старик и не заметил, как его детище выпало из телеги и затерялось в капусте. Как не посчитать упавшее в капусту потерянным навеки? Капуста она такая, заберет – и концов не сыщешь. Но много лет спустя малый все-таки нашелся. О чем это свидетельствует? Сверхъестественное вмешательство, чудо! – закричали все дружно.
Получив от старейшин превосходную капустную биографию, греховодник как бы в естественном порядке получил вместе с ней и непочатую бутылку водки. Все правильно. Сын почтенного старца, к тому же не сгинувший в капусте. Самого старца давно уже не было на свете. Нельзя сказать, что нашему герою сразу понравилась его новая роль. Но он вполне примирился с ней, осушив бутылку. Долго он обжирался капустой, запивая ее живительной влагой; умирал и воскресал, иначе сказать, разыгрывал перед навсегда потрясенными зрителями большой спектакль. Расхрабрившись же до невозможности, огласил указ: всех баб ко мне в палаты!
– Не тут-то было! – встрепенулся Петя.
– А ты, старый хрыч, откуда знаешь?
– Мы и не такое слыхали, так что знаем.
– Во избежание недоразумений нахала тут же вывели за околицу и с проходящим караваном отправили в неизвестном направлении, – скомкано закончил свой рассказ профессор.
Вглядевшись в Манечку и прочитав на ее личике абсолютно беззаботное выражение, Марнухин сказал с горечью:
– Эх ты... еще подружка называется! А тебе не приходит в голову, что твои мужья, бывший и нынешний, еще станут, чего доброго, взрывать петарды на могиле Митеньки Парамонова?
– Глупости! – воскликнула Манечка. – Алексей Сергеевич не такой, он необычайный и вообще на пути к полному духовному росту и самосовершенствованию... А Антон Петрович слишком глуп, не додумается, да и страшны ему петарды, он по ночам вскакивает, как бы слыша их взрывы. Вот послушай, что он, в частности, пишет мне в своем письме после одного такого взрыва. – Достав из сумочки аккуратно сложенный листок бумаги, Манечка с бережностью развернула его, отвела Марнухина в сторону и прочитала чувственно:
– Сравнивая мысленно хронику пелопонесской жизни пятого века до рождения Христова с твоим, Манечка, существованием, прихожу к печальному выводу об идентичности и однообразии дикарства и надеюсь только на появление недюжинного таланта, который ярко и правдиво напишет с тебя, давая волю горестным оценкам действительности, неповторимый, неподражаемый памфлет. А пока смотрю пессимистически, удрученный повальным писательским голословием. Почему меня постоянно будоражат прямо в нутре, взрывая адские снаряды, а тебя как бы вообще ничто не касается? Да, вот я и говорю, нужен писатель, который не увидит, вопреки мнению всяких сомнительных профессоров и разных там кабинетных мужей, ничего светлого в твоем образе и верно сочтет, что ты своим распутством отравила мир.
Позволь заметить, дорогая Манечка, – заметить в некоторое опровержение вышесказанного, – что среди массы профессоров есть и достойные похвалы, те, кем и впрямь стоит гордиться. Но окопавшийся в Куличах Хренов явно нескладен, по сути своей враждебен здравому смыслу, а может быть, кто знает, и кровав. Выражается он небрежно, часто говорит глупости, многие его суждения выглядят наивными, особенно на фоне попыток нашего времени придти к универсализации и постичь бытие уже не как разные напластования и разветвления, а в виде простой и недвусмысленной формулы. Внушает глубокий пессимизм, что ты, несмотря на такие несообразности, якшаешься с ним. Но я говорю это просто так, в порядке скороспелой и поверхностной критики даже не самого Хренова, а чего-то вообще хренового, свойственного не ему одному, а и многим другим профессорам, как и людям вроде нас, которые ведь, что греха таить, вовсе не прочь, чтобы их тоже считали профессорами.
По человечеству если, так этот Хренов еще далеко не самых худший среди себе подобных, один из тех редких в наше время людей, чьи рассуждения я готов выслушать в полном объеме, а не только одно-два для знакомства. Он, в свое время поразивший меня небывалой предприимчивостью, это когда он быстренько сориентировался, чтобы пожить вместо меня в моем доме, он часто говорит то, что хотели бы сказать многие из нас, когда б из страха выдать свою глупость не говорили всякие напыщенные речи. Мешает ему одно – потуги предстать этаким профессором в сумасшедшем доме, где все мы, с его точки зрения, пребываем.
Вытаращила глаза Манечка, упирая их в своего друга, торжествуя и от него ожидая бесконечной и беззаветной радости перед массой прозвучавших откровений.
– Не думаю, что Антону Петровичу удалось создать текст, достойно изображающий твою распущенность, – смущенно произнес Марнухин.
– А зря ты так думаешь, – усмехнулась девушка. – Смотри, ведь тут и для тебя путь. Из рассуждений моего супруга можно сделать вывод? Можно. Не только профессор, но и сам Антон Петрович готов объявить наш мир сумасшедшим домом. Вот тебе и вывод.
– Не ново!
– Значит, ты, если ты действительно хочешь завоевать мое сердце, должен преодолеть мировое безумие и в обновленном уже мире добиваться того, чтобы все мы стали как нельзя лучше. Зачем же ты вместо этого ополчился на письмо бедного Антона Петровича? Какое недомыслие! Я, вот, подумываю раз и навсегда вернуться к нему, раз он такой, оказывается, умный и просветленный.
– А как же я?
– А что ты?
– Ведь я люблю тебя. И если ты так думаешь об Антоне Петровиче и даже настроена вернуться к нему, он, выходит, для меня соперник в борьбе за счастье...
– Но в чем ты видишь счастье? – живо перебила Манечка.
– В любви с тобой, в нашей с тобой любви, а Антон Петрович, получается, мне не указчик и никакой не учитель жизни, и я не могу так просто стать реформатором, как ты это обрисовала.
– Ну, эту проблему наверняка можно как-то решить.
– Уф! Уф! – громко отдувался в отдалении Алексей Сергеевич.
Марнухин тут же решил, что этот господин с некоторой нарочитостью выступил внезапно из тени и что это, пожалуй, чем-то нехорошо. Он похолодел. Не внутренне, нет, какого-либо ужаса и страха не было, а похолодело его лицо, обращенное к девушке, оно стало холодным и жестким, поскольку Марнухин в это мгновение словно бы преобразился в казенного человека, расследующего историю ее жизни. И вот он взял быка за рога:
– Напрягись хоть раз в жизни, шевельни извилинами, вспомни все. И как все было, и как одно событие следовало за другим, и когда я в последний раз видел тебя раздетой, и не на пальцах ли считать, сколько раз ты мне отдалась!
Манечке не пришло в голову выкручиваться, прикидываться, будто она не понимает, чем вызван град обрушившихся на нее вопросов. Особый и фактически определяющий курс на поиски ответа резонанс вызвали марнухинские кощунственные нападки на недостаток раздеваний и отдачи. Собственная нагота Манечку занимала гораздо больше, чем Марнухин мог себе представить или чем имели значения в ее глазах десяток таких, как Марнухин.
– Не спорить со мной! Цыц! – ущемлено вскрикнула она. – Всего было в достатке, в изобилии, и нечего меня распекать!
– Припомни лучше, и не путай меня с другими.
– Кое-что припоминаю, – сказала Манечка, морща лобик, – и получается складно... Но я не дурочка и понимаю, что моя жизнь ничем не краше засаленной колоды карт, и если брать за основу события, их можно тасовать, как кому заблагорассудится, и не удивительно, что этим так часто занимаются отъявленные шулера. Но если за основу взять факт телесной наготы, то его ни с чем и ни с кем не спутаешь, и в плане наготы конкретной, явной и безусловной ты мне мозги при всем старании не запудришь. Да и я на ложный след не наведу, очень уж она убедительна и незабываема в каждом отдельно взятом случае. Слишком много всего в ней воплощается и вырисовывается, многое она обещает, и на редкость много в ней стимулов, и что же, как не стимулы, я давала тебе, примерно сказать, в тот день, когда ты повел себя более чем странно, а когда уходил, из твоего кармана выпала бумажка. Я подняла ее, думая потом изучить, но я была так расстроена, что совершенно забыла о ней. Я и подняла-то ее машинально и, можно сказать, небрежно, как бы в полном воображении, что ничего хорошего ты все равно не напишешь.
– Так, не путай... – пробормотал Марнухин. – Не закручивай... Опять карусель какая-то... Почему ты решила, что я на той бумажке что-то писал?
– Мне это навернулось на ум. Если не сразу, так со временем.
– Но как же вышло, что сейчас из кармана ты достала письмо своего мужа, а не ту мою бумажку?
– Позвольте мне, – подскочил вдруг Алексей Сергеевич. – Позвольте напомнить простую истину о том, как оно всегда-то и выходит, то есть, например, в связи с предположенным закручиванием. Это ведь когда механизм уже расшатан и надо подтянуть, или даже, страшно вымолвить, закрутить гайки, затянуть потуже. Так полегче бы, а? Раскрепощено как-то, но и с оглядкой. Баловство – это пожалуйста, но в пределах разумного, и тогда прояснится польза спокойной последовательности, тихого, но уверенного хода вперед и вперед, мощного течения нашей славной реки жизни. Я мечтаю о времени, когда люди поймут, наконец, что смысл и величие вовсе не в том, чтобы сворачивать и закручивать. И совсем никакого в этом смысла. А развертывать, распространять, простирать в некую безбрежность, даже в самое бесконечность – вот это вещь, вот это дело так дело, и в этом вся суть! Так нам бы, черт побери, побольше умелости, искусства. Нам бы утонченности, и чтоб гибче, изощренней... А то пока смех один, эстетики – с гулькин нос.
– А я считаю, что Манечка срезалась на письме, – строго возразил Марнухин. – Это по существу дела...
– Вы в корень смотрите, а не по верхам. У нее неожиданность получилась с другим письмом мужа. Тем, прощальным. А что вышло сейчас, в этом никакой неожиданности нет.
– Это совсем уже ничего не объясняет... Вы, значит, ожидали чего-то подобного?
– Напротив, – просветленно усмехнулся Алексей Сергеевич.
– Минуточку! – крикнул Марнухин. – Я сказал, что объяснения по-прежнему нет, и я не отступлюсь от своих слов... потому что совершенно невозможно объяснить ваше присутствие здесь и сейчас!
– И это не ребус. Имею права. И у меня, кстати, куда больше, чем у вас, оснований задаваться вопросом, когда Манечка в последний раз раздевалась. Или одевалась. Отдавалась. Или не отдавалась. У вас как-то судорожно и трагически выразилась потребность видеть нашу Манечку в ее первозданном виде, в чем, так сказать, мать родила, а я до того в этом отношении напитан и в каком-то смысле даже закормлен, что могу позволить себе общие рассуждения. Предисловие ли, послесловие – в любом случае они будут деликатны, приятны для окружающих и не поставят меня в смешное положение. Сказать, что Манечка вполне прилично была одета в тот роковой день, когда Антон Петрович едва не отправил меня в преисподнюю, значит сказать правду, но не всю. Хорошо одевалась она, когда на постоянной основе жила со мной, а у Антона Петровича ходит в обносках. Но не далее как полчаса назад, вон там, в соседнем помещении – не возьму на себя смелость как-либо поименовать его – после того, как мы с ней отлично провели время в постели, я подарил ей отличное платье.
Марнухин схватился за голову. Доверия к Манечке больше не было, на ее мужей, друзей и покровителей не хотелось смотреть, мечты рушились. Нечто роковое дунуло – и карточный домик, воздвигнутый под уютным надзором ловкой девицы, рассыпался.
– Сами знаете, – сказал Антон Петрович, – я порой пишу стихи. Исторгаю, и в этом заключено что-то молнийное. Разряд... Как бабахнет! И не понять, то ли прямо в голове, то ли нечто этакое молниеносно извне... Читать из раннего и тем более из последнего я вам пока не буду, а о новых принципах стихосложения, пришедших мне на ум, все же скажу несколько слов. Речь об установках. Я всегда был другим, на других не похожим, это и хорошо известная вам Манечка подтвердит, но стоит ли гордиться этим, если я уж никак не меньше, скажем, сорока пяти лет так называемого земного бытия отдал... ей-богу, не знаю, зачем и для чего... Хоть плачь... Отдал на то, чтобы валяться в грязи, а все потому, что, видите ли, последователь то одной, то другой идеи. Велик, на порядок выше толпы, из всех двуногих самое замечательное двуногое, великолепное, остроумное, и к тому же поэтический дар, а что с того, если в конечном счете выгляжу презренным, грязным, лживым и вынужден якшаться со всякой сволочью. И как наказание – быть, – Антон Петрович в отчаянии взмахнул кулаком, – быть неудачником в глазах собственной жены и ей подобных. Словно клоп барахтался я в жизни своей под маской шута, ища то сочувствия, то забвения, то избавления. Но понял, понял наконец, что идеи идеями, а нужны твердые принципы, и коль так, то вот они. В грязи – больше не валяться! Под маской шута не барахтаться! Клоп я, нет ли, а все равно на хрен не барахтаться! И так далее. Очень кстати, друзья мои, очень хорошо иметь принципы. Молнией сверкнуло это новое сознание в моей душе. Встряхнуло крепко... Под этим предлогом и стих, разумеется, вот послушайте...
Я принадлежу к тому типу мужей,
которых некий бывший муж моей жены,
а он – что твой баран! -
охарактеризовал...
– Стихи лучше потом, – оборвал декламацию Алексей Сергеевич. – Я вот все думаю о том, что еще недавно некие пути выводили нас на тот или иной верный путь и было хорошо. Но что это были за пути и где их теперь искать? Впрочем, как бы по наитию, даже по наущению сверху у меня тотчас же, как я услышал твою, Антон Петрович, пылкую речь, возникли два противоположных, но отлично дополняющих друг друга и даже сочетающихся в некое единство соображения. Первое: хорошо всем нам известная Манечка – ничья. Второе: хорошая наша Манечка принадлежит всем и каждому. Но если уважаемый профессор полагает...
– Я полагаю, – сказал профессор, – что этими более или менее вразумительно изложенными догадками вы, любезный, внесли неоценимый вклад в решение мудрено загаданной Манечкой загадки.
– Это сговор? – крикнул Марнухин. – Достигли соглашения? И Манечка действительно всем хорошо известна? Но я не желаю останавливаться на достигнутом. Я требую пересмотра...
– Никто не собирается идти на поводу у ваших желаний, – насмешливо возразил Антон Петрович. – Между прочим, вот оно, настоящее чудо! Дневной свет, а он, сами видите, вполне свободно вливается в это деревенское окно, выгодно оттеняет достоинства вашей, юноша, великолепной фигуры, он делает ее совершенной. Но это не все. Мне приятно думать, что вопрос о моей жене решен и возврата к нему быть не может, а что вы там ропщете, это вас только уродует и делает несовершенным, в каком-то смысле даже глупым. Я-то хорошо представляю себе, какая громоздкость может заключаться в попытках продолжить прения.
– Любой из нас, – добавил Алексей Сергеевич, – в случае необходимости легко сотрет в порошок не то что такого простака, как вы, Марнухин, но и самого Антона Петровича, если он вдруг подвернется под горячую руку.
– Это точно, – подтвердил Гордеев, входя в комнату.
Антон Петрович, выскочив из-за стола, проделал истерические движения. Шевелил губами, размышляя: грубо отрезать? резко отрубить?
– Вопрос закрыт, и всякие такие разговоры следует прекратить! – выкрикнул он тонким голосом.
***
Ночью Марнухин бредово закрался в комнату, где, по его прикидкам, спала Манечка; простер он руки к свернувшейся на кровати фигурке. Но то оказалась Катя. Она залепетала дребезжащим голоском:
– А ну-ка прочь, пакостник... вон на что спокусился!.. Нечего таковским тут делать... Греховодник какой!.. Вы рукам воли не давайте, а то я Пете скажу, какой вы на самом деле...
Марнухин, сгорая от стыда, убежал в отведенную ему каморку. Долго мучился без сна, в какой-то момент снова заглянул к Кате, проникновенно шепнул с порога:
– Без обид... у меня это не для голого натурализма было, не для похабщины... просто ошибка...
А затем, уже в каком-то медленном и впечатляющем сновидении, упорно, с подчинением некой высшей силе, как бы надиктовывающей догматы и очень распорядительной среди отчетливо проступивших извилин головного мозга, заканчивал рассказ. От рассказа этого еще в такое недавнее мгновение думал простодушно отказаться, приснились же Петя, Катя и другие, и он остановился в нескольких шагах от честной компании. Он в клетчатом костюме, на голове модный котелок, лакированные штиблеты на ногах, в руке тросточка, – все нелепо. В сравнении с окружающими, а они безумно что-то празднуют, смотрится если не выходцем с того света, то уж наверняка некоторой карикатурой на того замечательного и в своем роде утонченного молодого человека, каким наяву то и дело представал перед ними. Не обращают на него внимания, увлеченные своим безумием, а ведь перед ними грандиозный субъект, прекрасно владеющий словом, способный одним словом убить любого из них или всех их вместе. В его власти подойти к Гордееву и нажатием, употребляя большие пальцы рук, закрыть ему навеки глаза, чтобы этот Гордеев впредь не маячил там и тут, не кривлялся, не вилял задом, как торговка, сгибающаяся под тяжестью поклажи. Но потребности ликвидировать Гордеева пока нет, можно отложить на потом.
Оглядевшись, Марнухин заметил в своей руке огромный револьвер. Сообразуясь с действительностью, он стал хладнокровно посылать пулю за пулей в людскую массу, продолжавшую с хорошо отработанной легкостью скользить перед ним. Манечка, которая после первого выстрела распласталась на полу с аккуратно пробитой головой, поднялась и, гордая своей ролью, невыносимо трагическая, снова заняла место перед смертоносным дулом. Как было не поразить ее вторично! Марнухин крякнул и не задумываясь выстрелил в светлый девичий лоб. Но странное обстоятельство, он расстреливал, а людей отнюдь не охватила паника. Могло бы и насторожить; призадуматься бы тут Марнухину. Впрочем, безмерное наслаждение доставляло видеть полет пуль, прохвостов и продажных тварей – сраженными, посрамлено падающими. Они падали в газообразную кашицу, заменявшую в этом надиктованном рассказе землю, пол, асфальт, травяной покров и ландшафт за спинами высунувшихся на передний план картины персонажей. Падали с какой-то даже картинностью, иные медленно и мучительно, другие, закручиваясь на месте волчками, раскрывали рты в беззвучном вопле. Среди падавших выделялись вздымавшие руки, хватавшиеся за раны, те, чьи глаза определенно выскакивали из орбит, чертя в воздухе страстную мольбу о праве на последнее "прости". А чувствуется школа, подумал Марнухин. Что и говорить, качество что надо, высокое, и это отчасти искупает вину; вот только бы еще разобраться: чью? Но как старательны! Растет удивление, близок восторг, и уже в каком-то неистовстве Марнухин, видя неисчислимость жертв. На пути следования одной-единственной пули устраивается настоящий парад смерти, десятки, сотни быстро и выразительно умирают. Охотятся на вечное успокоение, ловят пули! Марнухин едва успевал стирать пот с лица и нажимать на спусковой крючок. Время от времени он путался, подносил револьвер к своему лбу, вкушал прелести проникновения в плоть убийственного свинца. Свободной от смертоубийства рукой словно бы отирал какую-то мглу с громоздившейся перед его глазами помпезной картины, губами подшевеливая: пуф! пуф! И в третий раз Манечка встала перед ним, а пули для нее в его обойме уже не нашлось. Можно было подумать, что сюжет исчерпан, но оставалась ведь какая-то раздвоенность. В одном случае увидел он Манечкино лицо ужасно окровавленным и обезображенным, но в другом ведь нимало не было оно затронуто сеющим смерть металлом. Оба случая, совершенно не разделенные во времени, скорчились в две смеющиеся над ним рожицы и нагло нырнули в его возбужденный разум, где слились в некое пространство, ходуном ходящее от дьявольского хохота. Марнухин усомнился в реальности происходящего. Сквозь сон он солидно продиктовал себе, что происходящее всего лишь снится ему и, стало быть, тревожиться нечего. Ощупывал и кусал он себя, проверяя, не сон ли, и был в этом похож на бродячую собаку, в ярости выкусывающую блох. Вдруг что-то бесшумно и крупно навалилось на него, и Марнухин стал запрокидываться, жалобно вскрикивая. Но не упал, да и некуда было падать в клубящемся под ним облаке. Он завис, сжатый со всех сторон упругой и слегка волнующейся мягкостью. Перед ним возник старик, подаривший ему харизму, а теперь внезапно обретший поразительное сходство с Петей. Как будто глаза в глаза очутился Марнухин с неким матерым волчищем, и хотелось ему поприветствовать в лице старика собрата по перу или в каком-нибудь другом партнерстве, а выходило, что старик то ли кровь его пьет, то ли еще только злобно скалится да облизывается, приговаривая: не уйдешь. Вместе с тем у Марнухина было ощущение, что он видит Петю на экране телевизора, а тот телевизор не способен передать полноту наличия живого тела. Созерцающий экранное действо, соображает Марнухин, обязан породить чувство чрезмерной близости экрана и невольного вдавливания в него, постепенного и неотвратимого исчезновения внутри телевизора. И уже не мог избавиться Марнухин от подозрения, что опасность стариковских прикосновений куда реальнее, чем он в состоянии себе представить.
– Великолепно! – жутковато раззявил Петя рот. Марнухин, взглянув на это, подумал: нарочито, как в пошловатой юмореске, а мне ведь надо с особой тщательностью заботиться о наличии вкуса. Во рту у старика был не один язык, а множество, но и то были не языки в действительности, а пачки банкнот, мелко рассыпаемых в качестве авансов и подачек. Он весело говорил: – Разыграно как по нотам. И прекрасно ложится на излюбленный сюжет. Моралист, он избит, он, а не сюжет. Моралист разочарован и решается действовать на свой страх и риск... Дрожь упоения, судороги восторга, слезы!
Он поднял раскрытую ладонь, и Марнухин увидел, что кончики его пальцев свились в плачущих у мерцающего экрана зрителей.
– Но... я... пули... – бормотал Марнухин. Он в недоумении разглядывал револьвер, самостоятельно плававший перед ним в тумане.
– Ни о чем не беспокойтесь, – сказал Петя. – Все сделано и устроено наилучшим образом, и все прошло как по маслу. И заснято. Повторения не потребуется.
Из-за плеча старика улыбнулась Манечка.
– А они? – Марнухин кивнул на горы трупов, извилисто темневшие в тусклой мгле завершения праздника.
– А что они?
– Я стрелял... пули... они живы, эти люди?
Марнухин глуповато бормотал, а старик снисходительно усмехался.
– Ну, это мы еще рассмотрим и решим, как нам быть с ними, – сказал он. – То есть как оно будет достовернее. А важнее всего острота ощущений. Посмотрим... Может, и живы. Может, и нет. Пока ничего определенного сказать вам не могу.
Марнухин, словно его кто внезапно подтолкнул, быстро просунул руку в раскрытую пасть и, безошибочно нашарив полагающийся ему гонорар, сорвал его с тонкого корешка. Старик вскрикнул, как если бы Марнухин причинил ему боль, но его улыбка показывала, что с ним все в порядке.
Утром за неспешно протекавшим завтраком Петя сказал:
– Все уехали, даже профессор, а вас тут бросили, говорят, не нужны вы им больше.
– Трикотажа не нашел, вот и перестали, малый, тобой интересоваться, – разъяснила Катя.
– Ну так что ж... Как есть вы сынишка Митьки Парамонова, то и оставайтесь с нами, посевную проведем... культивировать умеете?.. Или вы так, наособицу?
– Не знаю, может, и наособицу.
– А там и урожай придет пора собирать.
– Сдался мне ваш урожай, – угрюмо буркнул Марнухин.
Катя сказала сладко:
– Уж как сына нашего женка перед профессором каялась всю ночь, прямо кровать ходуном ходила и пол трясся. Видать, грехов много накопилась.
– А Манечка что же, без покаяния обошлась?
– Спала как убитая, – ответил Петя. – Наш было сунулся к ней, но прочие воспрепятствовали. Пусть, говорят, отдохнет, она, де, во славу амура так потрудилась, что и сил у нее уже никаких не осталось. А что это за амур? Премия такая, что ли?
– Это, должно быть, как-то с рекой Амуром скреплено, – рассудила старуха. – Смотрят на течение. Унесло тебя Бог знает куда – значит проиграл, и никакой тебе премии, никакого трикотажа. А сдюжил, сплавился в образцовом порядке – получай награду и можешь отдохнуть. Все у них там очень, как говорится, символично, у городских-то...