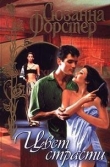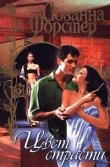Текст книги "Хорошо Всем Известная (СИ)"
Автор книги: Михаил Литов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
– У меня очень простое, на первый взгляд, дело. Я по уши влюблен в Манечку, и она мне совершенно задурила голову. Шампуни, дезодоранты какие-то... ну, вы понимаете, дамские разные пристрастия, склонности, в том числе и трикотаж, на поиски которого я был третьего дня отправлен. Все как в чаду. А Антон Петрович сказал, что мои поиски ни к чему не приведут, если я не поговорю прежде с профессором. И Алексей Сергеевич это подтвердил.
В первое мгновение благообразному, порой даже роскошному Гордееву показалось, что он ослышался. Кто-то ищет трикотаж? И этот кто-то – сидящий у него за спиной человек? Но как все это могло случиться?
Неуемный, кипучий, он стал усиливаться, напрягать ум. Но ничего не выходило. Он не мог понять, как случилось, что его цель – отвезти на исповедь, а то и на покаяние Викторию Павловну – очень мало согласуется с целями самой Виктории Павловны, у которой никаких целей и вовсе не было, но еще меньше – с целью Марнухина заполучить трикотаж, того самого Марнухина, который Бог знает как попал в его машину и теперь беспечно выбалтывает в ней все, что приходит в его глупую голову.
Но зачем вникать в вещи, предстающие заведомой галиматьей, какой в этом смысл? Какое ему дело до помешавшегося на Манечке Марнухина, до праздношатающейся Виктории Павловны и даже до самого профессора Хренова? В состоянии он определиться в своем отношении к окружающим и занять среди них достойное его место, нет ли, все это ничто перед тем грандиозным и убийственным фактом, что жизнь прожита безрассудно и никчемно. И это в пятьдесят пять лет, когда уже поздно что-либо поправлять!
Затем ему пришло в голову, что жизнь прожита глупо не столько им, сколько его случайным попутчиком Марнухиным. Он принялся развивать некий сюжет, обращаясь к невидимым слушателям. Представьте себе таракана, пробегающего по полу вашей квартиры, вполне обыкновенного таракана, насекомое из какой-то более чем обыкновенной житейской истории, куда как реалистическое существо. И вот вы, заметив его неторопливый бег и Бог весть отчего встрепенувшись, кидаетесь давить ногой эту нахальную тушку, а при этом издаете воинственные возгласы, негодуете на своего маленького юркого недруга, и затем радуетесь своей победе над ним, с упоением вслушиваетесь, как хрустит под вашей ногой коричневая корочка. Таким тараканом стал в моем воображении Марнухин, возвещал Гордеев.
Тем временем сам Марнухин глубоко затосковал, поймав себя на странном, каком-то загадочном непонимании собственного состояния. Конечно, это тоже своего рода состояние, но оно уже двойная загадка, поскольку для того, чтобы разгадать его, нужно прежде развязать то самое непонимание, о котором упомянуто выше, а попробуйте-ка, попробуйте, посмотрим мы, что у вас из этого выйдет, посмотрим и непременно усмехнемся, потому как и намучаетесь же вы! Пожалуй, на самом деле для тоски не было причин, и то, что скопилось за последнее время внутри у Марнухина, подразумевало, скорее, бодрость, преодоление пришедшего вместе с новой для него деятельностью безразличия ко всякой деятельности, выход к тому или иному творческому начинанию. Почему бы и нет? Разве он не способен, например, к благодушию? Еще как способен! Ему приятна порой лень, а то даже и некая мировая скорбь, при которой он умиротворенно или меланхолически шепчет себе под нос, созерцая пробегающего по полу его жилища таракана: пусть он живет, этот бессмысленный разбойник. С человеком, то есть с обычным человеком, из плоти и крови, даже с некоторой там душонкой и с несколькими граммами мозгов, частенько происходит то же самое, что с тараканом. Это ли не повод пощадить насекомое?
– У меня ведь цель, я с тем ищу трикотаж, чтобы выгодно им торговать, меня Манечка подучила... – донеслось до Гордеева. Это бубнил Марнухин. А Манечка и Виктория Павловна задумчиво внимали ему.
Прибыли в деревню Куличи, где жили приемные родители Гордеева и неизвестно как обосновавшийся у них Хренов. О! Давненько собирался финансист (а Гордеев уже полжизни возится с денежками, с разными шуршащими суммами) навестить стариков, но, как это обычно бывает, мешало то одно, то другое, – так оно и бывает в нашей суетной жизни. Грудным младенцем, заходящимся в крике и обмочившим грязные пеленки, Петя и Катя подобрали его в капусте, и с тех пор, успев, разумеется, до некоторой степени просунуться в зрелость, он при всяком удобном случае похлопывает их по спине, благодушно усмехается, приговаривает: роднее вас нет у меня никого на свете.
Раскрасневшись, ударяя кулаком в раскрытую ладонь, бросал он отрывисто:
– Давай, давай!..
Так он дивился, что старики тотчас после радостных слез и объятий не предложили ему попариться в баньке. Это было как-то против заведенного порядка. Но, кидая "давай", он все не доходил до сути своего требования, словно скрывал ее, замалчивал. Что представляет собой Марнухин? Этот вопрос, надо сказать, довольно-таки сильно мучил Гордеева. На первый взгляд, Марнухин был всего лишь высоким тощим малым с несколько унылой физиономией, иной раз одушевлявшейся накопленным в его глубоко запавших глазах теплым умом.
Гордеев мысленно отметил, что приемные родители ужасно постарели, но они обрадованы его приездом и оттого как бы слегка засеребрились, обрели некую лучезарность, смотрятся теперь более или менее сносно. В общем, еще черпают энергию для жизни, и это было хорошо. Хозяева и гости посидели за празднично накрытым столом, попили чайку, потолковали о всякой всячине. А им было что сказать друг другу после долгих месяцев (или лет?) разлуки.
– Где же так называемый профессор? – спросил Гордеев с неприятной ухмылкой.
– Кто его знает, бродит где-то, – ответил Петя, маленький и самоуверенный дедок.
Вышли на крыльцо покурить, и приемный сын с надеждой взглянул в дальний конец огорода, где чернела в солнечных лучах старенькая банька. Дымок отнюдь не вился над ней, вид у нее был какой-то безжизненный, угрюмый.
– Затопим баньку-то? – спросил Гордеев бодро.
Старик задержался в доме, разъясняя гостям, что в отношении распущенности они с Катей не согласны потакать, поощрять, кивать одобрительно, и лучше гостям не рисковать, если не хотят они расшибить лоб о здешнюю твердь воздержания, иначе сказать, следует им обойтись без покушений на прелести местного населения, с особым изумлением и восторгом замирая перед высокой чистотой постоянно маячащей перед глазами Кати. Петю удовлетворил ответ Марнухина, решившего, что назидания обращены именно к нему. Мне нужна одна Манечка, да только она что-то слабо дается, а про Катю я в подобном духе и помыслить не замышлял, сказал твердо Марнухин. Старик как раз выгребал на крыльцо, когда прозвучал гордеевский выстраданный вопрос, и ждал он этого вопроса, а все же вздрогнул, как от страшной неожиданности. Безмолвие поглотило его. С трудом, тягуче, с преодолением невиданного сопротивления он загасил о мозолистую ладонь заморскую сигарету, которой сынок его угостил, и спрятал окурок в карман своих видавших виды штанов, а затем стал переминаться с ноги на ногу. Выражал таким образом свою растерянность Петя долго и наконец нерешительно произнес:
– Э-э, дорогой, понимаешь... не-ет, с банькой, милок, ничего не выйдет...
– Почему?
– Соседи...
– Ну?
– Говорят, это их территория... ну там, где баня стоит... и нам теперича туда хода нет. А то не сносить головы... – Высказавшись наконец, старик довольно твердо, словно подводя итог отлично вызубренному уроку, улыбнулся.
Гордеев с изумлением посмотрел на него. Не сбрендил ли добрый папаша?
– Какие соседи? – спросил он напряженно.
– Люди такие объявились, называют себя нашими соседями, – еще тверже и основательнее доложил Петя.
– Ага, люди... В них что, демон вселился?
– Похоже на то.
– Злой дух?
– Можно и так сказать.
– Что-то раньше я ничего подобного не слыхал.
– Еще и не такое можно у нас нынче услышать.
– Ты сбрендил?
– Ну не надо, не начинай... – заартачился старик, завертелся, вскидывал он, извиваясь, над склоненной головой крошечную руку, предполагая, видимо, защищаться или отмахиваться. – Не приписывай, с чего бы мне вдруг сбрендить? Я, уж как могу, веду отпущенную мне жизнь, и от одного того, что ты вдруг явился и смотришь на меня в упор широко раскрытыми глазами, выживать мне из ума нечего.
Гордеев отступил от папаши на шаг, посмотрел в сторону и покрутил пальцем у виска, обескураженный и возмущенный причиной, по которой не мог попасть в баньку. Он не хотел обидеть старика, и без того обиженного какими-то сумасшедшими людьми, однако тот все же принял его пантомиму на свой счет, и у него возникло желание в свою очередь полновесно отмежеваться от соседского самоуправства. Горестно разводя руками в беспомощном недоумении перед правдой, которую явила ему общественная жизнь деревни Куличи и ее окрестностей, он объяснил:
– Так они говорят, понимаешь, раньше у них дремало народное самосознание и они были как бы никем, а теперь оно, самосознание это, пробудилось и они стали всем... А я, по мудрости своей, но и не мудрствуя особо, считаю это за блажь!
Гость слушал это, не зная, верить ли собственным ушам. А затем, решительно тряхнув головой, заявил:
– Кто они там ни есть, а баньку я все равно затоплю!
Напрасно пытались отговорить его. Он затопил баньку, собрал бельишко на смену и, беспечно насвистывая, зашагал по тропинке к ней, которая одиноко маячила на фоне вечернего неба, высокого и жутковатого. Вдруг он снова объявился в доме; дико закричал, испепеляя взором Викторию Павловну, Манечку и Марнухина :
– Вы кого слушаете? Угрожающих варваров? Перетрусившее старичье вы слушаете? Всем в баню!
И вот под вечерним небом возникла, направляясь в глубь прекрасного сада Пети и Кати, группа всецело погруженных в пластику движения людей. Впереди гордо шествовал Гордеев, за ним плелись лениво Марнухин, Виктория Павловна и Манечка. Петя и Катя печально смотрели вслед обреченным, не без оснований полагая, что они отправляются прямиком в преисподнюю. Провожая сынка, они дошли до не видимой, но хорошо известной им границы и пересечь ее, естественно, не отважились.
Сынок безмятежно парился. Все плескал и плескал воду на раскаленные камни, увеличивая жар. Забирался под самый потолок и там крутился, как воздушный шарик, уже не чувствуя в себе никаких костей, ничего твердого. Он думал о том, что его приемные родители, эти славные старики, стали жертвами какого-то обмана или наваждения.
Марнухин изнемогал, созерцая наготу Манечки и негодуя, когда ее заслоняла расплывчатая плоть Виктории Павловны. Гордеев вдруг заорал мерзким голосом:
– Танцуй, Викуша!
Женщина принялась вяло танцевать, голая, упитанная. Вдруг снаружи раздался шум. В сердитые мужские голоса время от времени вклинивались причитания Кати, доносившиеся издалека, из-за границы. Сердце Марнухина сжалось от недобрых предчувствий. Топот множества ног пробежал по предбаннику, дверь отворилась, и внутрь заглянул дебелый, криво усмехающийся парень.
– Сволочь городская! – крикнул он, щурясь от пара.
– Закрой дверь и уйди, – судорожно бросил Гордеев, – я с тобой либеральничать не собираюсь...
– А ну-ка выходи!
Теперь Гордеев оторопел вполне – обращение показалось ему вызывающим, недопустимым. Первым его порывом было зачерпнуть ковшиком кипятку в котле и плеснуть наглому, развращенному превратно истолкованной свободой и безнаказанностью парню в его бандитскую рожу. Но это вышло бы как-то нецивилизованно, и он предпочел вступить в диалог. Для начала он, однако, ступил в предбанник. Туда набилось человек пять обыкновенного для деревни мужицкого вида. Ничего не видел в них Гордеев специального, что давало бы им право называть себя владельцами бани, а где-то, как можно было предположить, и самоопределяться в некую особую и, может быть, никому не известную расу.
– Голая не буду с вами, не тот процесс! – визгливо протестовала Виктория Павловна.
Дамам разрешили одеться, а Гордеева выволокли наружу. И пока дамы одевались, непрошеные гости ядовито и насмешливо кричали, распространяя крепкий запах сивухи:
– Попались, козочки?
– Попариться захотели? Уж мы-то вас попарим!
Голому Гордееву сулили:
– Устроим тебе настоящую баньку по-черному!
Поеживался Гордеев под градом несусветных угроз. Его толкали, и оставленный на пороге баньки Марнухин – с замирающим сердцем, чего Гордеев не знал, – смотрел на его мучения. Гордеев боковым зрением вникал в это оцепенелое, исключительно не боевое, скорее беззаботное марнухинское поведение. Он мучился, не зная, как обратиться к собравшимся. Внезапно он дрогнувшим голосом обратился к Марнухину:
– Ну скажи им хоть ты...
Марнухин ничего не сказал, и снова та же проблема встала перед Гордеевым. Кто ему эти люди? Товарищи? Господа? Хорошо бы знать, какое обращение принято у этого народа... Ослепляли закатные лучи, тонкие и колючие. Физиономии напавших были неразличимы, и Гордееву представлялось, что перед ним огромный бубен, в который необходимо ударить, подавая сигнал тревоги или, может быть, одним каким-то чудовищным тычком разгоняя всех врагов. Затем он, изо всех сил стараясь не уронить достоинство, произнес:
– Народ!
Все пятеро, или сколько их там было, подняли изумительно сверкающего белизной Гордеева в воздух, и он сверху сбросил на Марнухина с искривленных судорогой губ зловещий шепот:
– С тебя я особо спрошу, тварь трусливая...
Тем временем внизу кто-то, шумно возясь и пыхтя, уже утверждал под вознесшимся Гордеевым кол, прилаживал к полагающемуся в таких случаях отверстию.
– А не хватит валять дурака? – дико заорал несчастный.
– Э, заговорил как! – весело откликнулся парень, который велел ему выходить в предбанник. – А чего с ним возиться? Закопаем здесь! Вон, сварим в кипятке...
Финансиста поставили на ноги; сжавшимися, словно спекшимися внутри чувствами он сколько мог долго и тщательно, мелко и подробно ощупывал себя внутреннего, обшаривал, все пытался постичь, не влез ли кол, не проник ли куда не следует. После короткого перерыва, последовавшего за вступительным словом, этот опять очутившийся на ногах человек вновь показался Марнухину выставленным на суд общественности римским патрицием, а о том, что происходило с Гордеевым в перерыве, он думать не мог или успел забыть. Растерянный, помятый и все еще горделивый патриций скрестил руки на груди, приосанился и холодно вымолвил:
– Объясните толком, кто вы такие и что вам нужно.
Можно было подумать, что он позволил себе неслыханную дерзость. В первый миг воцарившееся оцепенение выглядело просто невероятным. Гордеев очутился в каком-то жутко поблескивающем и как бы текучем или болотно колышущемся кольце из вытаращенных глаз. Тогда он понял: напали бесы. Это понимание, едва сложившись в более или менее стройную мысль, передалось Марнухину, и тот, мало вникая, пробормотал, обращаясь к сидевшим в предбаннике Виктории Павловне и Манечке:
– Бесы... понимать надо... что с них взять, порода такая...
К счастью, инициатива парня, говорившего о кипятке, воображавшего что-то там о супе из пришлецов, не встретила одобрения, поскольку остальные мощно мыслили вслух о законности, об уважении к правам соседей и их гостей, о цивилизованном отношении к пленным.
В печальных лучах более или менее близкого к закату солнца приемные родители стояли по ту сторону границы, смысл и значение которой и Гордеев понемногу начинал принимать во внимание. Катя, подавшись вперед, прижимала к груди сухонькие руки в молитвенном жесте и смотрела на своего малыша-капустника полными слез глазами. А Петя, хотя и сжимал в гневе кулаки, стоял потупившись, сознавая свое бессилие.
Пленных затолкали в сарай.
– О подобных безобразиях я даже у Дюма не читал, – вздохнул Гордеев.
– Зато Дюрренматт наверняка расстарался, – усмехнулась Манечка.
– Я недавно читал в одной книжке... – начал Марнухин.
Виктория Павловна почесала лоб:
– Нам кто-нибудь поможет?
– Алексей Сергеевич? – живо откликнулся Гордеев.
– Не думаю.
– Тогда Антон Петрович?
Женщина в тусклом свете луны отрицательно покачала головой. Гордеев закричал истошно:
– Нас сожгут в этом сарае?
– Однажды что-то подобное уже выпало на мою долю, – сказала Виктория Павловна. – Схватили и потом всю ночь вели лесными тропами. Ну, конвоиры и все такое... А что поделаешь... бурная молодость! И мрачные все такие, бородатые, суровые, как горцы...
– Как книжные горцы, – поправил Гордеев.
– Как книжные, да. Они часто останавливались и пили самогон, а затем решали, что меня пора пускать в расход. На кой, мол, черт им обременять себя моим принципиально чуждым обществом? Они подыскивали подходящее место для могилы и заставляли беднягу копать...
– А кто был этим беднягой? – спросила Манечка.
– Я бы хотел еще добавить, – вмешался Гордеев, – что надежду терять не следует. Антон Петрович и Алексей Сергеевич по виду враги, а в действительности дружат. Они вполне могут нас выручить.
– Заставляли меня, – рассказывала Виктория Павловна, – копать прямо руками, а сами точили неподалеку ножи, размахивали топором, показывая, как снесут мне башку.
Гордеев презрительно заметил:
– Это что-то из жизни черногорцев, или вообще небылица.
– Поскольку спешить мне было некуда, я работала спустя рукава, и это ставило моих поработителей в тупик. Они совещались, не отменить ли сгоряча принятое решение, я же бросала работу, устремляла взгляд к звездному небу и спрашивала у него, на каком свете я нахожусь. В результате всех этих мытарств мы прибыли в деревню Кулички, которая как две капли воды похожа на эту, на эти Куличи, Геня, где прошло твое детство, и первый, кого мы там встретили, был Алексей Сергеевич. У него в той деревне была тогда дача. Он переговорил с моими угнетателями, кажется, заплатил им, и они оставили меня в покое. На прощание станцевали. Дика была их пляска, и с тех пор я ненавижу фольклор. Естественно, я с удовольствием приняла предложение Алексея Сергеевича отдохнуть у него на даче. И мы с ним переспали.
Марнухину было не по себе; он не знал, кем теперь является. Не выпал ли из рамок?
– В фольклоре много интересного и замечательного, – сказал он. – Бабушка Арина, не вспомню сейчас ее отчества, ну, пушкинская няня, она, да будет вам известно, совсем иначе, не в пример вам сказано, настроила своего воспитанника, будущего великого поэта. Привила она ему отнюдь не те мысли, которыми, Виктория Павловна, могли бы похвастаться вы.
– По-мичурински бабушка поступила, – рассмеялась беспечная Манечка.
– С одной стороны материализм, с другой – идеализм, – произнес Марнухин устало, – а я между ними, и они разрывают меня на части.
– Возможно, – заметил Гордеев, – нечто подобное происходило и с моей женой, когда неизвестные гнали ее по лесным тропам и заставляли копать могилу.
Марнухин возразил:
– Может быть, ваша жена заслуживает подобного обращения, а я-то всего лишь влюбленный в Манечку человек, так за что же меня в сарай? Почему заперли? Что все это значит? А еще трикотаж... Как его искать? В таких-то условиях!
– С тобой, смердящий, мы еще посчитаемся. – Не дожидаясь, пока Марнухин ответит, Гордеев обратился к жене: – Этот твой случай... не произошло ли это с тобой в те времена, когда Алексей Сергеевич устраивал заварушки в рабочем клубе?
– Именно так, – подтвердила Виктория Павловна.
– Не удивлюсь, если окажется, что у него руки по локоть в крови.
– Ерунда!
– Но ведь убили человека по фамилии Кольцов.
– Действительно, кого-то убили. Не знаю фамилии... Но убил вовсе не Алексей Сергеевич, а неизвестный, о котором Алексей Сергеевич вряд ли и слыхал когда-нибудь. Я, однако, все болтаю, а главного до сих пор не сказала. Кто-то позвонил моему мужу – вот он, здесь, взгляните, – и нашептал, будто я изменяю ему.
– А то ты не изменяла! – крикнул Гордеев с нехорошим смехом.
– Ну да, с некоторыми. Но всегда это была шутка. Я слишком стара для сомнительных приключений, и с моей стороны в отношении молодых людей не могло быть ничего иного, кроме желания развратить их. Чем же еще заниматься с наивными юношами?
Гордеев хохотал:
– Нашла тоже наивных! Они сами кого угодно развратят! А на твой счет всем известно: порочнее тебя свет еще никого не видывал. Ты и с Антоном Петровичем крутила.
– Не отрицаю, крутила, и даже довела его до изнеможения. Но чего никогда не было, так это чтобы я обольщалась. Говорю вам, есть только сплошная игра в любовь, и я кого угодно, хотя бы того же Антона Петровича, всегда видела и вижу насквозь. Кстати, в какой-то момент старичку... я про Петровича... взбрело на ум, что хорошо бы меня и Манечку отправить на тот свет, иначе он, мол, никогда от нас не избавится. Прибежал он, значит, в клуб, а там лекция нашего уважаемого профессора, Хренова то есть, уже в какой-то превратилась, знаете ли, сатанинский бал. Последовательность событий можно восстановить, конечно, лишь приблизительно. В общем и целом, дело было так. Завидев меня и Манечку, Антон Петрович стал шарить по карманам в поисках тяжелого предмета. Тут какой-то вроде бы неизвестный как взорвет у него над ухом петарду. Антон Петрович, ясное дело, это заметил, учел. Ну, еще эхо не замерло, а Антон Петрович – не будь дурак – шасть на пол мышью, засновал у нас под ногами и все норовит то меня, то Манечку опрокинуть. Придушить, должно быть, под шумок хотел. А тот, что взорвал, опять лезет, и снова с петардой. Оседлал бедного Антона Петровича, – а и плакал же сердечный, до того рвался и требовал освобождения, что и вспомнить страшно! – но куда там, убивец ухмыляется себе лукаво и поджигает свой снаряд. Манечка тогда еще с мужем считалась, так она толкнула меня в расчете, что я, упав, прикрою его своим телом, но я удержалась на ногах и в отношении Антона Петровича только наступила ему на голову. Так что планы Манечки относительно его спасения не осуществились, и его прямо заволокло дымом. Его уже и не видать было за вспышками, не слыхать за громом взрывов. И вот еще... Все говорят: Антон Петрович, Антон Петрович... Можно подумать, что это гад какой-то, а не человек. А ведь он – вполне приличный господин. Почему же не признать это? Зачем распространять о нем какие-то дурацкие сплетни и басни?
– А как зовут человека, который взрывал петарды? – спросил Гордеев. – Я что-то запамятовал...
– Алексеем Сергеевичем.
– Бывший муж? – крикнул Марнухин.
– А то кто же еще, – усмехнулась Виктория Павловна. – Мстил, значит. Жену у него увели, Манечку... понял теперь, малыш, как концы с концами сходятся?
***
Хренов осветил сарай керосиновой лампой.
– Не надо, – поморщилась и замахала руками Манечка, – еще видно. Да и романтичнее в сумерках.
– Пусть будет, – невозмутимо молвил вошедший.
И тут он, профессор Хренов, человек дородный, мягкий телом, с благородной сединой в бороде, словно заново ступил в гниловатое пространство сарая.
– Вы свободны, – сказал он. – Впрочем, если вам заняться нечем...
– Как же нечем? От лампы пожар может быть, – засуетился Гордеев.
– Можем и тут посидеть, – закончил профессор свою мысль. – Поболтаем в свое удовольствие. Петя и Катя, между прочим, часто спрашивают меня, откуда взялась Манечка, чего она вьется вокруг их сына и что она вообще собой представляет.
– Вот этот, – Гордеев указал на Марнухина, – вел себя подло и делал вид, что ничего не замечает, когда меня шпыняли и подбрасывали.
– Старикам знать все не обязательно, и отвечать на их вопросы я не намерен, а вам расскажу. Гулял я однажды в парке и увидел на скамейке прелестную девушку. Она мяла в руках какую-то бумажку и, всхлипывая, говорила:
– Его рука... Ах, как от всего этого оправиться, хотя бы чуть-чуть! Кто-то разве войдет в мое положение? Достать из собственного кармана прощальную записку самоубийцы вместо носового платочка...
– Ну-ка, – сказал я, беря из ее рук записку. Она говорила, конечно, сама с собой, как это бывает с больными или с очень чем-то напуганными людьми, и я был для нее всего лишь случайный прохожий, тем не менее мое любопытство уже разгорелось, и я не мог позволить себе безучастно пройти мимо.
– Да что вы, полковник, – заговорила она возбужденно, – вы бы сначала выслушали меня, а то сразу хватаете...
– Я, положим, вовсе не полковник, я, если вам угодно, профессор, – с некоторой суровостью прервал ее я. – И меня в данную минуту интересует прежде всего следующее: как эта записка оказалась у вас, милая?
– Действительно... – Девушка задумалась, но задумчивость не шла ей и уж совсем ни к чему оказалась, как только мы, дважды и с чувством прочитав послание, убедились, что оно от ее покойного, пожелавшего наложить на себя ручки мужа. – Вопрос не такой, чтобы тотчас найти ответ, – туманно рассуждала она. – Однако решения и разгадки находят не только в умных книжках. И мне все понятно. Это случилось как раз перед тем, как я заглянула к своему бывшему супругу. Я вошла и увидела его мертвым, да, мой бывший, Алексей Сергеевич, лежал там с посиневшим лицом и жутко выпученными глазами. Картина, доложу вам, не для слабонервных. Я растерялась, я трясущимися руками и словно в неком полусне машинально схватила со стола это прощальное письмо, сложила и сунула себе в карман. А потом забыла о нем. Но здесь, в парке, вспомнила. Я подумала, что Алексей Сергеевич, может быть, покончил с собой из-за того, что я ушла от него к другому. У вас, профессоров, всегда наготове каверзные вопросы, и я, предвосхищая некоторые из них, хочу растолковать, почему вспомнить все это в парке не составило мне большого труда. Ведь я подумала прежде всего о своем костюме, подумала, что был риск выпачкать его в крови покойного. А это была бы немаловажная деталь, которая тут же могла бы перерасти в улику. Вдруг меня заподозрят, обвинят... Тут-то я и вспомнила: письмо! записка!
Да, конечно, так оно и происходило в ее голове, от костюма, трупа, крови, вероятных подозрений – к записке. Я проникал девушку пронзительным взглядом опытного, видавшего виды человека и видел, что она не лжет. Какие к ней могут быть претензии? Даже буквоед, какой-нибудь дотошный, въедливый и глупый наблюдатель со стороны не обвинил бы ее в том, что она пытается ввести меня в заблуждение, что-то там утаить или представить в неверном свете. О, как все это понятно ученому, который не только хорошо разбирается в людях, но и любит их! Несчастной девушке довелось пережить тягостные минуты. Ее бывший муж, наложивший на себя руки, его искаженное смертельным ужасом лицо... Она входит, не догадываясь, что ее ждет, и видит его лежащим на полу в луже крови, она вскрикивает, приближается, чтобы спросить, что с ним, и по мере возможности оказать ему необходимую помощь. Она склоняется над несчастным и видит, что он, распростертый у ее ног, уже ни в какой помощи не нуждается, потому что мертв, выбыл из списка живущих и даже уже не столько "бывший", сколько попросту труп, никто.
– Чем это вам грозит? – спросил я. – Безработицей, биржей труда, безуспешными поисками нового места, оскудением домашнего бюджета, голодной смертью? Не думаю... Вы молоды, хороши собой, у вас вся жизнь впереди. Не будем также забывать, что речь идет о бывшем. Никак, уже и другой есть?
– Есть. – Она кивнула, с любопытством глядя на меня.
– Ну, в таком случае вам вовсе незачем горевать, кричать не своим голосом, как если бы смерть заглядывала и вам в глаза. Все в порядке.
– Немножко завидуете мне, да? У меня все впереди, а вы словно на краю пропасти. Больно это, сознавать, что время для вас обрывается и в будущем вы уже ничего не увидите и не узнаете? – Так она сказала, и ее слова повергли меня в убитое молчание, она же, выдержав паузу, продолжила, уже часто вздыхая: – Не совсем, знаете, так уж оно все у меня в порядке. Ведь это мой нынешний убил моего бывшего, понимаете? Я вам все объясню. Антон Петрович убил Алексея Сергеевича.
– За что?
– Алексей Сергеевич взрывал петарды.
– Понятно... решил, что такой человек иного не заслуживает.
– Я все это только здесь, в парке, сообразила, когда прочитала записку. Ее не Алексей Сергеевич, ее Антон Петрович писал. Убил Алексея Сергеевича и, оставив записку, побежал куда-то убиваться.
– Понимаю, – сказал я. – Вы отшатываетесь от трупа, оказываетесь возле стола и видите какую-то бумагу с текстом, хотя при этом воображаете, будто ничто, кроме бездыханного тела, не лезет вам в глаза. Все так, словно тело все еще распростерто у ваших ног и даже может неким образом схватить вас. Но в действительности вы уже отодвинулись в сторону. Идем дальше. Вы не просто отодвинулись, вы успели, сами того не сознавая, довольно-таки ловко отскочить в сторону и видите уже не тело, а стол и лежащее на нем письмо. Продолжая кричать... а что бы такое вы, примерно, могли выкрикивать?..
– А-а!.. А-а!..
– Ну да, я мог бы и сам догадаться. Итак, вы берете письмо, аккуратно складываете его и прячете в карман. Но эти действия, о которых вы сейчас думаете, что они проще пареной репы, тогда едва ли поддавались объяснению, поскольку были неосознанными. А будь иначе, вам нужно было бы растолковать не только что другим, но самой себе в первую очередь, для чего вы взяли письмо, сложили его и спрятали в карман. И вся штука в том, что этого-то вы как раз и не сумела бы сделать и даже очень удивились бы, если бы вам сразу вслед за вашими действиями кто-то сказал: ты взяла письмо, потрудись объяснить, зачем оно тебе понадобилось и не кажется ли тебе, что ты совершила опрометчивый поступок.
И еще я сказал, что обнаруженное и прочитанное письмо ставит в деле гибели Манечкиных мужей точку, его можно, как говорится, сдавать в архив. Разумеется, я смутно чувствовал какую-то незавершенность проведенного мной расследования, какую-то не окончательную притертость деталей, составляющих эту печальную историю, и, может быть, даже не полную их проявленность. Я мешковато колебался, копошился и словно кишел, весь сомнение, я пятерней почесывал грудь, сомневаясь невесть в чем, и выход мне виделся в том, чтобы где-нибудь на скорую руку переспать с этой столь внезапно овдовевшей девушкой.
– Слишком много несчастий вдруг свалилось на мою голову, – все еще вздыхая, сказала она тогда мне. – Алексей Сергеевич был успешен, богат, перспективен, Антон Петрович – нуль. Антон Петрович болтун и больше ничего. А теперь у меня нет ни того, ни другого.
– Так и у меня ничего нет, ни кола, ни двора, – сказал я; сказал скорее для поддержания разговора, а не потому, будто впрямь страдал от безысходности. – Я хоть и профессор, а беден, как церковная мышь, и одинок до безобразия. А все оттого, что только я вступил в возраст зрелости, то сразу дошел до такой серьезности, что не пожелал впредь как-либо соприкасаться с окружающим миром, насквозь прогнившим. Моя серьезность не знает границ, я достиг неслыханного уединения, а в нем, без ложной скромности скажу, подлинного величия. Профессорское же звание выслужил по эзотерической части. Однажды, печально посвистывая о непутевости людей, о тщете их усилий, я пошел вниз, к реке, и на тропинке, исполосованной тенями теснящихся над ней деревьев, подумал, что вправе быть, в сущности, доволен своей удивительно сложившейся жизнью. Опыт внешнего общения с разношерстным людом и внутреннего – с богами, показал, что я потрясающе хладнокровен, и, как бы ни складывались обстоятельства, всегда в моей власти удержаться от ярости, от всяческого грозного шума, который людской фольклор издавна приписывает критически настроенным, а в действительности всего лишь упоительно передовым господам. Созерцая немыслимые бездны мироздания, я, как оказывается, вполне способен устоять перед искушением забавы ради столкнуть в них какую-нибудь горсточку безумцев или храбрецов, сражающихся с пустотой своего бытия.