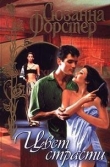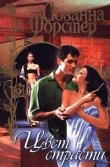Текст книги "Хорошо Всем Известная (СИ)"
Автор книги: Михаил Литов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Annotation
Литов Михаил Юрьевич
Литов Михаил Юрьевич
Хорошо Всем Известная
Михаил Литов
ХОРОШО ВСЕМ ИЗВЕСТНАЯ
Манечка проста и понятна, не следовало бы и внимания на нее обращать. Случай у нас тут теперь, понимаете ли, обратить – все равно что сплоховать, а сплоховал – получается куда как хорошо всем известная история. Вот что такое Манечка и всякие там гнусные свойства ее души, ума и характера. Однако присутствует, и не избежать этого в складывающемся, как уже можно заметить, повествовании хотя бы потому, что великое множество мужчин, каждый из которых, естественно, по-своему глубок и интересен, тянется к ней, иные и на коленках подползают. И тут, между прочим, тоже закавыка. Как ни глубоки эти мужчины, как ни импозантны, как в целом ни серьезны, а где-то и трагичны всевозможные проблемы нашего бытия, если смотреть на них с философской точки зрения, а все же в общем результате выходит что-то комическое и несуразное. Иной раз даже подумаешь: хоть за перо не берись! К примеру, Марнухин с его отчаянной юношеской влюбленностью, – кто же не знает, до чего внушителен влюбленный юноша, как глубокомысленно и драматически воспринимает молодость свои первые, такие важные, на всю последующую жизнь откладывающие след опыты любви? А и этот Марнухин, если поглядеть со стороны, тоже словно снует и кувыркается в кривом зеркале. Но по причинам, которые, надо сразу предупредить, не сегодня станут ясны, а может быть, и вовсе никогда не откроются, за перо браться все же необходимо.
Глубоко задумавшись и судорожно сжав кулаки, Марнухин с юношеским задором подумал, что никак нельзя моралисту не сидеть ярко и выпукло в твердо сработанных рамках, а он как раз и есть такой обязательный, поверивший в себя и намертво утвердившийся – прежде всего в самом себе – моралист. Так вот, именно Манечкой зовут понравившуюся ему бабенку, и уже видим, что она еще та штучка. И был бы страшно Марнухин поражен, случись ему проведать, что ее муж, которого он мыслил благородным человеком и почти что святым, доставлял Манечке одни только огорчения своей суетностью. Антон Петрович (таково имя этого злосчастного супруга) был, на взгляд Манечки, начисто лишен мудрости. Вечно он проявлял какую-то бесполезную озабоченность. То, слоняясь по квартире, сокрушался о крайней бездуховности огромных людских масс, то, вбрасываясь в митинговую стихию, паниковал из-за нынешнего состояния культуры, кричал, что она угасает в условиях глобального обнищания народа и равнодушия власть предержащих и окончательно погибнет в беспрерывно возрастающем ужасном обществе потребления. Затем его лихорадочно бегающий взор на мгновение останавливался на нищих, а те, само собой, с воем протягивали к нему обезображенные конечности, жалобными голосами просили подать на пропитание; пускался он тогда громогласно вещать, что нет на свете ничего важнее благотворительности. В результате всегда выходило так, что он никому ничем не помогал, вообще не делал ничего замечательного и даже не обеспечивал всем необходимым собственную жену Манечку. Мыслимое ли дело! Этот жалкий нервный человек, доживший до седин, бегал в растоптанных башмаках и потертых брючках, как какой-нибудь студент романтических времен его юности.
Когда Манечке приходило в голову, что общего языка с Антоном Петровичем ей не найти, она вспоминала о своем бывшем муже, Алексее Сергеевиче. Иной раз она даже звонила ему по телефону, чтобы излить душу, пожаловаться на свои неизбывные лишения. Алексей Сергеевич всегда внимательно выслушивал жалобы, делая возле телефонной трубки, как представлялось Манечке, сосредоточенное, озабоченное лицо, и даже если не давал никакого дельного совета, на душе у Манечки все же становилось легче после общения с этим искусным, утонченным и немножко таинственным господином. Она ободрялась и затем более или менее продолжительное время не без духовной стойкости сносила глупые выходки мужа.
Бесконечное одиночество, в один из вечеров Манечкой прочувствованное до последних, казалось бы, пределов, заставило ее вдруг с небывалой решимостью окунуться в омут размышлений. Она всеми покинута. Муж побежал на сборище таких же нелепых мечтателей, как он сам. Не найти себе достойного места в тусклой, захламленной квартире. Манечке казалось, что ее большое сильное тело как будто мешает по-женски томной и хищной сознательности ее жизни, что его необходимо куда-нибудь выпроводить, а самой всецело преобразиться в страдательный, прозорливый, чудовищный в своей изобретательности дух. Когда преображение удастся, Манечка поймет до конца причины своей семейной неудачи и изыщет способ с изощренным коварством и жестокостью уничтожить их. Даже сжимала Манечка кулачки и скрежетала зубами, воображая свои будущие успехи. Чтобы достичь поставленной цели, важной и в сущности печальной, девушка обратилась к вселенскому средству исцеления от тоски – присосалась к бутылке. Называем ее девушкой, и она сама себя так называет; идем, стало быть, на поводу.
Отвратительными фокусами судьбы Алексей Сергеевич навсегда вычеркнут из ее жизни, ведь они развелись. Но в этом отторжении бывшего супруга она сейчас усмотрела нечто оскорбительное для них обоих. И это называется жизнь! Быть лишенной дружбы и покровительства преуспевшего господина, быть зависимой от сумасбродного человечка, быть воистину одинокой.
Муж не сознает своих мужских задач, а Алексею Сергеевичу она сама не позволяет лежать у ее ног хотя бы под предлогом разумно-дружеских отношений, естественных для людей, которых связывает память о былой любви. Но отчего же и не позволить? Что это за безрассудство такое – не позволять в ущерб собственным законным и святым интересам?
Неверной рукой подвыпившей бабы она подняла телефонную трубку.
Алексей Сергеевич спокойно выслушал ее сбивчивый монолог, скрыто заинтересовался перспективой лежания, туманно обрисованной собеседницей, и, поняв, что все услышанное – лишь прелюдия к просьбе о встрече, придал голосу вкрадчивость, легко сокрушающую женскую душу, и разрешил: приезжай.
– Но куда мне сейчас самостоятельно, не добраться, – жалобным голоском запищала Манечка; ссылалась она на то, что, мол, после сногсшибательной дозы спиртного не рискнет воспользоваться городским транспортом.
– Хорошо, пришлю за тобой машину, – сказал Алексей Сергеевич и положил трубку. Он почувствовал себя именитым игроком, заученными движениями сильных, властных рук расставляющим фигуры на шахматной доске.
***
Манечка давно не посещала своего бывшего. Но вот он все так ловко расставил и устроил, что добралась-таки. Переступив теперь порог его роскошной квартиры, она с досадой подумала, что Алексей Сергеевич стал персонажем сказки, обретающимся в царских хоромах, тогда как она отставлена, брошена в грязь и ее топчут все, кому не лень. Алексей Сергеевич условно прохохотал над ее заплетающейся походкой. Сделав свои открытия, ошеломленная Манечка заговорила громко и путано. Она даже вдруг словно взвилась, вылетев откуда-то, как пробка из бутылки. А следом и брызги, в общем, все как праздник с шампанским, визгом и неопределенностью даже ближайшего будущего. Манечка чрезвычайно возбудилась и не замечала, что Алексей Сергеевич слушает ее вполуха и вид у него скучающий. Ему был совершенно безразличен нынешний муж Манечки, этот убогий Антон Петрович. Не интересовало его, что этот человек думает и говорит о крахе культуры, помощи сиротам, истощении полезных ископаемых и вымирании животных. Вдруг тень улыбки скользнула между его плотно сжатыми губами.
– Забавно... – пробормотал он как будто про себя.
– Да к черту моего благоверного, что о нем говорить! – вскрикнула Манечка. – Скажи лучше... Что ты мне посоветуешь?
– А что я могу тебе посоветовать? – удивился Алексей Сергеевич, его лицо сделалось безмятежным и умным и вместе с тем изобразило какое-то светлое простодушие. – У тебя своя жизнь, а я не люблю совать нос в чужие дела.
Манечка знала, что у этого человека простодушия не больше, чем у мыши разума. Да он просто издевается над ней! Ему плевать, что с ней будет дальше.
– И это все, что ты можешь мне сказать? – крикнула девушка в ярости.
– Пожалуй, – ответил Алексей Сергеевич и для убедительности кивнул.
Гостья едва не задохнулась от обиды. Не зная, каким укором побольнее уязвить собеседника, она вдруг выпалила:
– Лицемер, фарисей, хорек! Да ты... ты один и виноват в том, что мы разошлись!
– Я? Господь с тобой, Манечка... Гм, Манечка, ну и ну. Гм, Манечка...
– Ты отдал меня этому человеку, этому... недоумку!
– Милая, ты не вещь, как я мог тебя отдать?
И горечь разлилась по красивому лицу сказавшего это мужчины, все его существо иллюстрировало ту горькую истину, что будь на то его власть, он и сейчас бы носил Манечку на руках. Он отлично знал, что на виду они с Манечкой приличны, а в известном смысле даже и респектабельны, но за этой прекрасной внешностью скрываются не совсем приглядная нагота и жаркое, отчасти тошнотворное удовлетворение похоти. Ты не вещь, я не вправе кидать тебя туда-сюда, – так он сказал Манечке, естественным образом, никак не шершавя, не барахля, купаясь в выстраданной человечеством вальяжности. И ведь высказал он эту философскую по существу мысль так, что у Манечки не должно было остаться сомнений в его верности, в его неистребимом восхищении ее выдающимися достоинствами. Отлично получилось! Мгновение-другое в доверчивом сердце Манечки даже полыхала гордость: да, она не вещь, в ее власти переходить от одного мужа к другому, а такого, чтобы ее насильно передавали или обменивали, быть не может. С другой стороны, особых причин гордиться собственным своеволием у нее не было, поскольку в результате она оказалась на бобах, променяв достойного мужчину на растяпу и краснобая. И Алексей Сергеевич не мог этого не знать, не мог не восхищаться своим превосходством больше, чем ее красотой, умом и возвышенными чувствами души. Она подозрительно покосилась на него – не насмехается ли? Алексей Сергеевич, тотчас переметнувшись на новый этап, старательно придал своему лицу простоту и доверчивую открытость, скинулся учеником, пытающимся задурить славной учительнице голову зрелищем детской влюбленности и некоторого подобострастия, а отнюдь не познаниями в предмете, который она излагает.
Но продлевать эту роль для Алексея Сергеевича не имело ни малейшего практического смысла. Он вовсе не собирался лепить в представлениях бывшей жены какой-то сугубо положительный образ, так или иначе выхваляться перед ней своим благородством и великолепием. Они ведь хорошо знают друг друга, в отношениях между ними исчерпаны любознательность и вероятие удивительных открытий. И для Алексея Сергеевича резон мог заключаться разве что в той перспективе лежания, которая все еще вырисовывалась в воздухе, окрыляя его и уже некоторым образом оскорбляя нынешнего супруга Манечки. Обольщать же эту последнюю не было никакой нужды. И если все-таки он был не прочь разыграть некоторую феерию обольщения, хотя бы на скорую руку, а отчасти и насмешки ради, то исключительно из чистой поэзии и еще потому, что в этот вечер у него не было каких-либо особых, важных занятий.
Алексей Сергеевич солидно размышлял. Секреты обольщения ему отлично известны, он проверенный, испытанный временем Дон Жуан. Но предстать перед пустой бабенкой этаким великовозрастным повесой, хлыщом, извиваться ради женских прелестей... Это не дело. Он не уж, не гнида какая-нибудь, чтобы извиваться. Алексей Сергеевич полагал себя человеком глубокомысленным, и ему было что сказать о своей чувствительной мужественности и сопутствующем ей трагическом мироощущении.
Вдруг он отбросил всякую суетность, перестал улыбаться, его лицо тронула печальная задумчивость. Можно было подумать, что он больше знать ничего не хочет ни о женской сдобности Манечки, ни о бедствиях ее злополучного брака, что он сейчас поднимется исполинской фигурой над всевозможными безднами, зависнет мрачной тенью на фоне каких-то молний и яростных вспышек.
В нем, вставшем в полный рост и медленно заходившем из угла в угол, драматически изогнулся, почти скрючился страшный биографический вопрос: действительно ли я живу? не бред ли, не одно лишь воображение моя жизнь? Вопрос не праздный, большой, но странно было видеть, при его и самого Алексея Сергеевича величавой осанке, унылую, забитую понурость словно бы нечаянно притулившейся пытливости – словно видишь рыбину, загнанную в тесный для нее аквариум. И все это так на виду, так остро. Алексей Серегеевич физиологически, даже, пожалуй, зоологически ставил вопрос, порожденный, если разобраться, больным и мучающимся духом его поколения. Теперь он думал только о себе и знал только себя, и разные сбивчивые мысли готовы были извлекать из его грудной клетки похожие на стоны слова.
Он вышел на середину комнаты, сложил руки на груди и с болезненно отзывающейся в мускулах лица пристальностью воззрился, минуя стены, куда-то в темные дали.
– Впереди – неизвестность, – отчеканил, насупившись.
Манечка что-то проклекотала. Она не поняла озабоченности собеседника, в его словах, а тем более ощущениях и предполагаемых метаниях она не разглядела никакой драмы или, например, задачи, требовавшей трудного, чем-либо опасного решения. Проблема темных далей и таящейся в них неизвестности выеденного яйца не стоит, решить ее, по мнению Манечки, можно довольно просто, если ты обеспечен, если твой карман не пуст.
– И что с того? – Она пожала плечами. Сказать ей было нечего, и заговорила она только с тем, чтобы не молчать, не угнетать своим беспомощным и бессмысленным молчанием и без того удрученного Алексея Сергеевича.
Алексей Сергеевич скорбно посмотрел на нее, не понимавшую его муки, его боязни напрасно или как-нибудь неосторожно расплескать душу.
– Не знаю, Манечка... – глухо выговорил он. – Может быть, следует славно и сладко прожить последний миг, оставшийся до этой... этой неизвестности. И тут нужна родная душа, так нужна, Манечка! Чтоб прислониться к ней и найти утешение... А ты меня бросила... Зачем ты меня оставила, Манечка?
Манечка навострила уши. Бойко же он снова повернул на их отношения. Как бы тут, однако, не проморгать ловко расставленные сети, от этого хитреца всего можно ожидать, любого подвоха!
Поматросит и бросит, знаем мы таковских... Однако Манечку уже не только распирала, но и несла неведомо куда расправившая крылья радость оттого, что Алексей Сергеевич не позабыл о ней среди сумятицы своих тревог и как ни беснуется, а все-таки дельно и не совсем уж между прочим подыскивает ей местечко в своей большой, сумбурной жизни.
– Ну, я что... я тут... – пробормотала она и, словно в забытьи, с нежной нахрапистостью придвинулась, минимизируя пространство, созидая творческую тесноту. Вся ее стать сейчас наглядно обрамляла густо и твердо образовавшийся внутри металлический стержень, личико, флюгером замаячившее на вершине этой новой и уже фактически неотразимой Манечки, округлилось, своей живостью как бы отрицая внутреннюю прямизну всего ее остального существа, и порозовело, как поспевшее яблочко. – Я справляюсь, правда? – говорила она. – Нелегко... Ты изменчив. За тобой трудно уследить... Роль, я понимаю. И я должна соответствовать. Справляюсь как могу...
А что, подумала она, ради сближения душ присаживаясь на колени Алексея Сергеевича, может, это и выход... Да и не обманет он меня, если я его как следует прихвачу. Не на девчонку напал, мной просто так, за здорово живешь, не попользуешься.
***
А Марнухин тем временем основательно засел в добытых далеко не тщетными нравственными поисками и, что особенно важно, усилиями его незаурядного ума рамках. Многое, если не все, было ясно Марнухину в поведении Манечки, и он уже не сомневался: самое время нынче окончательно и бесповоротно, а главное – не шутя, взяться за нее. Перво-наперво перевоспитать ее, а затем и утопить в море любви. Юноша тонок, строен, пригож; он худощав, и видны кости, когда снимается одежда. Еще только-только покончил он с довольно-таки темным и страдальческим периодом, когда ему воображались продолжительные объяснения с юными, необычайно серьезными красавицами о пагубности плотского греха, о мерзости того, чем занимаются взрослые люди в постели, о востребованности мощного, подавляющего примера платонических отношений. Но вот душу нечто припорошило словно пеплом, не выкинуть какое-то глубокое и неизъяснимое недоумение. Томясь и не ведая, как это устроить поскорее – в очередной раз примириться с ужасающей действительностью, Марнухин не без смущения предложил своей красивой и нарядной подруге поужинать или пообедать вместе, словом, предложил выбрать: обед ли, ужин ли. Примерно так и высказался, а на самом деле предлагал выбрать между свиданием и огорчительной для него перспективой расстаться навсегда.
Манечка снова безуспешно задумалась (каждый раз, когда она делала это, Марнухин, понимая, что она в сущности производит холостой выстрел, невольно напрягался в ожидании громкого устрашающего хлопка), погрузилась в туман воспоминаний о некой куче дружков, ориентированных не на различия между обедом и ужином, а на сплошную оргию. Она бы и сразу дала парню положительный ответ, когда б не очевидная полезность некоторого кокетства и если бы, главное, не маленькая щекочущая сомненьицем мысль, что этот парень, может быть, совсем ей не пара, – мысль, которую она, однако, все равно не в состоянии была сколько-нибудь вразумительно освоить. Марнухин терпеливо ждал, сидя в своих непоколебимых рамках. Тут надо попроще, без выкрутас, решила девушка.
– Я с радостью приняла бы твое предложение, – наконец ответила она, – но что делать, если не все мне понятно и это мешает сказать да или нет?
– Говорить всегда следует откровенно, честно, без всякой задней мысли. И чтоб лицом к лицу и без кукишей в карманах. Нужно улавливать дыхание говорящего с тобой и, нюхая, быстро соображать, не тлетворно ли. Скажи, в чем твои сомнения, и я помогу тебе разрешить их, – как и подобает настоящему мужчине, высказался Марнухин.
Манечке незачем было ловить марнухинское дыхание, она и так видела, что малый сей – с придурью. Охотно пояснила она, причем на этот раз сразу вынула и показала парню сердцевину проблемы – как если бы ударом ладони разрубила пополам плод, который они до сих пор нерешительно рассматривали издали:
– Видишь ли, кто хочет завоевать мою благосклонность, тот должен включить сердце, включиться всей душой. Принадлежи, будь добр, если хочешь чего-то добиться, отнюдь не простому миру... в общем, как бы это попрямее, доступнее... прокладки с крылышками, модные спектакли, злачные местечки с отличной репутацией, понимаешь? Вот куда устремись. Возьми что касается прокладок и не воображай, будто сразу тебе все ясно. Для тебя это, может, пустой звук, а мне они оказывают неоценимую помощь в мои критические дни. Хороши и всякие шампуни, лосьоны, кремы разные, еще лучше буквально просящиеся на мою шею ожерелья, и я не прочь все это загрести под себя или хотя бы рекламировать, а ты способен обеспечить мне подобную деятельность?
– Нет, – покачал головой Марнухин.
– Говорят, на этом зарабатывают бешеные деньги.
– О времена, о нравы! А я-то что, я простой безработный.
– Такой молоденький, – выпучила глаза Манечка, – и уже не можешь никуда приткнуться, нигде не можешь обрести себя?
– У меня принципиальная позиция, я отвергаю всякие пошлости и стою на том, чтоб повсюду были правильные, справедливые отношения. Со всем, что сомнительно, шатко и с двусмысленной ухмылочкой ведет к разброду, я резок.
– Все это чушь, больше никогда не говори мне ничего подобного. Так может рассуждать посаженный на цепь пес, ему предписали охранять, огрызаться, рычать, кусать проходящих за ногу. А ты свободный мальчишка, тебе ли уставать и шарахаться от баловства, от безумств? Неужто не тянет тебя в мир рейтингов, имиджа, приятных консенсусов? В мир достойных меня машин, тающих в моем рту конфет и утоляющих мой голод маргаринов? Почему бы тебе не стать заботящимся о моем досуге кинематографистом или довольным качеством моей зубной пасты академиком? Чем это тебя так привлекают задворки и изнанка, где воротят носы от провонявших потом женщин, где людей одолевают вши и перхоть? Ты извращенец?
– Не задворки и не изнанка, – возразил Марнухин с нарастающим неудовольствием, – а рамки, до которых я дошел собственным умом, и уже одно это исключает возможность извращений. Я молод, свеж, энергичен, у меня сложившееся мировоззрение и твердые принципы...
– И тебе не по душе наслаждаться моим ароматом? – перебила Манечка. – Выходит дело, ты не либерален? И наконец, имеется ли у тебя тот презерватив, вид которого соблазнит именно избранницу твоего сердца, а не какую-нибудь заблудшую, старомодную душонку? Эх, парень! В состоянии ли ты раз и навсегда, подчеркнуто, с обезоруживающей ясностью избавиться от непроизвольного мочеиспускания, в силах ли предстать человеком, забывшим, что такое образующийся на зубах после приема пищи налет? По плечу ли тебе, простому безработному, полноценно войти в мой мир и стать его счастливым обитателем?
Словно опускались веки парня под гипнозом быстрых и внушительных слов девушки, или какая-то пленка медленно и неотвратимо ложилась на его глаза, а внутри погрузившегося в космическую ночь глазного яблока неистово крутились созвездия, могучие планеты, неопознанные миры. Он терял почву под ногами, но не разум и уж тем более не принципы, так что его отповедь прозвучала веско, исполненная сознания собственного достоинства:
– Я не так прост, как это тебе могло показаться.
Теперь его увлекла мечта о творческом противостоянии запросам девушки. Они выглядели мещанскими, сколь ни пыталась она облечь их в поэзию слов. Он даже был готов сжонглировать рискованным обещанием положить к ее ногам все самое лучшее, что обнаружит, усвоит и завоюет в том новом для него мире, куда она введет его. А ему ли не знать, что за всякое обещание, даже самое глупое или фантастическое, когда-нибудь приходится держать ответ? Но чрезмерного азарта от него, кажется, не потребовалось. То ли в играх, которые вела девушка, не было моды ставить на кон свою жизнь, то ли другим, Марнухину неведомым, а потому невидимым способом выкачивались в них из человека его жизненные соки. Как бы то ни было, Марнухин оказался в роли убаюканного, усыпленного, ублаженного, покладистого и сонно всем и вся улыбающегося младенца.
Так вот, к вопросу, чем рисковал бы парень, пообещай он завоевать для девушки весь мир. Практически ничем. И мы убедимся в этом тем вернее, чем скорее выясним для себя, что между Манечкой, плакавшейся перед знатоком неизвестности Алексеем Сергеевичем, и Манечкой, заговорившей о прокладках с крылышками и торопящихся услужить ей академиках, очень мало общего. Собственно, эта, заговорившая с Марнухиным о вещах, едва ли доступных его разумению, представляла собой девушку в высшем смысле этого слова, если, конечно, таковой существует. И парень должен был принять это за должное. Пришло время ему отвыкнуть от мысли, что жалкая и ничтожная, неуверенная в себе бабенка прозябает перед ним, и наоборот, привыкнуть к сознанию, что девушка, вечноюная и бессмертная, за ручку ведет его в мир, где она и без каких-либо роскошных посул с его стороны чувствует себя царицей.
Марнухин бормотал:
– Опять же к вопросу о том весе, который я мог бы приобрести в твоих глазах всякими там громкими клятвами...
Огромно, не высокомерно и не снисходительно, но величаво, усмехнулась Манечка:
– Ты его приобрести ни под каким видом не смог бы, – возразила она. – Имея дело с такими, как ты, я никогда не получаю чего-либо, чего раньше у меня не было.
– С каких же пор я у тебя в руках?
– Трудно определить. По сути, в руках ты у меня, на руках или под рукой, все это не имеет значения. В мире, куда я намерена тебя внедрить, мое превосходство над тобой находит убедительное и достоверное выражение как в моей безупречной красоте, так и в моем фактически абсолютном постижении окружающей среды. Эту среду, как она представлена в том мире, можно назвать питательной, и в ней принадлежность или приверженность чему-либо или кому-либо совершенно равны отторжению и заброшенности, а следовательно аккуратно сводятся на нет. Слышь, парень, я философствую! А все потому, что я в указанном мире здорово питаюсь. Но, вволю питаясь там, ты в то же время рискуешь самолично обернуться для кого-то кормом. Беда, казалось бы, – ан нет! Коль шампуни думают обо мне, а разные быстрые машины меня достойны, то какие, собственно, могут у меня быть вопросы к жизни, миру, Богу, космосу? К людям возникает разве что один вопрос: почему и они не вхожи в этот замечательный мир, не принадлежат ему? Но для того, чтобы я этот вопрос сформулировала, людям следовало бы существовать как нечто самостоятельное и видимое невооруженным глазом. Сделайтесь интересны мне, и я должным образом сформулирую вопрос.
– Разве среди людей нет популяций... – начал Марнухин нерешительно.
– Как не быть, есть.
– Да, но такие, что заявляют...
– Имеются и такие.
– Заявляют, ну... назовем это так... о своей состоятельности?
– Самое простое – отказать им в праве называться разумными существами, а дальше хоть потоп. Я полагаю, вопрос решается следующим образом. Я отказываю им в праве называться разумными существами, и они продолжают себе благополучно и мирно не существовать для меня.
***
Весна. Кругом свежая листва, все до ужаса зелено. В назначенный час отъезда, прелестным ранним утречком, когда Виктория Павловна и Манечка уже сидели в машине, грубо развалившись на заднем сидении, а строго подтянутый и дельно хлопотливый Гордеев метил на водительское место, неожиданно появился Марнухин.
– Я пообщался с Антоном Петровичем, пообщался с Алексеем Сергеевичем, – заявил он, – и оба они в один голос уверяют меня, что я обязательно должен посетить профессора Хренова.
– Как вы узнали о нашей поездке? Кто выдал? – мрачно засуетился Гордеев.
– Никто не выдавал, я узнал случайно, да мне Антон Петрович и Алексей Сергеевич сказали. Они считают, что я просто обязан воспользоваться случаем и поехать с вами. Поэтому я здесь.
– А кто ты такой?
– Я Марнухин.
– А не профессор еще какой-нибудь?
– Нет.
– Смотри... – с неопределенной угрозой протянул Гордеев, о чем-то размышляя, и кивком головы показал Марнухину, что он может сесть рядом с ним. Он думал о том, что между Алексеем Сергеевичем и Антоном Петровичем царит вражда, но вдруг воцарилась дружба, и это – из области непостижимого.
Отъехали. Выехали за город. Машина была готова зареветь. Манечка, потребовавшая Марнухина к себе, сидела с ним в обнимку, но и дремлющая, даже слегка всхрапывающая головка Виктории Павловны склонялась на плечо юноши. Гордееву было неприятно, что неожиданный попутчик, вопреки его указанию расположиться возле него, уселся между бабами. На пустынном шоссе он безрассудно развил сумасшедшую скорость. Почувствовал: ему скучно оттого, что его разум не в состоянии переварить всю массу ощущений и впечатлений, возникающих от соприкосновения с внешним миром, оттого, что он, Гордеев, неспособен раз и навсегда разобраться в складывающихся у него с людьми отношениях. Какие контрасты! Антон Петрович и Алексей Сергеевич враждуют. Алексей Сергеевич и Антон Петрович дружат. И оба претендуют на Манечку, а это напрямую затрагивает его, Гордеева, интересы. Или вот еще. У него прекрасная жена Виктория Павловна. Вместе с тем он терпеливо и даже бережно поддерживает связь с Манечкой, а она, надо признать, отличная любовница. Но что это за паутина такая опутывающая, сковывающая теперь из-за Марнухина, невесть откуда вынырнувшего?
– Положим, – сказал он глухо, – я везу Викторию Павловну на исповедь, может статься, что и на покаяние. Допустим, что это так.
Высказавшись таким образом, Гордеев повернул голову и взглянул на жену. Она открыла глаза и ответила ему безмятежным взглядом. Скорее всего, ей было все равно, куда ее везут, поскольку ничего худого с ней, разумеется, не сделают и какое-нибудь удовольствие из этой поездки она так или иначе извлечет. Возможно, впрочем, что сейчас она особенно хорошо и убедительно поняла, что если это будущее удовольствие ей доставят мужчины, то это даст ее телу возможность сполна и как бы даже беспечно осознать свою превосходящую всякое понятие о грехе ценность, а следовательно, и бесполезность какого-либо покаяния.
– Хренов тебе не призрак какой-нибудь! – крикнул Гордеев яростно. – Не демагог, не суеверие одно. Он почище иного попа будет! Он тебя приструнит! Куда подевала целомудрие, и все тому подобное, уж он-то у тебя признание вырвет, Викуша!
Ответа не последовало. Помолчали. Затем Гордеев, успокоившись, сказал:
– Слушай, жена, я молчу и терплю, а потом как дам тебе когда-нибудь! Ну да, я везу ее с тем, чтобы Хренов ее приструнил, – объяснился он уже с некоторой неопределенностью, без адреса. – А ты... как там тебя? – кинул острый взгляд на Марнухина. – Ты-то как здесь очутился? Ты точно не профессор?
– Говорю вам, я Марнухин. И Алексей Сергеевич с Антоном Петровичем...
– Хорошо, ты Марнухин, – перебил Гордеев, – а какого черта тебя понесло к Хренову? Исповедоваться? Но ведь у Хренова больше по женщинам специализация. Его уж кто-то там и в ад утаскивал, а он вернулся и с прежней наглостью гнет свою линию.
– У Марнухина принципы, – сказала Манечка.
– Даже не спрашиваю, какие. Я любые заглочу и переварю, не поперхнувшись, не подавившись. Я как живоглот для всяких принципов, и даже когда ученые люди мне говорят, что без принципов нельзя помыслить мироздание и хоть что-нибудь примечательное возвести, я лишь отмахиваюсь. Я весь в безмерном освобождении духа, и на что-то там утверждающих смотрю, как на назойливых мух. По праву сильного, чтоб не стало тесно и было всегда где развернуться, я требую от жены норм поведения. Не перебегай дорогу, дрянь такая! Я веду машину, а не ты, стало быть, твоя душонка, твоя жалкая жизнь – все в моих руках. Все вы тут в моих руках. Как швырну в кювет!
– Антон Петрович сказал, что я просто обязан придерживаться с профессором полной откровенности, а Алексей Сергеевич это подтвердил, – робко пояснил Марнухин.
– С профессором? – рассмеялся Гордеев. – Это Хренов-то профессор? Ну и каша у тебя в голове, хотя сам ты, может быть, в этом вовсе не виноват, это те двое так тебя настроили. На такую волну... И ты теперь барахтаешься в иллюзиях. Ничего, Хренов их развеет, а не сумеет он, я помогу. Мы тебя выведем на верный путь. О чем же ты собираешься откровенничать с так называемым профессором?