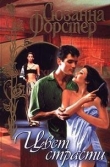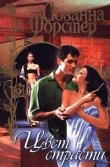Текст книги "Хорошо Всем Известная (СИ)"
Автор книги: Михаил Литов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Пока я так наслаждался исследованиями в собственном сердце, впереди из кустов вдруг выскочило на тропинку крошечное, с черной лоснящейся шерсткой существо, похожее на кота, и, усевшись на задние лапы, уставилось на меня всей своей насмешливой рожицей. Уловив, что этот незваный кот то ли что-то особенное чует в моих восторгах, то ли просто для души, но так или иначе намерен как бы посмеяться надо мной, я сейчас же настроился примерно проучить его. И я ринулся. То есть уже вдогонку, ибо он с замечательным проворством развернулся в бега. С невероятной скоростью неслись мы к реке. Кот прыгнул с берега в посаженную на цепь лодку и мгновенно превратился в застенчивую очаровательную девушку, нежно купавшую руку в теплой воде. Я, разумеется, понимал, что тут все нечисто. Мгновение я колебался, не схватить ли эту девицу грубо, наказующе. Да только вышло-то ласково. А между тем я там, в лодке, заключил в объятия малопочтенного субъекта, чьи масляные лукавые глазки, козлиная бородка и ботиночки в форме копыт не оставляли сомнений в его подземно-адском происхождении. Он со смехом высвободился, в наглой позе развалился на корме и, представ, наконец, господином полноценно бесовской наружности, заявил следующее:
– Не горячитесь, старина, разлюбезный мой гость, нет у меня желания обижать вас. Жизнерадостность, и только она, толкнула меня на небольшую импровизацию. Так что не будь я бесом, сидел бы сейчас где-нибудь в укромном, заповедном уголке и сочинял увлекательные побасенки о таких, как вы, а в промежутках между этой приятной работой бегал бы по садам и полям за толстыми крестьянками. Но судьба, судьба... Она распорядилась быть мне бесом и вашим недолговечным другом, и я призван помогать вам в ваших многотрудных заботах и свершениях в этом промежуточном мире.
В общем, находился я тогда где-то на подступах к загробному миру, и как только это нашло отражение в моем рассказе, Манечка с приятным для слуха девичьим шумом отшатнулась.
– Вы покойник, да? – спросила она, сильно оробев.
Незамысловатая, с сигареткой в руке, наморщившая лобик, сидела на скамейке рядом со мной, положив ногу на ногу и дрожа всем телом.
– Через того беса стал в высшей степени разнообразным существом, не то чтобы живым и не то чтобы мертвым, – ответил я. – За бабами, между прочим, крепко ухлестываю. Мне это тот опекающий бес велел.
– Страсти какие! С ума сойти! – закричала Манечка. – После таких страхов мне остается только последовать за мужьями!
Я рассмеялся.
– А стоит ли? В загробном мире для людей вашего сорта, а вы обычны, вот в чем штука, приготовлен один лишь ад. Я сегодня в благодушном настроении и готов дать вам добрый совет: не гоните меня, сойдитесь со мной. Что остается вам, людям, которые черт знает как возникли и никому из профессоров, как, впрочем, и из так называемых потусторонних сил, не интересны, что вам остается, как не быть братьями, а значит, делиться на каинов и авелей?
– Но подобным образом, – возразила Манечка, – еще можно раскидать по нишам моих мужей, а я женского рода, и меня эта ваша арифметика, стало быть, не касается.
– Еще как касается! Когда жизнь не проживается, а предстает в виде зрелища, запросто стираются различия между мужским и женским.
– Не это ли называлось у древних позорищем?
– Не то чтобы лишь это. Но и это тоже. Любопытно... Я из вашего прикосновения к древности заключаю, что течение времени и где-то даже вечность вам не вполне безразличны. А ведь, девочка моя, несносна, ой как несносна эта людская потребность существовать вечно. Хорошо, допустим, она будет удовлетворена... Но исключительно в порядке собирания всех и каждого в образ либо Каина, либо Авеля...
– Авелю, сами знаете, непременно нужно в рай, стало быть, должен рай существовать, – возразила Манечка взволнованно.
– Так-то оно так, но только бесам скучно было бы копаться в ваших дрязгах и разбирать, кто там из вас кем на самом деле является. Наверняка предпочтут для простоты дела оставить одного Каина. Оно, знаете ли, как-то больше соответствует человеческому облику.
– А если... ну, скажем, если возвышенный поэт или благородный писатель?
– Всех под одну гребенку. Помер, прибыл к ним – занимай свое место в неописуемо жутком процессе каиновых мук. А они таковы, что и врагу не пожелаешь. Хотите, покажу?
Она отказалась, очень уж ее сразу измучила перспектива чудовищного будущего. И оно неизбежно? Бедняжка все не могла до конца поверить в это и, вскочив на ноги, топталась на месте, обескураженная и почти что втоптанная в грязь.
– Неужели и Пушкин с Толстым?..
– Ну, не знаю... То есть сначала – да, а потом, может, и восторжествует некая справедливость, разберут более внимательно, как-нибудь там их вытащат, поместят в более благоприятные условия. Но это уже такие дела, что даже я ничего о них не ведаю, затрудняюсь сказать, бывают ли они вообще. А что? Думаешь спастись? Так ведь куда тебе, мышонок, до Пушкина! Говорю: хватайся за меня да поживи в свое удовольствие, пока дух из тебя не вышибли.
И она сочла, что я привел доводы, с которыми ей трудно не согласиться.
***
Я живу, главным образом, на грешной земле, частенько бываю на небе, а в ту минуту, когда нас с Манечкой все решалось, совершенно укрепился в мысли, что не грех какое-то время пожить всласть с этой очаровательной малышкой, ведь хороша же чертовка, и она согласилась, да только... и на этом этапе своего рассказа я, в высшей степени огорченный, хватаюсь за голову... не сложилось, а точнее если выразиться, не так сложилось, как хотелось бы. Не сразу утряслось и приняло сносный вид. А всему виной непредвиденные абсурды. Мужья-то ее... Но по порядку. Мы вышли из парка. По дороге к счастью Манечка указала мне на дом, где лежит-де убитый Алексей Сергеевич... а тут этот самый Алексей Сергеевич мешком свешивается из окна, у самого рожа разбита, в синяках, и он кричит нам, что посчитается с Антоном Петровичем, вздумавшим поднять на него руку, так, мол, и передайте этому негодяю, не сносить ему головы. Мы ускорили шаг и в миг один примчались в нынешнее Манечкино жилище, а там Антон Петрович вешается. Вытащили его из петли.
– Алексей Сергеевич явно зарвался, – сказал он, узнав, что его враг уцелел и грозит ему расправой, – решил, что вокруг уже нет ему равных и он может делать все, что ему заблагорассудится. Проворачивать свои делишки в открытую. Тебе дали отставку? Дали. Отойди, скройся! А он петарды взрывает. И никто, дескать, не рискнет встать у него на пути. Но так ли оно? Я-то в оппозиции его преступным замыслам. И пусть моя фигура не кажется вам сомнительной в таковом качестве. Но вот что, как я погляжу, не состыковывается и выглядит новыми уловками нечистого. Как прикажете понимать истинные мотивы вашего бодрого появления? Вас обоих спрашиваю, анчутки. Надумали пожить здесь вместо меня? А как же факт моего очевидного пребывания? Не складывается ваше появление и мое проживание в гармонию. И для чего мне, спрашивается, теперь умирать? Что дает повод к этому? Ваша жажда совокупления? Между прочим, сама неистребимость Алексея Сергеевича подтверждает его участие в разных темных делишках, порочащих доброе имя нашего города. Но это участие подтверждалось и моим горячим желанием сжить его со свету. Я ведь хорошенько ему задал, будет помнить. Известно ли вам, что на этой теме, то есть на том, какую проблему представляет собой для нашего города Алексей Сергеевич, в настоящее время лежит негласный запрет. Временный или вечный, этого я не знаю. Вот он умер, как подумали вы, прочитав мою прощальную записку, а он, оказывается, выжил, и это как нельзя лучше доказывает, что он снюхался с темными силами.
– Профессор, – Манечка указала на меня, – называет их адскими.
– Совершенно верно мыслит твой профессор, – подхватил Антон Петрович. – А меня не иначе как ангел света, добра и разума спас от смерти. Но нити по-прежнему ведут к Алексею Сергеевичу, который был разумным и добрым человеком, пока не принялся взрывать петарды. Но что это за нити и какие последствия могут вытекать из обнаруженных связей, еще предстоит выяснить. И ничто пока не приподнимает завесу над главным, ради чего я бьюсь, – над догадкой, как мне покончить с этим прохвостом. Должен заметить, теперь беспокойство особенно не покидает меня. Напротив, оно возрастает. Ни минуты не сомневаюсь, это Алексей Сергеевич все организовал и подстроил, это он свел вас и помог снюхаться. И что же, я должен почувствовать некое бессилие, видя, как вам хорошо вместе? Испугаться, как бы вы меня не угробили? Уложить вас в постельку? Я взял за правило вести себя осмотрительно в подобных ситуациях, а вот Манечка, я знаю, всегда готова наломать дров. И Алексей Сергеевич далеко не прост. Он говорит так, а поступает этак. Еще неизвестно, как он в действительности посмотрит на ваш союз. У нас с ним сегодня одни мотивы, завтра другие. Что же выходит, мне следует разделить с Алексеем Сергеевичем ответственность за то, что мы, вам на беду, остались живы? Это было бы несправедливо, но я чувствую, что вы именно к этому ведете. И ничего с этим не поделаешь. Остается только предупредить профессора, что ему следует быть осторожнее. Петарды, и все такое... Вряд ли этот надутый и самоуверенный господин ...неужто он впрямь профессор?.. вряд ли он сочтет нужным прислушаться к доброму совету. В таком случае я не предупреждаю, а прошу. Будьте чуточку осмотрительнее, профессор.
В конце концов решили поселить меня в Куличах у приемных родителей Гордеева, и я, как видите, вполне у них прижился. Манечка навещает.
– Вы закончили? – спросил Гордеев. – Интересная история, с удовольствием послушали... Когда у человека история, выслушать его – святое дело. Мы с этим очень считаемся, но все же... имеются ведь у нас и собственные обстоятельства, даже наболевшее... Мы, значит, отправились в баньку... да вы, может быть, знаете уже! Что это за люди на нас набросились?
– У них свое мировоззрение, свое мироощущение, у них все свое, и с ними непонятно и трудно, но мы ничего, терпим и выживаем. В теории уже отняли у нас баньку, где-то и на практике так тоже выходит. Ладно, принимаем к сведению... Смирились. Против силы и безумия не попрешь.
– Не моясь живете?
– Приспосабливаемся как-то. Старики ваши вообще больше нравственной чистотой довольствуются.
– Но меня на кол собирались посадить.
– Ну, это не взаправду, а вроде иллюстрации, – расплылся профессор в благодушной улыбке, – или все равно как сноска, которую не обязательно читать.
Гордеев сбился на писк:
– А мне в такой сноске, думаете, не обидно, не больно? Я же не попусту болтаю, я натерпелся, все видели, молокосос тут один есть, и он тоже видел, стоял и преспокойно наблюдал, я ему еще это припомню... Мне, профессор, в вашей сноске тесно!
– С нами они более или менее человечно обходятся, а вот посторонних не любят. Гордеев имеется еще среди вас? – Профессор изобразил, будто напряженно высматривает этого совершенно заметного человека. – Гордеев, если жив, спросит, какой же он здесь посторонний...
– Издеваетесь? После всего? Я вас слушал... и банька та... кол... Или вы опять про сноску? Ну так вот, я жив и спрошу...
– Но у меня, между тем, свой вопрос. Добрая Манечка из уважения к моим старым костям и застарелым потребностям частенько меня навещает, и мы купаемся в удовольствиях, но сегодня я вижу надобность спросить у нее, ко мне ли она приехала.
– Послушай, собака, – вскипел Гордеев; заскрипел он зубами, – не юли и не юродствуй, твой вопрос – ко мне, Манечка, видишь ли, со мной приехала.
– А жена? Нам, профессорам, в сущности ведь все равно.
– И жена со мной. Обе со мной. А вы, профессор, нынче перебьетесь. Впрочем, я сейчас с тобой опять буду как с собакой... Ты же и профессор-то липовый. Все, что ты говоришь и что делаешь, все сплошь липа. На доверчивости, на суевериях играешь. Людей водят за нос, направляя к тебе. Якобы ты ученый, знаешь все на свете и любому способен помочь. Что ж, могу временно отдать тебе жену на воспитание.
– Интересно, что Манечку, когда она сюда ко мне приезжает, те злодеи не трогают. Или трогают, поди разберись. Может, они все слюбились уже между собой. Может, они и напали-то из ревности. Скажи правду, Манечка.
– Манечка знала, что на нас нападут? – округлила глаза Виктория Павловна.
– Знала или нет, а что натравила, этого никто не скажет, – ответила Манечка.
– Могла предупредить.
– А вон того малого, – Гордеев указал на Марнухина, – к тебе, профессор, направили Алексей Сергеевич и Антон Петрович.
– Я не буду им заниматься, – отмахнулся Хренов.
– Почему?
– Он мне не соперник. Он еще только подумает побороться со мной за Манечку, а я уже согну его в дугу и заставлю горько плакать. Зелен он еще. Шагу сделать не посмеет.
– Я сделал, я сделал большой шаг, – горячо возразил Марнухин.
Профессор презрительно ухмыльнулся:
– Какой же?
– Манечка пообещала ввести меня в особый мир... ну, в мир лосьонов, брошек, может быть, плюмажей каких-то... и я, быстро увидев, что все это лишь фикция, надувательство и фантасмагория, что все это ничем не лучше выдумок великовозрастных шалопаев и даже попахивает нешуточной аферой...
– А про шалопаев не выразишься подробнее? – перебил Хренов.
– Не влезайте, профессор, не мешайте, я рискую сбиться, а ведь я дело говорю, я рассказ написал. Да, увидев, ощутив и поняв, я написал рассказ.
– Хорошо, послушаем рассказ.
Хренов поерзал на земле, или в хламе каком-то, и замер, приготовившись слушать, а за ним и прочие, пошевелившись кто, где и как смог, приготовились тоже. Марнухин достал из кармана своего куцего пиджачка пачку более или менее аккуратно сложенных листков и принялся торжественно читать следующее:
– Радуга. Так можно вкратце – одним словом – охарактеризовать картину Манечкиных посул. И Марнухин, как ни отуманивала его голову любовь, отчетливо увидел, что добрая девушка влечет его в некое радужное образование. Но не из одного цвета состоит радуга, это гамма, палитра, там много красок, и все оказалось гораздо сложнее, чем представилось в первую минуту.
Приступаем к самой существенной части нашего повествования. Версии обещанного Манечкой путешествия в мир идеальных ценностей, самодовлеющих вещей и головокружительных удовольствий сами собой внушают помыслы о разных аналогиях, ассоциируясь – в сознании переживающего их – в том числе и с небезызвестным рассказом о разбегающихся в саду дорожках. И на тех дорожках, скрытых от глаз непосвященных, Марнухин бродил за девушкой как тень и на большее не мог пока рассчитывать. А тень как таковая не очень-то котируется в девушкином более чем оживленном и шумном окружении. Марнухин побывал, поглядел... Смущенный, не знал он, куда девать руки. Потел...
В высшем смысле там, похоже, ни у кого и не было тени, а если кто-то невзначай приволакивал ее за собой, бедную тень запросто могли истоптать ногами, да и сколько раз бывало, конкретно бывало, что в бедняжку плевали как в урну и гасили в ней сигареты как в пепельнице. Так что Марнухин изрядно рисковал. Но, после первого пробного захода, омытого потом и осмеянного Манечкой, все у него временно пошло очень даже неплохо на бесконечных вечеринках. Скажем прямо, невозможно объяснить, где и в какое время происходили эти сборища. Порой Марнухину даже казалось, что они вообще никогда не прекращаются, а места для них выбирают (но кто?) такие, где почва почему-то не ощущается под ногами или вовсе исчезает из-под ног. Во всяком случае, двигались все в затуманенном и не иначе как слегка подкрашенном пространстве, двигались с необыкновенной легкостью. Старые перечницы и старые пердуны преображались внезапно в танцоров, вертунов и с замечательным молодечеством перебирали обретшими скорость и ловкость ножками. А уж как расфранчены, размалеваны, как улыбисты были! Марнухин в голове-то своей смекал, что если не поддаваться гипнозу, то все и предстанет в истинном свете и первым рассеется мифотворчество его подружки, тычущееся ему в глаза своей хищной насущностью. Но девушка искусно творила волшебство, а при случае – только забрезжит опасность провала – показывала зубки. Грызла своего околдованного спутника, доказывая, что не баснословна; ругалась, когда тень сомнения или недоверия пробегала по его лицу. С другой стороны, могла ли она и впрямь сочинить, да с таким бесовским правдоподобием, всю эту химеру легкости, очарования, воздушности и приятности? У Марнухина нет-нет да мелькало соображение, что у девушки оттого великая сила и власть, что она сама является не только потребителем рекламного дурмана, но и неким источником его. Она же была, очевидно, и главным действующим лицом коротких и бьющих наверняка рекламных фильмов. Марнухин как будто узнавал ее в девушках, набивавших себе на экране пасть жвачкой или раздвигающих ноги для демонстрации достойного их нижнего белья, и им мало-помалу овладевало подозрение, что его подружка не иначе как магическим путем вкладывает в недра всех этих ухмыляющихся девиц частичку своей души.
Осторожный, он старался выказывать прежде всего здоровый интерес к происходящему вокруг, своего рода научную пытливость. И он замечал: сущее здесь течет ровно, не взбрыкивая, мерно перемещается в неизвестном направлении могучей рекой без всплесков и каких-либо приметных игр света и тени на поверхности. Впереди безбрежно размещался туман или океан, – об этом Марнухин старался не думать. В грандиозном мираже, захватившем его, куда как внятной, впечатляющей ему показалась самостоятельная и трепетная попытка его проводницы создать поперек течения по-своему тоже грандиозное полотно, некую фреску инобытия. Попытка выразилась в словах, обращенных девушкой к важному, но чрезвычайно улыбчивому старому господину. Старик терпеливо и не без внимания выслушал юную красавицу. В какой-то момент он вдруг отпрянул, вынул из кармана, покопошившись, таблетку, сунул ее в рот, рекламно пожевал и снова приник к Манечке. Она просила не за себя, а за Марухина, и Марнухин собственными глазами увидел, что ее просьба – еще не все, это только обертка, в которой скрывается близкая к подлинности просьба, а уж эта последняя, с приятностью раскушенная старым господином, содержит в себе наилучшим образом поданное прошение устроить ему, Марнухину, харизму. Подумаем, отозвался господин. Это звучало как обещание. Но чтоб оригинально, неподражаемо, небывало, настаивала девушка. Она торжествовала, веруя, что ее просьба услышана и будет удовлетворена. А старик уж и ангельскими крылышками высказывал намерение Марнухина украсить. Затем он вещал о полезности быстрого утоления голода с помощью изделий, приготовленных гибкими и нежными пальчиками девиц с вытянутыми, как у уток, носами, и снова возникала в его руках та же красивая обертка, и он разворачивал ее, и с вожделением разглядывал, и с выражением детского восторга на своем лице крепкого и умудренного житейским опытом старца засовывал себе в рот. Марнухин, само собой, недоумевал: для чего ему харизма? Впрочем, нужна ли она ему, это в порядке интересов было, скорее, что-то второе, даже десятое, ведь, может быть, и нужна, а вот на первое место выходил неуместный здесь вопрос, что она представляет собой, эта самая харизма. Марнухин едва ли понимал подобные вещи, не чувствовал их. Ей-богу, он был глух к ним, однако чего не следовало, так это показывать свое удивление, не говоря уж о незнании, более того, пора было освоить манеру ничему не удивляться в этом мире. Мучил еще вопрос, не обманывает ли старик. Разве что-то в его словах и действиях говорило о духовности, которую он будто бы в себе воплощал? Но Марнухин слишком симпатизировал Манечке, слишком уважал ее желания вообще и ее пожелания на его счет в частности, чтобы позволить себе подлинные сомнения и тем более открытое недовольство.
Все верно, она царица, ради которой промышленность создает думающие шампуни и крылатые прокладки, богиня, кумир, у ног которого снуют разгоряченные разными вольными фантазиями идолопоклонники. Но! Один неосторожный шаг, и она, высоко вознесшаяся, низвергнется в пропасть, а из той пропасти еще никто не возвращался, и никто еще не поведал, что в ней происходит с упавшими душами. Приплясывая, подпрыгивая, мельтеша, подбоченившаяся девушка на самом деле не столько отдыхала душой, не столько вращалась в неком высшем обществе, сколько работала над продлением своей волшебной карьеры, и то, что теперь обдумывалась харизма Марнухина, тоже было частью этой работы. Она, создательница и госпожа химер, хотела понравиться другим созидателям, а те появлялись и исчезали в этом неизвестно кем и как управляемом хаосе с легкостью, говорившей, что они всегда где-то здесь поблизости.
– Мы в питательной среде, – то и дело напоминала Манечка Марнухину.
Наступил момент ясности: Марнухин из рук в руки получил харизму, и питательная среда признала законным факт этой передачи. Дело сделано. Долго, долго малый сей смотрел, испытующе смотрел на свои пустые ладони, и все серьезнее и внушительнее становился его выражающий недоумение облик. Но окружающие пожелали задействовать Марнухина себе во благо, множество глоток выдохнуло: отмыт! можно! На чистенького, ребячливого, совершенно новоиспеченного Марнухина возложили обязанность за хорошие деньги пылко и ярко описать бред, в котором он жил до встречи с Манечкой. Не утаим некоторую смехотворность и абсурдность того обстоятельства, что Марнухин заделался в сущности сочинителем сочинителя Марнухина, зато уж этот последний точно представал бесстрашным борцом с темнокрылым и мрачносердым легионом имеющих на уме одну лишь наживу. Марнухин, из безработного и тени превратившийся в делового и солидного человека, ставший полноправным членом общества, пишет книгу, – так говорили о нем, когда он возникал на горизонте. На страницах будущей книги видим Марнухина, отдающего все силы титанической битве с миром грубых форм.
Ни в эпизодах, ни на просторах общего плана никогда не стихающей битвы сочинитель не обременяет себя психологизмом и мотивацией собственных поступков. Изящно разыгрывает роль заколдованного и прирученного новыми хозяевами чел... пожалуй, и не человека уже, а винтика в сложном и слаженном механизме. Но что, если он вдруг решает быстро и четко выполнить поставленную перед ним задачу и после мгновенно выкинуть ее из головы? Что, если внезапно, без предупреждения приходит к возлюбленной? Уместно спросить, как развивались события на самом деле. Предположим, неудачник, преобразившийся в преуспевающего господина, стучал и звонил в дверь, а возлюбленная не открывала. Из-за двери доносились ее громкие вздохи, исполненные истинного наслаждения. Это я, Манечка, открой мне, кричал Марнухин. Все напрасно. Он недоумевал. Но тайна раскрывалась просто, другое дело, что Марнухин не мог ее раскрыть, стоя по ту сторону двери, по ту, где не было девушки, и никто другой на его месте тоже не раскрыл бы. А все дело, похоже, заключалось в том, что девушка увлеклась кофе, заботливо выращенным для нее где-то на плантациях Южной Америки, увлеклась сначала ароматом, а потом и вкусом. И она не могла оторваться от чудесного напитка, не могла открыть Марнухину дверь, даже не слышала его стуков и звонков, а когда б услышала и открыла, то, пожалуй, непростительно вышла бы из роли. Ее роль – хлебать из чашечки дымящийся напиток и блаженно улыбаться.
Марнухин задается вопросом: совпадает ли эта роль с той, что предписывает ей в настоящее время питательная среда? Разъяренный, не получив и не помыслив ответа, вышибает дверь, врывается, выписывает девушке отменную затрещину. Даже видавшие виды люди отшатываются, заслышав громкий хруст косточек героини. Не стоит доискиваться до причин марнухинского поступка, труд это неблагодарный. Человек рассвирепел. Другое дело, спросил бы кто, как это удалось осерчать и дать волю рукам винтику? Хорошо, тогда встречный вопрос: а как это кое-кому посчастливилось заколдовать и приручить винтик?
В общем, вопросов много. Девушка заплакала, и это отнюдь не пресекло ее фигурирование в подчеркивающем изумительные достоинства прославленного сорта кофе сюжете. Важно было только не перегнуть палку, не увлечься слезами, а вовремя вытереть их и, воздвигнув на лице вдохновенную улыбку, раздуть ноздри в новой тяге к чудесному аромату. Начиная этот переход, актриса (не переставая быть девушкой, по крайней мере в душе) сунула руку в карман за носовым платочком, но, как уже случилось однажды, достала не платок, а прощальную записку, в которой Марнухин объявлял свой уход из жизни добровольным.
– Прелестная вещица, – сказала Виктория Павловна. – Но конец... где же конец?
– Пока достаточно, – мрачно уронил Марнухин.
***
Вымотало также и последовавшее затем общение с неторопливо, но плотно вдвинувшимися в его незатейливое существование Петей и Катей. Оно вообще показалось ему с самого начала незадавшимся, жестко обозначившейся тупой обыденностью повеяло на него. Он подумал, что люди, вьющиеся вокруг Манечки, а в особенности как раз Петя и Катя, все эти субъекты, беспечно шляющиеся по узкой тропочке между добром и злом и любой миг готовые опрокинуться в самую обыкновенную пошлость, на самом деле не романтичны, как можно было подумать о них со стороны. Они заурядны в самом что ни на есть земном, человеческом и гнусном смысле. Рядом с ними, так мало похожими на ангелов или способных произвести благоприятное впечатление героев популярных книг, он вдруг как-то странно, с какой-то болезненностью ощутил, что жизнь горазда обрушивать на его голову массы разных нелепых вещей. Жизнь всегда готова некоторым образом размякать и показывать себя в высшей степени неопределенной и невнятной, может быть, даже целиком и полностью бессмысленной. К сочинительству он поостыл; теперь не понимал, зачем оно ему, собственно говоря, понадобилось. Разве что странно было ему, что он, влюбленный в Манечку и хорошо ориентирующийся в ее недостатках, так и не покончил с ней в своем быстром и легко давшемся ему рассказе. А Петя и Катя напирали, сыпались поучения, предостережениям не было конца. Ты тут того... Не вздумай... Еще не хватало, чтобы всякая мелюзга рушила нашу чистоту и отнимала у нас покой... Гордеев обернулся зловещим созерцателем приближающегося конца Марнухина, а конец этот, по мнению Гордеева, с предельной очевидностью вытекал из заключительных строк марнухинского рассказа. Финансист бесшумно и страстно следовал повсюду за обреченным, опасаясь пропустить момент, когда тот полезет в петлю. Когда это случится, он подумает: дело доброе, правильное; и разовьет свою мысль следующим образом: ты с наглым спокойствием смотрел, как я мучаюсь в руках самодуров, а теперь я с чувством глубокого удовлетворения взираю на твои мучения.
Среди ночи Катя взревела на весь дом:
– Уже? Ломится? Вышибает дверь?
Со всех сторон, из углов разных, сверху и снизу зашептали, чтоб успокоилась.
– Защити, старый, меня, бедную! – стонала Катя.
Утром неожиданно приехали в Куличи Алексей Сергеевич и Антон Петрович, и Марнухину снова пришлось взять в руки опостылевший рассказ, читать с показным воодушевлением. Растленные старцы похохатывали, слушая.
– Так и я мог бы написать, – вынес приговор желчный Алексей Сергеевич.
Услышав это, Марнухин понял, что рано сложил с себя литературные полномочия, еще только наступает пора самоутверждения, еще только предстоит завоевать расположение читателей.
– Но где и как добыть мне такой талант, чтобы написать лучше? – спросил он с недоумением.
Антон Петрович развалился в траве, а Алексей Сергеевич сунул пальцы ему в рот, раздвигая губы таким образом, чтобы вышла угловатая или непосредственно квадратная улыбка.
– Возможно, – мягко улыбнулся затем Антон Петрович, – наш приятель Алексей Сергеевич спрятал искомое... вы талант ищете, мой юный друг, я правильно понял?.. да, припрятал на своем складе пиротехники. Скажу еще вот что. Говорят, беда нашей нынешней литературы коренится в отсутствии серьезного читателя. В таком случае мы как критики вашего рассказа ровным счетом ничего не значим.
– А вот я? – воскликнул Марнухин. – Я, допустим, в каком-то смысле тоже читатель, и я не отсутствую.
– Да что вы... Что вы все о себе да о себе? Вы спросите Алексея Сергеевича. Разве извивается он червем между строк, погряз в словах? Разве он книжный червь? И еще вопрос, впрямь ли уж большое значение имеют для литературы такие вот Алексеи Сергеевичи, особенно если речь идет о литературе действительно серьезной, по-настоящему впечатляющей. Вовсе не в качестве ответа замечу тут, что речь я веду фактически только о прозе, поскольку жизнь наша не что иное, как проза. Это попутное замечание. Можно ли ответить на поставленный вопрос? Профессор Хренов однажды сказал: попробуем остановиться мыслью на том соображении, что тот огромный процент не читающих умные книжки, который имеем ныне, в старину был огромным процентом неграмотных. И сразу все стало на свои места. Вокруг уносящегося в невероятные умствования Николая Кузанского или, скажем, Епифания Премудрого плескалось необозримое море людей, даже и не подозревавших о возможности, а тем более необходимости мыслить и писать книги. Вы, мой друг, в своем рассказе уронили что-то о тумане или океане впереди. Но вы как бы о чем-то просторном, тогда как там, может быть, чрезвычайно узкое пространство, погреб, банька, тараканы и вокруг одного умника сотни фейерверками взмывающих дураков. Стоит хоть чуточку обмозговать это предположение, как уже напрашивается вывод. Какая, собственно, разница для писателя, для книги, для литературы в целом – неграмотен потенциальный читатель или просто не желает читать?
Возник нервно почесывающий бороду профессор и заставил читать рассказ обитателям деревни. Согнанные в кучу бабы с хохотом показывали на Марнухина пальцем, а ребятня забрасывала его комочками грязи. Высмотренная в толпе с надеждой на сочувствие юница тотчас же высовывала красный слюнявый язык и дразнила змеиным его шевелением. Марнухин сознавал, что дело совсем худо. Возможно, его песенка спета. А ведь он уже почти докопался до истины, почти сообразил, что с Манечкой ему не по пути. Манечку – отторгнуть, и дело с концом, умозаключал он.
Организуя чтение, перед плохоньким подгнившим крыльцом дома усадил профессор писателя на землю, и все, кому было не лень, столпившись вокруг, демонстрировали силу и самобытность своей читательской критики, фактически распиная несчастного, постепенно превращая его наличность в некий холмик пыли, грязи и всяких отбросов. Марнухин, ужасно стыдившийся своего положения, закрывал руками пылающее лицо. В отупении чувств и упадке сил он чаял одного – поскорее отдать Богу душу, однако этот мнимо героический порыв лишь раздражал и раззадоривал победителей его литературы, и они выдумывали для него все новые и новые пытки. Бесподобно морща в едва сдерживаемом смехе конопатое лицо, скверная девка совала ему в ухо травинку, щекотала, а местный дурачок, корча уморительные рожицы, старался привлечь внимание литератора нечленораздельными возгласами. Невидимые, но могучие руки выковыривали беднягу из рамок, в которых он поставил себе задачей беспрерывно и неподкупно, с завзятым мужеством находиться. Но когда он уже определенно стоял на краю нравственной гибели, пришло спасение, причем с самой неожиданной стороны. Вперед выступила старая женщина с серьезным и умным лицом, остановила разбушевавшийся народ и воскликнула, указывая на Марнухина рукой: