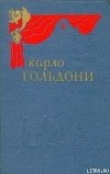Текст книги "Брат и благодетель"
Автор книги: Михаил Левитин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
С каждой минутой Нина нервничала все больше, и, когда студенты начали хлопать крышками парт в знак приветствия и визжать, у нее разболелась голова.
"Черт бы их побрал! – подумала Нина. – Что за проклятая страна!"
Гудович постоял немного, дождался тишины, посмотрел на безмятежные физиономии, сошел с кафедры, прихватив с собой стул и уселся прямо на носу у аудитории, неспешно, как бы сам с собой заговорил.
Если бы Нина разбиралась немного в психологии, она бы поняла, что этот человек аудиторию любит, мало того, только в присутствии людей становится свободным, хуже всего, когда кто-то не нуждается в его мыслях, еще хуже, когда он остается с этими мыслями наедине.
Он начал с Романовых – не слишком издалека, с того времени, в котором аудитории этого молодого государства, уверенной, что ничего до них на земле не было, хоть что-то может оказаться понятным.
Сразу заговорил о Петре как о реформаторе, человеке, ориентирующемся прежде всего на Запад. Аудитория закивала головами: реформы – это понятно, реформы, но вот как он собирался в таком неторопливом и мягком тоне объяснить, что на пути огосударствливания должен был делать Петр со своим народом, Нина не представляла. Аудиторию легко можно было напугать варварством с обеих сторон – и царя, и подданных, но Гудович и не собирался пугать, обойдя борьбу и кровь, чтобы не оттолкнуть людей от темы, сразу перешел к путешествиям царя, когда тот под именем Петра Михайлова посетил европейские цивилизации инкогнито, и как государи, предупрежденные о его капризе, делали вид, что не знают, кто их великодержавный гость.
Аудитория очень смеялась, забыв о клубнике, подталкивая друг друга локтями от удовольствия. Нине даже обидно стало, что этим несмышленышам ее государство может показаться беззубым и хилым.
"Ненавижу!" – подумала Нина. Неприязнь к происходящему охватывала ее, ей показалось, что, устанавливая контакт с этими недоразвитыми людьми, он продает свою историю, свою родину, ее, Нину, себя наконец. Сердце ее требовало глубоких чувств и боли, а тут излагалась цепь анекдотов, излагалась глубоким человеком, который и сам, наверное, не очень сумел бы объяснить, зачем это делает: неужели ради того, чтобы утвердиться? Да черт с ним, этим заработком, если дети в аудитории так и останутся самонадеянными зелеными юнцами, благодушествуя в своей беспечной, преуспевающей стране, которой нечем гордиться и никогда не будет чем, – она бегает по замкнутому географическому колесу, как белка, в самоупоении.
Он рассказывал о сменах внутри династии, рассказывал все так же увлекательно и осторожно, стараясь не бросать их на острые рифы российской истории. Было ли это импровизацией или плодом долгих размышлений в те вечера, когда она приходила поздно, Нина не знала и знать не хотела, но ей хотелось возмущаться, свистеть, когда он рассказывал, как искала Екатерина Вторая поддержки своим реформам у офицеров гвардии, производя их в генералы, не объясняя, кем являлись эти офицеры, на что были способны, как упились прежде, чем удушить сначала одного царя, потом, через тридцать лет, пройдя покоями Михайловского замка, убили табакеркой его сына; как не цари, а эти самые пьяные офицеры назначали и свергали царей, удобных им и способствующих их обогащению.
Ей хотелось, чтобы эти дети испугались ее России, чтобы им стало страшно от того, с каким чудовищем вступили они в дипломатические отношения, чтобы боялись и трепетали, трепетали!
"Так он и со мной обходится! Острые углы обходит!" – подумала она и обиделась за себя и за Россию.
В ней проснулось помимо воли имперское сознание, хотелось громыхать и материться, а когда Гудович ничего не сказал о великой русской науке, о славном поморе Ломоносове, захотела вскочить и опозорить его перед всей аудиторией как лжесвидетеля, назвать трусом и невежей. Но он пел дальше, глядя прямо в глаза студентам, мягко и беззлобно вещал о таких делах, от которых. если говорить правду, с ума сойти было можно, но он не хотел сводить их с ума, он хотел очеловечить мир, успокоить, внести порядок, и в этот момент она поняла, почему разлюбила его, и сегодня же постарается сообщить ему об этом.
О победе русского оружия в наполеоновской эпопее он рассказывал почти вдохновенно, даже слегка примиряя с собой Нину, но, когда говорил о Народной воле, пытаясь оправдать преступников какими-то благородными побуждениями, Нина не слушала его больше, а думала о том, что через неделю они с Юрием Николаевичем будут уже в России, совсем не той, благополучной, о которой рассказывает ее уже теперь бывший муж, а в России, укушенной бешеной собакой большевизма, где каждый день опасен и интересен, потому что приближает к правде, а правда не в благополучии, а в крике души, постоянно разносящемся по всему миру, правда в пределе сил, в том, чтобы не изменять своей истории, какой бы она ни была, и Нина чувствовала себя способной на эту правду и готова была вместе с Ломоносовым тащить полотно железных дорог с востока на запад через всю страну, пока смерть их не остановит.
– И вот каким образом я оказался здесь, – закончил Гудович под ликующие крики аудитории, и Нина поняла, что объяснение его появления в Америке она пропустила, как и версию о двух последовавших одна за другой революциях.
– Прекрасно! – сказала она Гудовичу. – Я тебе низко кланяюсь, только когда будешь следующую лекцию читать, не пропускай подробности, детали, в них, мне кажется, самый сок.
– Конечно! – сказал Гудович. – Мне неловко перед тобой, но этих детей нельзя было оттолкнуть, они не приучены к страданиям, а что у нас есть, кроме страданий? Они вышли бы на солнце из университета и расхотели бы жить! Бог с ней, нашей правдой, если им вдруг расхочется жить!
– О! Мистер Гудович, о! – только и повторяла дама с рыжим пучком, дергая его за рукав. – Я доложу о вас ученому совету, вы будете иметь оглушительный успех в Америке, вы гениальный специалист. Вы знаете, миссис, что ваш муж – гений?
– О, да, – ответила Нина, багровея.
Дома, не дожидаясь, пока Андрюша вернется, она выложила ему все сразу и впечатление от лекции, и о том, что не любит, и о том, что ей все осточертело, что она уходит к Юрию Николаевичу, с которым давно близка, и через неделю они уезжают в Россию, дай Бог, чтобы навсегда.
Он молчал, вслушиваясь, пытаясь понять, что за словами, которые она выкрикивала, в чем его вина, молчание его было так полно, подкатывалось к ней, заполняло пространство, плескалось вокруг нее так кротко, что Нина махнула рукой и оборвала свои речи.
– Одним словом, я жила здесь без любви к Америке, без любви к тебе, честность моя в том, что я никогда от тебя этих чувств не скрывала, и какого черта ты меня притащил, скучно тебе стало, что ли, до сих пор не пойму, ты говорил мне что-то о просьбе брата, так вот, – начала она и тут же скомкала: – Брат тут ни при чем, мне показалось, это ваша прихоть, нет, чтоб завести новенькое, но вы не любите ничего нового, все должно остаться в неприкосновенности, вам Нину подавай! Что, хорошо развлеклись?
– Вы в Петербург едете? – спросил Михаил Михайлович.
– В Ленинград, в Ленинград!
– В Ленинград. Очень хорошо. Я знаю, что виноват перед вами, но мне временами казалось, что мы бывали с вами очень дружны, не так уж плохо между собой ладили. Я бы хотел попросить, если, конечно, это не принесет вам и вашему новому мужу больших неудобств. Передайте моей маме, Вере Гавриловне, вы с ней знакомы, адрес я запишу, передайте ей, пожалуйста, кое-какие вещи, если вам нетрудно, ей и Наташе, моей сестре, а также семье Наташи, если они еще помнят меня, здесь кое-какие безделушки, их можно продать и, как мне кажется, некоторое время безбедно прожить в России...
– Вот, – он вынес из соседней комнаты маленькую коробочку. – Можете осмотреть, если придется объясняться с таможней, я купил их в Париже, здесь ярлыки и чеки, национальной ценности эти вещи не представляют. Не подозревайте только, что я скрыл их от вас, – увидев на лице Нины что-то вроде торжества, сказал Гудович. – Просто эта часть моей жизни не имеет к вам никакого отношения.
– И еще, – сказал он. – Я бы очень просил вас, рассказывая обо мне не слишком вдаваться в детали, скажите – здоров, благополучен и всех помнит.
30
Дел было много. Утром приходила разнарядка, на каких участках канала надлежало им быть. Какое ему дело до Парижа?
Но в голову лезли тифлисские друзья – Кирилл, Илья, он никак не мог представить их здесь – разморенных, элегантных. Что они делают в Париже? А, впрочем, человек сам выбирает свое счастье, кто знает, какой должна быть жизнь у человека?
Артисты удивлялись, что Игорь с утра не дает им покоя: лагерь еще спал коротким сном лагерей, а они носились вокруг клуба, как оглашенные, выполняя разные его причуды.
Особенно не нравились им занятия по рельефу, когда необходимо было устраиваться то на пригорке, то в траншее и орать при этом частушки дурными голосами или ползти по грязной жиже, изображая героический труд. Они начинали брюзжать, и тогда Игорь, негодуя на их чистоплюйство и полную неприспособленность к жизни сам бросался и полз. А потом вскакивал, грязный, как черт, сверкая ослепительной улыбкой – улыбаться он их тоже учил, – и вопрошал: "Ну, что, урки, слабо угнаться за поэтом?"
И они, пристыженные, покорно повторяли его маршрут.
Потом их учили танцевать странные скоморошьи танцы под аккомпанемент Беллы Самойловны, индифферентной милой особы, проходящей по делу промпартии, она существовала лунатически, бацала по клавишам все, что напевал ей Игорь, а потом так глубоко вздыхала, что, услышав этот вздох, хотелось умереть, а потом, когда они танцевали, смотрела не на них, а в пространство карими выпуклыми глазами.
Она слыла у них не от мира сего, они не одобряли, когда таких, как она, отправляли в лагерь, за собой они тоже грехов не знали, но, если поискать, что-то можно найти, конечно, а святая Белла могла только сфальшивить разок, играя, – вот и весь ее грех.
До чего же они сами вписывались в этот странный лагерный театр, в это чумовое искусство леших и кикимор!
Лагерь потешался, слушая, как Игорь заставляет их растягивать гласные и выплевывать согласные; иногда речь замедлялась до тошноты, иногда мчалась стремительно до одури, он не давал им придти в себя, все уже с утра предвкушали внезапное появление бригады – где угодно, в любое время дня и ночи, по свежим, еще дымящимся следам событий. И как они узнавали? С гиканьем и свистом возникали, как половецкая рать, возвращая тебя от внезапно напавшей дремы к проклятой работе, ты должен был бы ненавидеть их, чертей, но они были так расположены к каждому заключенному, так обольстительно улыбались, так подмигивали, что человек забывал, откуда и по какому поводу он здесь и сколько ему еще копать и копать. Они любили, когда Игорь отбирал у одного из них тачку и, бегая по все расширяющемуся кругу, орал: "Кремль! Видишь точку внизу? Это я в тачке везу землю социализма!" Заключенные бешено аплодировали, а начальству эти пафосные, от всего сердца стихи почему-то не понравились, Игорю попеняли, и он, с легкостью отказавшись, бегал с тачкой, сочиняя совсем другие, не хуже:
Маша, Маша, Машечка
Работнула тачечка
Мы приладили ей крыла
Чтоб всех прочих перекрыла!
К власти его над этой оравой опытных воров и проституток ревновали даже паханы. Один из них, Колька Заяц, пригрозил, что, если Игорь не прекратит унижать братву, он его, придурка, зарежет, и потребовал распустить бригаду. Игорь не пожаловался, но его подопечные откуда-то узнали сами – и все, и нет знаменитого вора Коли Зайца в лагере, говорят, выбыл куда-то по этапу, а может быть, и освободили, туда ему и дорога!
– Ты наш, – говорили они Игорю. – Темнишь просто. Как ты, кроме наших, никто не умеет, – говорили они, забывая, что всему этому научил их он, даже не он, а быстрая скоротечная культура, возникшая где-то в щели между революцией и вынесенным им приговором.
Она и не знала, эта культура, что с первого дня приноравливалась к новым, тогда еще только подступающим основам бытия, к тому образу жизни, что и вообразить и представить было невозможно. Коллективная природа человека постигалась ею: нельзя человеку быть предоставленным самому себе, да ему это и ни к чему, не выдержит, погибнет. А в людской массе, то есть среди своих, считаясь с другими, он, как в театре, займет только ему одному принадлежащее место, позабыв индивидуалистическую природу свою, так часто его подводящую, и подчинится большинству. Нет радости большей, чем та, что ты испытываешь в толпе, – радости карнавала, демонстрации, спортивных празднеств, когда ты, распространяясь, умножаясь на очень, очень многих, сам становишься стадионом, городом, вселенной. Задумываться о режиссере этого массового действия его труппа не хотела, у них был свой режиссер, они принимали задания через него.
Канал строился, и они продвигались вдоль канала, звеня бубенцами, как шаманы, выделывая сложные номера, равные цирковым по сложности, этому тоже научил их Игорь, а иногда под аккомпанемент Беллы Самойловны играли что-то душещипательное из своей прошлой жизни, где загулявший бандит, приревновав, резал в финале свою возлюбленную и возлюбленная, Лялька Фураева, лихо умирала, так лихо, что тихо становилось на берегу, все рыдали, и каэры и уголовники, оплакивая проклятое прошлое. И ни разу он не вспомнил о Париже, что им делать здесь, Илье и Кириллу?
У буржуев за границей
Скрюченные пальцы
Поперек им горла стали
Красные канальцы
Пусть не верит заграница
Ошибется дура
Тут у каждого братка
Во – мускулатура!
– Вы не переутомились? – с подозрением спрашивал Фирин, глядя в безумные глаза Игоря. – Я могу подменить на время вашу бригаду другой, из профессионалов?
– А меня в санаторий, что ли, отправите, товарищ генерал? – спрашивал Игорь, и улыбка его становилась прямо волчьей.
Ему нравилось, ему нравилось под небом вечности на берегу канала, тянущегося неведомо куда создавать вечное искусство. Это казалось ему стихами, движением, которое требовалось его надорванной душе и которое не давалось там, на свободе, где было столько идей и столько конкурентов, что ты начинал чувствовать себя, как в тюрьме.
Здесь он был на свободе, и никто, кроме Фирина, не мог запретить ему быть и казаться идиотом. А о Париже он и не вспомнил ни разу.
Где я завтра запою
Не хочу угадывать
Мы – театр ОГПУ
Нам на фронте надо быть!
Наташа, Танечка, где вы, дети мои?
31
В учительской музыкальной школы №58 было тихо. Завуч прислушивалась к звукам, доносившимся из коридора. Наташа старалась ей не мешать, завуч и в самом деле любила сидеть здесь одна, прислушиваясь, но когда рядом находился еще кто-то, прислушивалась особенно, давая понять, что очень любит детей.
– Ванюша Лебедев, – сказала она. – Слышите? Это у Ивонны Михайловны. Никак у него не получается прелюдия до-минор Баха, несколько месяцев бьется, а мальчишка способный, очень недурные задатки, но нервный – стремится к совершенству, понимаете, о чем я говорю?
– Кажется, понимаю, – сказала Наташа и прикрыла глаза.
Другая музыка слышалась ей, другие нервы. Маленький мальчик загонял аккомпанемент, не сводя с нее умоляющего взгляда, в недоумении – откуда взялась эта безумная спешка и что лучше – продолжать или остановиться, а когда она отказалась раскланиваться и убежала, стучал ей в дверь, плакал, убеждал, что не нарочно.
Рояль остался в Тифлисе у новых хозяев, Миша в Америке, Игорь на канале, она здесь, в музыкальной школе, прислушивается к игре вундеркиндов.
– Мне нравится, как вы ведете дело, Наталья Михайловна, – сказала завуч. – Все у вас на месте, все чистенько, во всем при желании можно разобраться. Вам нравится работать у нас?
– Я очень люблю музыку, – сказала Наташа. – Я певицей хотела стать.
– Певицей? Как интересно! Представляете, я тоже в юности хотела быть певицей, но с такой внешностью, как у вас, конечно, это могло быть чем-то выдающимся. Почему не стали?
– Не знаю, – пожала плечами Наташа. – Воли мало.
– Да, здесь нужно воловье терпение, – сказала завуч. – У меня оно было, но тоже что-то не получалось, меня прослушал профессор Михайловский, тот самый, вы, конечно, знаете, и отговорил. Теперь жалею. У меня меццо-сопрано, редкий голос, – сказала завуч и отвернулась. – А у вас?
– У меня обыкновенный голос, – сказала Наташа. – Ничего особенного.
– Я попросила бы вас, Наталья Михайловна, – сказала завуч, успокоившись, – тщательней расписать занятия на эту неделю и вручить педагогам: Раиса Павловна жалуется, что не может разобраться в вашем почерке, распишите ей, пожалуйста, внятней, может даже заглавными буквами, люди разные.
– Хорошо, – сказала Наташа.
Потом в учительскую пришли другие педагоги, они были оживлены, как люди, имеющие возможность чему-то учить других, с Наташей все были приветливы, но, как ей казалось, в сердце ее не принял никто, а она и не настаивала, у нее уже был свой коллектив – она и Таня, вполне достаточно.
Игорь ничего не писал, но то, что она знала из газет, обнадеживало, канал строится, и очень скоро строительство будет закончено, и тогда он вернется, а что будет дальше, она не знала, потому что нельзя строить планы даже на день вперед, это единственное, чему она научилась у жизни.
Таня поступила в институт, и это было приятно и странно, странно ей, совершенно не приспособленному человеку, быть мамой такой умной, такой расторопной девочки, занимающейся совершенно непостижимым делом – прикладной математикой и еще после лекций прирабатывающей на своей кафедре лаборанткой. Деньги, конечно, небольшие, но казавшиеся Наташе огромными, как и любые деньги, она никогда не знала – откуда они берутся.
Но вот скоро у нее самой – первая зарплата. А за что? Что она сделала, чем заслужила, и хватит ли у нее смелости придти ее получить? Не было ни одного дела, которое не сумел бы сделать за нее кто-то другой. Но она все же живет, дышит, ей нравится жить, зная, что Игорь скоро вернется, а чтобы дождаться, надо что-то есть, делиться со старыми женщинами, тетушками Паши Синельникова.
Противно, что все время приходится рассчитывать, Господи, как она ненавидит рассчитывать, ее совершенно избаловал Миша, а тут еще Таня вчера поругала за то, что она купила бутылку хорошего грузинского, наверное, слишком дорогого вина, ей захотелось очень, а Таня, начав ворчать, вдруг разрыдалась и бросилась обнимать ее, извиняться, а потом они выпили всю бутылку, вспоминая.
Оказывается, эта хитрая и невнимательная девочка оказалась очень наблюдательной, особенно к запретным моментам жизни – она запомнила все, что вытворял Игорь в саду в тот вечер, она не спала, а подглядывала, когда он танцевал на садовом столе совершенно голый, а Наташа оглядывалась – не видит ли кто и хохотала.
И еще она видела, как Михаил Львович взял за плечи соседку в коридоре у шкафа и как соседка, зашедшая на минутку, тут же стала его целовать, а он отвечал ей, очень глубоко дыша между поцелуями, как утверждала Таня.
– Между ними потом что-то было, между дедом и Павлой Сергеевной, я знаю.
– Не говори глупости!
– Было, было! Дедушка вообще большой был ходок!
И Наташа отмахивалась, хохоча, не желая вдаваться в шалости отца, она и сама помнила, как из окна его спальни, услышав шаги Наташи, выпрыгнула его сослуживица, Элеонора Матвеевна, и сломала ногу, как она стонала под окном, а Михаил Львович, не в состоянии объяснить Наташе, что происходит, все разводил руками и кричал в окно: "Сейчас, сейчас!"
Обе разгорячились, вспоминая деда, и Таня сбегала еще за одной бутылкой, и стало так хорошо, совсем хорошо...
– Что вы тут понаписали, дорогая моя? – услышала Наташа голос Раисы Павловны. – Это у меня-то шесть часов в неделю? Кто вам так велел написать? У меня меньше восьми никогда не было.
– Разрешите, я пересчитаю, – сказала Наташа, – наверное, я ошиблась.
– Нет уж, я думаю, вас просили так написать, я думаю, что с того времени, как вы появились у нас, вам удалось отравить атмосферу настолько, что даже ко мне некоторые руководители стали хуже относиться. Ведь вы нашептываете? Нашептываете?
– Что я могу нашептывать? – с ужасом спросила Наташа.
– Что я некомпетентный педагог, например, что я не в Москве консерваторию кончила, в Житомире, вы же все знаете, вы же с музыкальным образованием, певицей хотели быть, я слышала. Не получилось! Не претендуете ли вы сейчас, милочка, на какое-нибудь другое место?
– Я ничего не умею, – сказала Наташа, – понимаете, вообще ничего не умею.
Она сказала это так искренне, что Раиса Павловна растерялась. Молодая прекрасная женщина стояла перед ней и произносила такие слова, которые никто никогда ей не говорил, их нельзя было говорить, стыдно, их так часто хотелось произнести даже самой Раисе Павловне, но она скорее бы умерла, чем позволила себе это.
– Простите, пожалуйста, – сказала она и, порывшись немного в сумочке, чтобы справиться с собой, вышла из учительской.
Снова стало хорошо и тихо. Наташа взяла табель и стала искать ошибку.
– Два часа – понедельник, два – вторник, час – пятница...
32
Увозили ее зимой девятнадцатого, и, если бы зимой и вернулась, все превратилось бы в одну черную дыру забвения – стужа и метель, метель и стужа. Но весна резко сдвинула в памяти город, будто Нина и не уезжала. Ничего не изменилось, город носил свое новое название, как она американское гражданство, равнодушно. Он был слишком раскошен, чтобы обращать внимание на такие мелочи, как революция. Он находил спасение в гордыне. Вот чему надо было у него учиться – презрению к частностям. Вот такие лапища у львов, вот такие копыта у коней, а размах улиц – как шаги Бога!
Нина брела себе и брела, она не знала, когда придет к Гудовичам, и не хотела слишком торопиться, в конце концов просьба зайти к Вере Гавриловне это последнее, что их связывало с Мишей, и она не торопила это последнее, хранила. Завтра она проснется, и никакой памяти не останется об их жизни, совсем никакой, будто ее и не было.
Она шла по Петербургу походкой своего брата, Владимира Сошникова, франтовато, стараясь опередить прохожих, чтобы ничья спина не маячила впереди, она давно уже становилась похожа на брата и не догадывалась об этом. Если бы догадалась, ей было бы на все наплевать, презрение к опасностям – черта семейная, но что-то мешало ей до конца оторваться от страха за себя, Андрюшу, Юрия Николаевича и почему-то за Гудовича, а почему, она уже совсем не понимала, это произошло как-то само собой, не уходил из сердца и не уходил.
Дом на Фонтанке, в верхнем этаже которого находилась квартира Веры Гавриловны, был известным доходным домом в Петербурге. Раньше их было много, таких домов, она легко проходила мимо, а сейчас оказалась, что каждый один. И по одному все эти годы она их теряла. Это было удивительно почувствовать, что теряла то, о чем и не знала толком, относилась с равнодушием, рассчитывая вернуться, но это правда, она и не знала, что могла потерять этот город по крупицам, а это страшнее, чем весь сразу.
Огромный красный, сознающий свое значение дом, с таким знанием выстроенный, с такой веселостью, может быть, из чувства превосходства перед домами, рожденными в муках творчества, он появился легко и приготовился к счастливой жизни, а когда она наступит, ему было все равно, он может ждать долго.
О собаке Миша мог и не знать, Леня совсем недавно завел собаку, но почему-то Нине стало не по себе, когда услышала за дверью мощный собачий лай и представила, что собака сейчас обнимет ее своими лапами и она едва ли удержится на ногах.
– Сумасшедший дом! – сказала Вера Гавриловна. – Когда вы приехали? Где Миша? Почему я ничего не знаю?
– Миша в Америке, – рассеяно сказала Нина, сбитая с толку беспокойными движениями вокруг нее огромного щенка ньюфаундленда. – Я одна.
– Но почему вы здесь и как? Да заходите же, заходите, родная моя! Леня, убери собаку, к нам Нина приехала, Мишина Нина из Америки, ты представляешь?
– Вы и есть Нина? – спросил Леня – Вас только одна Верочка и видела, а мы все мечтаем.
– Вот, увидели, – сказала Нина.
– Почему вы не раздеваетесь? – спросила Вера Гавриловна. – Что вообще происходит? Леня, я прошу тебя, убери эту псину! Я оставила вас в девятнадцатом, с тех пор прошло столько лет, вы совсем не изменились, такая же бука, как прежде. Что, мой сын плохо встретил вас там, в Америке?
– Не обращайте внимания, – сказала Нина, следя за тем, как Леня с трудом уволакивает огромного щенка из комнаты. – Трудно возвращаться, все новое, я хожу, хожу... Миша очень хорошо меня встретил.
– Как он там? Только честно, я вижу по вашим глазам, что-то произошло. Выкладывайте сразу, не щадите меня, я не люблю, когда меня щадят.
– Нет, нет, – успокоила Нина. – Он совершенно здоров и шлет вам вот эти вещи. Они для вас и Наташи, он сказал, вы сами разберетесь.
– Нет, правда, все хорошо? Правда? И он вас отпустил? Зачем вы здесь? Почему вы приехали одна? И вообще, как вы приехали? Как вы живете там, как добрались в девятнадцатом, что вы делали все эти годы, дорогая моя девочка? Ой, я сейчас умру, – сказала она и взялась за сердце.
– Видишь? Тебе все нужно сразу, – возмутился Леня и побежал за каплями.
– Дурачок! – сказала Вера Гавриловна. – Никак не может поверить, что у меня болит по-настоящему сердце только от любви к нему. Ниночка, не мучайте меня, снимите пальто, вы чего-то недоговариваете.
– Ради Бога, разденьтесь, – сказал Леня, вернувшись. – Пожалуйста.
Нина сняла пальто и села, положив его себе на колени.
– У вас замечательный сын, – сказала она. – Он читает лекции в Пенсильванском университете по русской истории.
– Вот видите! – закричала Вера Гавриловна. – Я всегда знала, Миша прирожденный педагог! Ну и как, любят ли его студенты? Он на хорошем счету?
– Он преуспевает, – сказала Нина. – Так принято говорить у них в Америке.
– Почему "у них"? Вы никак не можете привыкнуть? Вам трудно?
– Я уехала, – сказала Нина.
– Уехали? А Миша?
– Миша остался.
– Ничего не понимаю. Леня, ты что-нибудь понимаешь? Вы уехали на время, он отпустил вас?
– Я уехала навсегда, вместе с сыном. У меня теперь другой муж.
– Ах вот как! – сказала Вера Гавриловна, и вдруг замолчала, совершая в наступившей тишине какое-то невероятное усилие над собой, если можно назвать усилием попытку сбросить с себя оболочку духа, с которым ты жила все эти годы, к которому привыкла, а теперь он стесняет тебя и ты стягиваешь его, как струпья кожи с обоженного тела. И Нина увидела, как медленно возникает перед ней та самая дама, что стояла в дверях ее дома в ту морозную ночь, не желая входить сразу, пропуская впереди себя стужу, в приталенном пальто, с муфтой в руках, с подозрением приглядываясь к ней.
– Вы уехали? Ну, конечно же, ничего другого я от вас не ожидала, наконец сказала она.
– Верочка, пожалуйста... – пролепетал Леня.
– Не волнуйся, Ленечка. Это уже неважно. Со мной ничего не случится. Что в этой коробке? – спросила она. – Я могу посмотреть?
– Это вам, – сказала Нина. – От Миши.
Вера Гавриловна открыла коробку и долго всматривалась, ничего не извлекая, перебирая содержимое кончиками пальцев, так долго, что Нина решила, что она забыла о ее существовании и, чтобы избежать продолжения этого разговора, лучше всего уйти.
– Вы знаете, что здесь? – спросила Вера Гавриловна.
– Да.
– Мне кажется, – сказала Вера Гавриловна, закрывая коробочку, – вы способны донести, что у нас хранятся эти вещи, вы на все способны.
– Не смейте меня оскорблять, – сказала Нина. – Я люблю вашего сына.
– Вы на все способны. Я вас раскусила еще тогда, зимой, в девятнадцатом. Немедленно заберите эти драгоценности.
– Но они ваши, честное слово, я никому не скажу, мне некуда их девать, я не уверена, что я или мой муж еще когда-нибудь окажемся в Америке, в конце концов, вы можете отдать их Наташе, Миша сказал: "Моей семье".
– Не смейте произносить имя моей дочери! – сказала Вера Гавриловна. Она умеет ждать. А вы, вы не сумели оценить даже Мишу, Господи, почему он не познакомил нас тогда, до революции, вот несчастье, я бы сумела его отговорить! Забирайте шкатулку, вы, провокаторша, и вон из этого дома, вон!
– Уходите, пожалуйста, – Леня выхватил у нее из рук пальто и стал судорожно надевать, подталкивая к двери. – Вам не надо было приходить, Миша ошибся, это очень-очень жестоко, вероятно, он думал, вы передадите с кем-нибудь другим.
– Но он просил именно меня! – крикнула Нина.
– Значит, ему было в этот момент очень плохо, – сказал Леня. – Как вы этого не понимаете? И не возвращайтесь к нам больше, пожалуйста.
Нина осталась на площадке с коробочкой в руках, она подождала еще немного, прислушиваясь, не выпустят ли запертую по ее вине в соседней комнате собаку, потом поднялась на пролет выше и села на подоконник. Окно было открыто, и, наклонившись, она могла видеть изнанку дома, когда с высоты становилось ясно, что это не просто хороший доходный дом, а крепость – со своими бойницами, серыми уступами стен, бойцами, заточенными в этих стенах добровольно, до конца жизни. Она сидела на подоконнике и думала: а что, если закончить здесь все сразу и с концами, вниз головой, на дно двора, и пусть закричат дети, и откроются окна, и Вера Гавриловна откроет окно и поймет, наконец, что не только она одна умеет страдать, – но тут же, вспомнив о Вере Гавриловне, пожалела себя и швырнула шкатулку в окно.
33
– Удивительно, как он нашел себя! Вот его место! Я говорил товарищу Фирину, – захлебывался от волнения курносый: – вы его от себя никуда не отпускайте, а если вдохновения хватать не будет, я свои стихи подошлю, напишите только, что надо.
Никогда еще Наташа не видела курносого в таком восторженном состоянии, ей было как-то не по себе, что он способен восторгаться, как все люди, и то, что он пришел, как простой смертный, передать привет от Игоря, тоже смутило ее, в этом было что-то неправильное, но он здесь, в их доме, в Москве, именно он, и придется неизвестно на какое еще время довольствоваться его рассказом, поверить именно ему.
Одного она боялась – что он отравит их ожидание какой-нибудь гадостью, но в этот раз курносым владел несвойственный ему пафос, и он торопил свой рассказ, торопил, будто боялся, что вдохновение захлебнется и ему придется замолчать, а молчать ему, по-видимому, уже давно было не о чем.
– Феерическое зрелище, – говорил он. – Эти костры на берегу, огромные сосны, фигуры с тачками на фоне неба, по мере отдаления все мельче и мельче, совсем, как муравьи на фоне мироздания, помните Брейгеля: красные домики на белом снегу, женщины с коромыслами, дети – кто на салазках, кто на коньках, мужики тянут под уздцы лошадей, они застревают в снегу, крошечные деревья, как веники, много-много, собаки лают на ребятишек, а ты приглядываешься и замечаешь еще фигуры и еще. Как они умещаются в одну раму? А тут тоже умещаются, и среди них, представляете, ваш отец, пусть не на первом плане, но тоже очень заметен: лысый, смешной, поет частушки, кувыркается, выбрасывает такие антраша – лучше любого клоуна. Клоун – плохое слово, недостаточное: скоморох, шут, ряженый – вот точно! Русский человек приводит наконец в порядок свою землю.