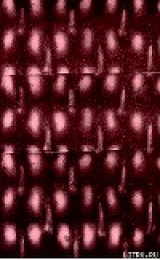
Текст книги "Соитие (Альманах эротической литературы)"
Автор книги: Михаил Армалинский
Жанры:
Эротика и секс
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Когда человечество встревожилось, что вдруг перестали рождаться дети, в запасе оставалось лишь одно поколение – поколение уже родившихся детей, чтобы разрешить загадку. Но наши предки надежно схоронили ответ и удалились с детьми на тропический остров, подготавливая их к новой жизни и удаляясь от мира, чтобы никто не заметил их рождавшихся детей. Тропический климат предоставлял еду, что росла в обилии на деревьях, и землю, не требующую труда для возделывания.
Это был самый тяжелый период создания нового общества. Но через 50 лет половина населения Земли вымерла, и поднявшаяся паника, которую праотцы не предвидели, ускорила конец оставшегося населения. Тогда они сели в корабли и приплыли во Флориду. Там они основали своё государство. Первые годы ушли на остановку автоматически действовавших предприятий, которые изготовляли продукцию, не нужную для нового общества. Теперь города с небоскребами, которые заросли травой и деревьями, являются главной достопримечательностью нашего естественного музея истории Цивилизации.
Все заметили, что уже стемнело и вернулись в дом, чернеющий среди деревьев.
– Пора спать, – сказал Муж.
– Если вы включите свет, то можно ещё поговорить, – предложил Аг.
– У нас нет искусственного света.
– Как, даже свечи нет? – удивилась Лю.
– Да, когда заходит солнце, мы уединяемся, и каждый делает, что хочет.
многие люди снимают балахоны, потому что всю равно их лица не видно. Нам не нужен ночью свет больший, чем могут дать луна и звезды. Если кто тоскует по свету, то он поднимается с восходом солнца. Пойдемте, пока ещё есть остатки света, мы покажем вам комнаты, они выходят на запад.
Муж и Жена повели Ага и Лю в один из флигелей дома. Их поселили в соседние комнаты, у которых не было дверей. На полу лежало нечто, напоминающее матрацы. На середине каждой из комнат было что-то вроде фонтана, потому что слышалось журчание воды. Но было так темно, что ни Аг, ни Лю не поняли, как выглядят их комнаты.
Утомленные, они быстро уснули на подстилках.
Аг проснулся среди ночи от желания помочиться и подполз к середине комнаты, шаря рукой впереди себя. Он нащупал края чего-то, напоминающего маленький бассейн. Он встал на колени и помочился в направлении журчащей воды. Когда он снова лег, сна уже не было. Он стал размышлять о своей прошлой жизни, о лжи, которой он окутывал своё существование, что стало ему вдруг столь очевидным после событий прошедшего дня.
Вот какие мысли пришли ему в голову: ложь – это форма человеческой тяги к тому, чего нет. Её можно интерпретировать как тягу к потустороннему в этом мире, как земную жажду неземного. С другой стороны, такая жажда – это черная неблагодарность Богу за мир, в который он нас поселил. Нам дали чудо соития, а мы говорим, нет, это чудо недостаточно хорошее, мы хотим получше, и предупреждаем Бога, совсем забывшись: «Если не дашь, мы сами чудо выдумаем и заставим людей поверить в его реальное существование. И тогда люди устыдятся, а некоторые отвернутся от твоего чуда и будут упиваться ложью, которую мы сотворим».
Имя Бога держится заложником, и общество грозит обвинением в убийстве Бога каждому, кто осмелится хвалить Божье чудо. Посему в основе человеческого существования лежит ложь! Она имеет форму Сокрытия, Недоговорок и Подлога.
Вот они три кита, на которых плывет общество в океане крови.
Ребёнок рождается невинным, то есть не ведающим лжи и тотчас попадает в мир обмана вне зависимости от сомнительной полезности намерений, ради которых обманы совершаются. Ребёнку дают соску, вместо груди, или молочную смесь, вместо материнского молока, или отдают кормилице, вместо матери. Ведь природа распорядилась однозначно и честно, ребенок ждет только материнского молока от груди своей матери. Мы считаем, что ребёнок не заметил обмана, и что обман пошел ему на пользу, если ребёнок перестал плакать, или если он развивается нормально по удобным критериям, питаясь коровьим молоком, вместо материнского. Но без всякого сомнения, ребёнок в своих не ведомых нам глубинах замечает разницу, запоминает её, знакомится с ложью, обучается смиряться с подлогом, ибо ребенок хочет выжить, а этим и пользуются взрослые, предлагая ребёнку компромисс.
Следующей главной ложью является стыд. Ребёнка заставляют утаивать свои половые органы и вести себя так, будто их у него нет.
Его заставляют прятаться в специально отведенные места туалеты для удовлетворения своих естественных нужд и скрывать свои запахи. Здесь на подмогу призывается эстетика и причиной, по которой требуют скрывать гениталии и экскременты, объявляется их некрасивость. Стыд прививает ребенку чувство естественности лжи, которое остаются с ним на всю жизнь. Феномен мышления можно рассматривать как орудие для сокрытия истинных намерений.
Ибо если человеку было бы нечего скрывать от себе подобных, все его намерения реализовались бы напрямую. Что на уме, то и на языке.
Даже такое первобытное занятие, как охота, основана на обмане добычи, рыбу обманывают наживкой, насаженной на крючок, зверей обманывают капканом, мнимой безопасностью оказаться вблизи охотника.
То же происходит и с высшими достижениями интеллектуальной деятельности, как политика. Политика – это область человеческой деятельности не только целиком построенная на обмане, но в которой обман является этически оправданным и необходимым. Сокрытие истинных целей, даже если они очевидны, является неизбежным условием политической деятельности.
Дипломатический язык, как одно из орудий политики – это язык, смысловая основа которого состоит в деформировании истинных чувств. Политика и дипломатия, суть которых заключена в сокрытии своих истинных намерений это легальная отдушина для одержимых ложью, где они, с одобрения законов, могут вести себя аморально, ставя ложь в основу своего поведения.
Или например, вежливость – это дилетантская общечеловеческая политика, суть которой – сокрытие чувств, ранящих собеседников. Казалось бы – это ложь во имя благородной цели, но благородная цель оборачивается неизлечимым осложнением пожизненного фальшивого поведения.
Для всех очевидно, что мы не можем открыто поверить все свои мысли ни близким людям, ни, тем более, всему обществу – мы скрываем и переиначиваем их, а следовательно, лжём обыденно и постоянно. Неудивительно, что провести границу между скрываемыми мыслями и не скрываемыми можно именно там, где позволяет совесть. Совесть – это мерило приемлемого количества лжи. В то же время совесть обеспечивает минимально необходимое количество лжи, неизбежное для презервации стыда. Недаром слово «бессовестный» часто синоним слова «бесстыдный». Совесть, помимо прочих функций, гарантирует существование стыда и таким образом, является залогом лжи.
Cтыд проявляется в использовании двусмысленности, которая говорит о неспособности высказать правду из-за боязни, что она разрушит фундамент лжи, на котором построено общество. Или просто из-за боязни наказания за эту попытку.
Аг вспоминал заурядный день заурядного человека в своей прошлой жизни.
Заурядный день – это будний день. Заурядный человек – это грустный человек.
Он просыпается через силу, лжет себе что, пора вставать, он измывается над своим телом, окатывая его холодной водой. Мороз на улице заставляет его лгать телу одеждой, которая противна телу. Он уезжает далеко от дома, в крепость труда, он разлучается с женой и детьми во имя денег.
Летом он выходит юным утром на улицу, деревья приветствуют, а птицы окликают его. Воздух пахнет бессмертной жизнью. Он хочет углубиться в деревья, наблюдать суету птиц и зверей. Он любит лежать на земле, смотреть во все глаза на голубизну и радоваться жизни в себе и вокруг. Он думает, что людей хоронят лежащими на спине, а не на животе для того, чтобы мертвецы своим взглядом, проникающим сквозь землю над ними, и подавно сквозь крышку гроба, а уж само собой – сквозь закрытые веки, смотрели в небеса. Но почему-то он должен уезжать от деревьев и созерцания и помещать себя среди металла и чуждых людей, делать бессмысленные движения и действия, которые для его начальства имеют такой важный смысл, что ему за них платят деньги. Они ему нужны, чтобы кормить себя и семью, чтобы не умереть от холода. Голод и холод – вот что грозит его жизни, из-за страха перед ними он продают свою жизнь.
Напрашивается простой выход, уехать в тропическую страну – построить хижину на берегу океана и питаться плодами, с растущих вокруг дерев. Простота этой мечты делает её недостижимой. Привычка пустила глубокие корни и не даёт двинуться.
Поэтому он уныло садился в машину и ехал на работу.
Аг вспомнил, что по пути на работу был сигнал, у которого он ждал, чтобы зажглась стрелка для поворота налево. Он сидел в машине и ждал сигнала, прося, чтобы он, как можно дольше, не зажигался. На работе его встречала мечта о скором окончании дня, чтобы поскорее вернуться домой и не быть тревожимым, окликаемым, одергиваемым миром. Он лгал своему начальнику подчинением, он лгал своим подчиненным приказаниями. Он ел свой ленч и смотрел на часы, мечтая о неподвижности времени. Какое великое чувство свободы охватывало его, когда он выходил из дверей на свежий воздух после окончания рабочего дня.
Это его время!!! Это его жизнь.
Почему, почему мы должны быть прокляты трудом? Выходные дни были нам даны не для отдыха, а для издевательства над нами, чтобы понедельником напомнить нам о нашем рабстве. Он вспоминал угрюмый вид утреннего потока машин – стадо механизмов, которыми правили нужда и привычка. Как прекрасно утреннее небо, но жизнь требовала вперить глаза в землю. Неужели проступок Адама и Евы был настолько ужасен, чтобы, помимо смерти, наказать ещё и ненавистным трудом?
Аг услышал как за стенкой, двигается Лю, и вот он услышал, что она на пороге его комнаты:
– Аг, ты спишь?
– Нет.
– Мне вдруг стало так страшно и одиноко.
– Иди, ляг со мной.
Он почувствовал, как Лю приблизилась, и её горячее тело улеглось рядом. Он обнял её, и она прильнула к нему:
– Как всю это тебе нравится? – спросила она тревожно.
– Черт его знает. Приятно и странно, – ответил Аг.
– Да, странно и приятно, – сказала Лю.
Они обнялись и уснули под журчание воды в комнате.
За мгновенье до того, как погрузиться в сон, в сознание Ага пришла фраза:
«из ночи сделали отхожее время любви».
Они проснулись одновременно от шума, раздававшегося из окна, которое оказалось просто отверстием в стене без стекол и без рамы.
Под окном стояло несколько десятков людей в балахонах и чревовещало.
Владимир Мирской
Суть тела
Стихотворения
Я и непечатным словом не побрезговал бы…
Б. Пастернак. Елене. 1921
* * *
Я был очарован непристойным,
скрытым в очевидных тайниках.
На меня шагали строем стройным
женщины с оружием в ногах.
От тоски смертельной утешая,
поселясь в моей душе пустой,
мне являлась женщина чужая,
но всегда с такой родной пиздой.
* * *
Мы с тобою люди любви
это значит, что мы – вдвоем.
Ты сидишь на мне визави
мы друг другу фору даем
в той игре, где победа нам
суждена через пять минут,
мы друг друга сосем до дна,
но нам время не обмануть,
потому что заставит оно
отыграться нас на любви.
И движенье пьянит, как вино,
усыпляя нас визави.
* * *
Хуй сломался от оргазма,
ты взялась его чинить,
изменять его окраску
и размер величины.
Облизав его слегка
и погладив по головке,
ты от похоти слегла,
хуй же встал от сей уловки.
* * *
Манна небесная авиапочты
мне раскрывалась конвертом, как почкой,
я поглощал из него содержанье,
провозглашая веселое ржанье.
Мне сообщалось о горе и счастьи,
письма читал я за воблой и щами,
рядом присутствовала колбаса.
Ну, а потом я ответы писал.
В них, незабвенных, сияло желанье,
чистое, словно в зажаренной Жанне,
мокрое, словно бордовый тампон,
скользкое, словно дрочимый тромбон.
* * *
Забавно дев сопротивленье.
А я сражаюсь против лени
сопротивленье подавить
я жаждой плоти плодовит!
Сначала ноги сжаты плотно,
потом в объятьи тесном, потном,
они расходятся, как в браке
муж и жена, устав от драки.
Они расходятся с разбега,
и зарожденье человека
ознаменуется потом
кровями, водами – потоп.
Я в нём плыву, подобно Ною,
от одиночества не ною.
* * *
Я разбудил в тебе зверюшку,
во мне же зверь не засыпал,
ты искусала всю подушку,
пока оргазм я зазывал.
Ты завывала. Прозевала,
что ночь прошла, в которой мы
сошлись у книжного развала,
как у развалин той тюрьмы,
где нас в неволе разводили.
Потом в суде нас разводили.
* * *
В тебя проскользнуть и скользить,
пока не забудется сколько
пришлось прямоты исказить,
чтоб стало не сухо, а скользко.
Одежда прозрачна для глаз
моих, и с поличным – приличья,
чем кончится, знаю, рассказ,
мораль измордована притчей.
Тебя я увидел насквозь,
вот матка, а вот яйцеклетка
созрела всегда на авось
глядишь, и закапает с ветки
ведь жарко, весна потекла,
и все скоротечно любили
одежду вина, из стекла,
всю выпив, бездумно разбили.
Губам без помады зардеть,
ногам баснословно разжаться.
Мужчине от страсти твердеть,
а женщине в ней разжижаться.
* * *
Между ног, между губ, между стенок
вот где хуй проводил бы свой век,
чтоб не мучиться мелкостью темок,
что себе навязал человек.
Что наука? Что даже искусство,
коль горит предо мною пизда,
от которой становится вкусно,
и понятно, что жизнь – неспроста.
* * *
Жаль, если женщина хочет прервать
мой неизменно восторженный вопль
лишь потому, что мой Тибр и Евфрат
рай окружают, в который притопал
я, столько вех миновав и девах,
всех возлюбя и любовь ненавидя
лишь потому, что я, щедрый в дарах,
славу свою сквозь толпу ясновидел.
Женщины вяли, морщинились, шли
в старость, которой не знал и не ведал,
в прошлое, в коем лишь жидкие щи,
вещие сны да скончание света.
Новые женщины с кожей, как фрукт,
мясо-молочные, с центром капустным
самозабвенно по-старому врут
чтоб им во чреве до времени пусто.
* * *
Две женщины любви изъяты из мечтаний,
богинями они казались издали.
Но вот издал я крик в издательстве желаний
и ягоду прыща в объятьях раздавил.
Одна предстала мне юродивой табачной,
другая оказалась вестницей дерьма.
Эффект лица к лицу, привычный и типичный,
ударил по лицу, разрушив закрома
ума, которым я тщеславился, храбрился,
а был он, как всегда, подвержен той мечте,
что шла от Бога, а не от каприза,
которая оттащит от карниза,
под коим лев с ручищей на мяче.
* * *
Все они, лишь под хмельком кончающие,
с комплексами, глупостью и фобиями,
женские свои права качающие,
производных не своих любя, а опиума.
Все они, влюбленные в вибраторы,
а себя секретно ненавидящие,
возомнившие себя ораторами,
вякающие идейки нищие.
Сколько развелось их, недоёбанных,
истеричных, злых, с намеком подленьким.
Жаль гарем, где подавали подданных,
поддававших верно задом потненьким.
* * *
Царь природы размножался в неволе,
царь зверей же не хотел – оскорблялся.
Первый – строем проходил под конвоем,
а второй – от клетки обособлялся.
Хоть на царство их и не выбирали,
царь природы сторонился законов
вырождаясь в клетке и умирая,
но хоть с музыкой плодящихся стонов.
* * *
О порнография – прекрасная графа
в анкете для измученных мечтаний,
которых наняла на труд строфа,
без оговорок и без замечаний.
Графа лишь истиной заполнена была,
что и до гласности, до рождества Христова
всегда горела, никогда – дотла,
для всех была желанная обнова.
Но вдруг везде возникли лекаря
души, они же инженеры. Вторгшись ранью,
они мечту сажали в лагеря,
пытали ложью, холодом, моралью.
Когда же выплыл реабилитанс
и сексуальных революций крови,
мы пересели в старый тарантас
и затряслись по направленью к нови.
* * *
Мне грустно оттого, что вазелин тебе
необходим, поскольку ты шершава.
Мой скипетр у тебя в руке, у пальчиков в гурьбе,
в моей руке пизда, как царская держава.
Я чувствую себя владыкою чудес
поскольку ты была мужчиною недавно.
Но сук отрублен, и чем дальше в лес,
тем больше кровь кипит у фифы-Фавна.
* * *
Мне нужна пизда под боком,
чтоб задумчиво писать,
ходит каждая под Богом,
но не все они подстать
той мечте моей бессмертной,
о которой я скулю.
Я манкирую беседой,
и надежды не сулю,
бабе, падкой на словечки
или денежки, увы.
Пусть сочатся, словно свечки
от огня моей любви.
* * *
Звоню одной, которой не звонил
дней эдак шестьдесят.
С ней некто, кто ебёт. И я, Зоил,
эссе, как квинтэссенцию досад,
строчу. Потом звоню другой пизде
– заполнена килой.
И я кропаю стих о пустоте,
верней, о полой щели половой.
Где вы, желанные, влажнещие вмиг?
Всю прячетесь меж ног?
Не любите, что я к вам напрямик,
что стыд и остальное превозмог,
Ну, что же, с вами мне не по пути,
раз не приводит в Рим,
где похоть – это тот же аппетит,
что мы не хлебом – зрелищем творим.
* * *
Пока не обесчещёны,
не требуют почету.
Сопротивлялись женщины,
не поддаваясь счету.
Всё мало их, сочащихся
сквозь пальцы и вообще.
Любви учить учащихся
продажности – вотще.
* * *
Я помню впечатленье первое,
когда увидел эту стерву я.
Она, с тяжелым подбородком,
и с пухлой талией короткой,
белела блядскою улыбкой,
и представлялась мне голубкой,
которой в этой жизни зыбкой
без пестика печально, ступке.
И потому она готова
скакать на мне, как та Годива,
но эта телом, как корова,
и для меня сие не диво.
То бабою Ягою в ступе
или на курьих ножках в срубе,
она пыхтела самоваром,
опорожняясь самосвалом.
Всю это было много позже,
когда я годик с неё пожил.
А до того дрянного времени
ей не хватало только семени,
которым я был переполнен,
как исполин, который болен
летальной жаждой разрушенья,
летевший в бездну размноженья.
* * *
Человек, предельно юный,
без надежды на успех,
он пускал на женщин слюни,
гладя их курчавый мех.
Он стареть не собирался,
он по-прежнему желал,
чтобы в небе оперялся
облаков девятый вал.
Одержимый воздержаньем,
всяк противен был ему.
Заполнял он звучным ржаньем
недоступное уму.
Ошарашенные люди
обходили стороной.
Ну, а он, пуская слюни,
пел привет стране родной,
потому что языкастым
он был только для страны,
где читательские касты
интеллектом не дурны.
Так и жил он, незаметно
перекрикнув океан,
с бурями аплодисментов.
Бурю выдержал стакан.
* * *
Я не спрошу: «За что?»,
Но я спрошу: «Зачем?»,
когда мой Бог сочтет,
что время мне врачей
созвать вокруг себя
консилиумом силы,
что с жадностью собак
за мясо укусили.
Cпрошу: «Какой же смысл
в дурных переживаньях,
застопоривших мысль,
замедливших жеванье?»
И мне откроет Бог,
не истину, а суть,
где я в бараний рог
хоть скручен, но не жуть
мной овладеет – нет!
а радость оттого,
что мною мир воспет,
звенящий тетивой
Амура, что не Бог,
а богочеловечек,
народы между ног
позором изувечил.
Бог оживил меня
до самой смерти дальней,
и не залил огня
в священном храме спальни.
* * *
К любой мне хочется прилипнуть
или прильнуть, или прилечь,
снять кружевную пелерину
с безумных бёдер, с гордых плеч.
Как грустно мне, что недоступно
мне ваших бёдер большинство,
что брать вас силою – подсудно,
что грех в вас видеть Божество.
Без ваших жизней междустрочных,
без ваших маленьких смертей
ни жизни мне, ни смерти. Точно
как вам – ни крови, ни детей.
* * *
Меня пизда волнует больше смерти,
наверно потому, что в ней и жизнь,
и смерть. Она мой облик метит
и миру кажет, крикнув, покажись!
И я послушно строчками являюсь,
а в них – она, властительница дум.
Нет, не в ногах, я между ног валяюсь
вымаливая крупный план их, zoom.
* * *
Хоть Бога правота неоспорима,
но как подчас печальна правота
разлуки с той, что прячется незримо,
до времени, пониже живота.
О, как она была прекрасна и влажна,
как жаждала меня, как восторгалась!
Её хозяйка восседала так важна,
в самовлюбленном ритме возгоралась.
Ты взгляд не отводила, ты светила
в ночи знакомства нашего луной,
которая приливом нас сводила
которая за губы нас схватила
и намертво их склеила слюной.
Но ты не пожелала продолженья,
лишь запах твой заночевал со мной.
Любовный пир я кончил пораженьем.
С победой, Пирр! Спи мирно под луной.
* * *
Сколько мужчин у тебя за спиной
слитно пристраивались и сновали,
снова тебя растравляя на вой,
тело в покое не оставляли?
Ты же лежала и видела сон,
глупый такой, но ужасно приятный,
я колыхался с тобой в унисон,
и от тебя свою счастье не прятал
там, у тебя за спиной. Глаз за глаз
взглядом держался, следя за подъёмом
нашим, вскарабкавшимся на оргазм.
Но оказалось виденье подъёбом.
* * *
Ты на мне прискакала к оргазму
и свалилась в объятья мои.
Подытожив последнюю спазму,
ты призналась мне в вечной любви.
Я тебя понимал – наслажденье
открывает нам вечности вид.
И коль мы ей пошли в услуженье,
стать с ней схожею страсть норовит.
* * *
Жизнь идет умирающе
от пизды до пизды.
И народ, суть марающий,
расставляет посты,
чтоб замолк утопающий.
Чтоб пока не почил,
жизнь прошла подобающе
незаметно почти.
* * *
Я с ней совокупился только раз,
но и его достаточно мне было,
чтобы влюбиться в вызванный экстаз,
которым нас обоих затопило.
Без преувеличений – это чудо,
что с нами неожиданно стряслось.
Я чувствовал, что я в тебе покуда,
привычный мир пускается в разнос.
Ты жадная, на мне, желанью угождая,
перемещалась медленно и вскользь,
я, своему оргазму мыслью угрожая,
отпугивал его, пока не полилось
твою взыванье к Богу, в благодарность
за полное забвение стыда,
пристыженного за его коварность,
исчезнувшего в спазмах без следа.
* * *
Она принадлежала мне, как миг,
который длился крохотную вечность.
Она ушла, как жизнь, и напрямик
мне показала вечности увечность.
Свершившейся мечтой ты, голая, была,
ты – всё, что я желал в тот миг необычайный.
Хоть миг исчез, я вне его пылал,
всю той же силой страсти изначальной.
Мы разомкнулись, чудеса познав,
мы разошлись, распались на частицы.
Но в каждой, что твоя, посеян мой состав,
и миг придет, и вновь он воспалится.
И ты объявишься, появишься извне
и обоймёшь меня своим пространством.
И миг, сродни той вечности во мне,
заставит к жизни отнестись пристрастно.
* * *
Я на участке круга, где любовь
уже прошла, ещё не возродилась.
Приду в кафе, где мы договорились
считать друг друга за большой улов.
О дне соитья мы не торговались
сегодня? – предлагаю. – По рукам.
Цена – любовь. Мы лишь по ней сверялись.
И прибыль поделили пополам.
Да, прибыло полку твоих любовников,
а мой гарем украсился тобой.
Но не надолго – полк твоих разбойников,
в моем гареме учинил разбой.
И ты теперь с каким-то быстро скачешь
по кругу, на участке торжества,
и я пишу о том, как много значишь
ты для меня, а я – для Божества.
* * *
Прожиточный минимум женщин
сумел для себя раздобыть.
Среди развороченных трещин
мне печь удалось растопить.
Всем телом я к ним прижимался,
и жаром я дрожь усмирял.
Надолго я к ним приживался
и время по счастью сверял.
Я еле держался на грани
своих безобидных страстей,
и было обидно от дряни,
ложащейся рядом в постель.
Поэзии производитель!
Мечтания провозгласи!
О женщина, пиздоноситель,
ты к Богу меня вознеси.
* * *
Увидев хуй, пизда пускает слюни.
Пизду узрев, навытяжку встал хуй
честь отдаёт – к чему она? Как плюнет
и разотрет. А ты губами жуй,
двупарными, моё парное семя,
пропитывайся им до мутных глаз,
в которых приостановилось время,
и вдруг забилось судорогой в нас.
* * *
Слюнявая пизда губами шамкала,
беззубая, заглатывала хуй,
и туфлями домашними прошаркала,
стремясь к биде бахчисарайских струй.
Исторгнув семя с кровью – наш роман такой
она пришлёпала в мою кровать,
и снова начала вертеть романтикой,
грозя, коль не женюсь, роман прервать.
* * *
Я со страху убежал в литературу,
чтоб ни-ни, не растлевать и не насиловать
так алкаш хватает в обе политуру,
коль поллитра под рукою нет – Россия ведь.
Как любой поэт, от мира в омерзеньи,
я свой дом из карт, из дам одних, сколачивал.
В нём они в ночных рубашках бумазейных
на диванах возлежат, свернув калачиком
телеса различных видов и размеров,
я ж хмелел то от одной, а то от нескольких.
Глядь – и нет во мне порывов-изуверов,
а зато в литературу по хуй влез-таки.
* * *
Ждал женщину, вернее, поджидал
должна была явиться ниоткуда.
Меня влекла великая нужда,
которая явилась, как причуда.
По-прежнему во мне горела блажь,
без имени, но все-таки родная.
Воспоминаний вычурный коллаж
и кровь текущая из женщины, парная
преследовали только наяву.
Во сне же – никогда не докучали,
и в море женщин я держался на плаву,
хоть волны запах бездны источали.
* * *
Я встретил женщину, что некогда ебал,
она, естественно, с другим стояла.
Я ей рукой махнул, она мне свой оскал
в ответ продемонстрировала вяло.
Она меня в те дни не захотела вдруг,
и я не докучал с тех пор ей больше,
но долю львиную писательских потуг
я посвящал лишь ей. И похоть облапошил,
в текст спроецировав. Роскошная пизда
её уже моей мечты не занимала.
А ведь была сия задача не проста,
достичь сего в любви – совсем не мало.
* * *
Она сидела напротив,
будучи женой другого.
Я не растворялся в народе,
счастливом от вина дармового.
Она сидела, раздвинув ноги,
между которыми были брюки.
Я утешал себя, что в итоге,
я доберусь до её подруги,
у которой были дырявые джинсы,
а из дырки сияла ляжка.
Нет опьяненья сильнее в жизни,
когда от женщины мне поблажка.
* * *
Я тебя держу за пизду рукой,
и влагой пропитаны губы, как губка,
я в печи её шевелю кочергой
а угли очей прикрывает юбка,
задранная. Вот она, зарубка.
Здесь меж стволами, бесценный клад,
подрагоценней медали, кубка,
с ним не в тягость любая кладь
долга, ответственности, поступка.
Я тебя за пизду держу – без неё
я тебя прогнал бы иль уничтожил.
У неё мы добро и зло познаем,
жизни множим и жизнь итожим.
* * *
Делов-то – ноги развести,
ты на таблетках, я – здоровый,
ан нет – препоны возвести
не преминула – взор суровый.
Ведь самый страшный твой ущерб,
который понести не хочешь,
что возбудишься ты вотще,
что в первый раз со мной не кончишь.
Но ведь последует второй,
потом без промедлений третий,
а уж тогда оргазм горой
взойдет и вознесет над твердью.
Но ты хватаешься за ложь,
она суть в трусики оденет.
Ты потому мне не даюшь,
что жаждешь времени иль денег.
Делов-то – ноги развести,
но нет – на хуй заводят дело,
коль смог он выгодно расти,
пускают в дело, то есть, в тело.
Залог раскрытых ног не страсть,
а вычисления рассудка.
И греет тело у костра
в холодном Риме проститутка.
* * *
Вот тебе и конец любви,
адреналин так упал в крови,
что отослал тебя с глаз долой,
чтобы не спать с твоей мордой злой.
Ты ослепила меня пиздой,
но пред глазами твой взгляд пустой,
не закричу я тебе постой,
был я простак, а теперь простой
не для меня слова «навсегда»
и «никогда» – на меня наседал
общий обычай восторженной лжи.
Ты мне теперь вот тут полижи.
* * *
На каблуках, как на ходулях,
и в тесном лифчике, как в сбруе,
девицы шествуют к добру ли,
ко злу – но речи нет о дулях,
показываемых в карманах
раздутых тел грудо-ногастых.
В Евангелиях и в Коранах,
и в разноцветных расах, в кастах
везде, всегда, во всём ночное
людское месиво, дневные
гримасы массы, заливные
луга телес – для всех ручное
блаженство рядом, под рукою
торжествовало над мечтою,
гипертрофированной страстью.
Я жил на даче, за рекою,
и я спускался в сад с террасы
и розы поливал мочою.
* * *
Вымучивал слова, что мучили меня,
они боялись света, упирались
в сознание, в язык, в традиции, виня
преграды нравов, что не убирались.
Но я их вытолкнул на обозренье дня,
до самых до корней раздетых страстью.
и чашу бёдер я не мог испить до дна
их расплескал на водяном матрасе.
* * *
Пизда является тупиком,
в который я всегда прямиком,
но в нём образуется выход в рожденье,
и я напяливаю снаряженье,
чтобы биться головкой о стенки,
но не разбрызгать мозги. Чтоб зенки
через полгода не пялить на пуп,
явно мельчающий под напором
жизни, сервирующей суп
с мясом и на меня с прибором
стол положившей опера
ционный (вот и пришла пора),
на коем ты наконец даёшь
выход своей материнской страсти
из тупика и горло дерешь,
жизнь исторгая из мокрой пасти.
* * *
Оргазм прошел по телу, как гроза,
и молнии конвульсий освещали
природу счастья. И твои глаза
моим глазам закрыться запрещали.
И влага наша затопляла лес
волос дремучих, в тропиках обоих.
Когда же рассвело, в глаза полез
растительный рисунок на обоях.
* * *
Закрыв глаза, ебу свою мечту,
пока в пизде кончаю близлежащей,
с которой я умышленно молчу
слова нейдут. Ты просишь их всю чаще,
ты думаешь, с тобой я нарочит,
поэт, в себе убивший дух Ростана.
Но я с мечтой своей красноречив,
и её восхищаюсь непрестанно.
Ты о мечте сказала, что она
не на Земле. – Неправда, их навалом.
Я ёб и не одну. Но ни одна
во мне своей мечты не узнавала.
Проститутке
Любимая! Столь многими, что ты
нас перестала различать по лицам,
ты на земле супружеской четы
привязана к столбу, как кобылица.
Ночами муж отвязывал тебя,
и на тебе, а не на старой кляче,
по саду райскому скакал, трубя
иерихонски, чтобы стены дачи
упали бы и раздавили быт,
который не любовь – ведь он до гроба
продлится. Вид подброшенных копыт
на каблуках высоких и утроба,
как на ладони, всякому видна,
кто, раздобыв монетные бумажки,
в обмен получит чудо не вина,
не хлеба, а святые вверх тормашки.
Одним движеньем обойдя хребет,
извергнутый завистливой моралью,
ей сырный шлю, цедя слова сквозь марлю,
из проститутки пламенный привет.
* * *
Я тогда не верил собственным глазам,
а лишь верил собственному хую.
Но тебе не помогал его бальзам,
а здоровье духа я ведь не страхую.
У тебя была прекрасная пизда,
с запахом настойчивым, но нежным.
И когда приоткрывались все уста,
брак мне не казался безутешным.
Как бывает сильный и прекрасный дух
всунут Богом в немощное тело,
так он втиснул чудо между толстых двух,
над которым твоё сердце холодело.
* * *
Хуй – пизда!
Хуй, хуй – пизда, пизда!
Хуй, хуй, хуй – пизда, пизда, пизда!
Любовь!





