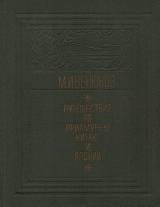
Текст книги "Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии"
Автор книги: Михаил Венюков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
Чтобы иметь возможность держаться как можно независимее от консульства, я вскоре по прибытии в Шанхай постарался уплатить мой долг в триста долларов. Для этого пришлось заложить в банке несколько процентных бумаг, составлявших мою собственность. Условия займа были тяжелы уже по одному тому, что мои бумаги были русские, хотя написанные на металлические деньги, а потому, чтобы не нести больших потерь, я взял ссуду только на месяц и теперь имею удовольствие видеть нередко свою закладную между другими бумагами, потому что и к концу октября содержание мое из Петербурга не было получено и выкупить залога мне было нечем. Эта подлость штабных чиновников приводила меня в состояние, близкое к бешенству, и чтобы не зависеть уже совсем от казенных покровителей и друзей, я продал затем и остальные собственные процентные бумаги, именно билеты выигрышных займов, которые в это время стоили в Петербурге по 150 рублей, но за которые мне купец-немец, имевший в России дела, дал только 80 рублей, которые, будучи переведены по курсам: бумажного рубля на фунты стерлингов, фунтов на ланы (taels) и ланов на доллары, составили в результате едва по 40 долларов за штуку… Могу сказать смело, что торжественное воззвание: «Твоя от твоих тебе приносяще!» было мною в этом случае буквально исполнено по отношению к русской казне. Все, что оставалось у меня от бывшего председательского жалованья {3.95}, отдано было мною сполна на выполнение моей новой службы.
Зато некоторое время я отдохнул в моей независимости: купил недостававшие мне книги о Китае, заменил часть сгнившего еще от тропической сырости белья и платья и даже некоторые безделки для подарков знакомым в Петербурге. Обработка собранных сведений шла довольно успешно, так что вся книжка изданных мною потом «Очерков Китая» была в первоначальном виде написана мною в Шанхае; да и не только написана, а и переписана для штаба. К сожалению, это нравственное спокойствие и даже довольство продолжалось очень недолго. 29 октября 1869 года в Шанхай прибыл сын английской королевы Виктории герцог Альфред Эдинбургский, и тогда случилось вот что. Фрегат герцога «Галатея», по глубине осадки, не мог прийти в самый Шанхай, и потому для доставки его королевского высочества в город, в Вусун был выслан нанятый городским обществом речной пароход, несший на корме одновременно английский и американский флаги (он принадлежал американцам), а на мачтах и по снастям украшенный всевозможными другими флагами, кроме русского, ибо не считалось приличным напоминать английскому принцу-моряку, что существует русский флот и вообще русская национальность. На набережной Шанхая, почти около дома нашего консульства, устроена была другая декорация, тоже оскорбительная для России; именно: вдоль пристани расставлены были попарно флаги разных наций в следующем порядке: английский и американский, французский и германский, итальянский и испанский, голландский и бельгийский, португальский и греческий, наконец, русский и сиамский. Я полушутя, полусерьезно сказал находившемуся на встрече секретарю нашего консульства:
– А ведь в Петербурге могут обидеться, если узнают, что в Шанхае русский флаг в таком загоне, и даже рассердятся, приняв во внимание, что один из членов распорядительного комитета по приему английского принца был русский вице-консул, допустивший такое унижение того самого флага, который прикрывает его дом от вторжений китайской таможенной стражи.
Это замечание имело самые неприятные для меня последствия. В тот же день дотоле непосещавший меня вице-консул Диксуелл заходил в мою гостиницу и, не найдя меня дома, прислал потом секретаря пригласить меня на бал, который будет дан городом в честь высокого гостя. Я категорически отказался, сказав, что «являться на официальный бал во фраке мне не приходится, а надевать мундир я не хочу ввиду неуважения, оказанного и принцем, и городом русскому флагу». С этой минуты разрыв мой с консульством был полный, и я вскоре заметил его последствия. В городе стали считать меня за русского шпиона, намеренно живущего в глухом квартале, чтобы быть незаметным. В ответ на это я немедленно переселился в «Astor-house», то есть на толкучку туристов, посещающих Шанхай, где моя личность исчезала в толпе. Слухи на время умолкли, тем более что в новом жилище я приобрел несколько новых знакомств: ученого-путешественника Рихтгофена, австрийских дипломатов Каличе и Шлика и пр., из которых Рихтгофен сам мне сделал первый визит, хотя и не жил в гостинице. В «Astor-house» останавливался также приезжавший на время из Фучжоу один из французских техников фучжоуского арсенала, от которого я успел добыть несколько достоверных сведений об этом учреждении, давшем Китаю много хорошо устроенных судов и даже сведущих морских офицеров и техников. На замечание мое, почему для этого огромного и важного учреждения выбрано крайне невыгодное место под горой и в такой части речного прибрежья, что неприятель, придя с моря и сделав в нескольких верстах от арсенала небольшую высадку, может в несколько минут разрушить здания и не допустить вывоза из них имущества, – француз с иронической улыбкой отвечал, что не знает, что это не его дело… В 1889 году французский адмирал Курбе, легко разрушивший фучжоуский арсенал, сказал, в чем тут было дело: арсенал стоил китайцам 20 000 000 рублей, и теперь, в 1896-м, будет восстановлен французами же, вероятно, за еще большую сумму.
Я думал в этот период пребывания в Шанхае сделать поездку в Ханькоу, чтобы ознакомиться с этим центром чайного мира. Но, сосчитав наличные деньги, увидел, что это невозможно без большого риска остаться в один прекрасный день на финансовой мели. Жизнь в «Astor-house» была отвратительно дорога: сто двадцать долларов в месяц за пансион, доллар в день за топливо камина, который, однако, вовсе не грел, полдоллара за мытье каждой рубашки, полтора доллара за ванну, в которой трудно было не простудиться, доллар за два стакана чая с несколькими английскими сухарями и т. д., в том же роде. Если бы к этим расходам присоединить издержки на поездку в Ханькоу, то к новому, 1870 году у меня казна по-прежнему была бы почти пуста, несмотря на прибытие, наконец (в ноябре вместо июля), моего жалованья в виде векселя на Лондон, реализованного с потерей лишь 4 1/2 процентов. Да и почтенный наш консул в Ханькоу, купец Иванов, доставил мне достаточные для моей цели сведения по вопросам, которые я ему предложил; а что оставалось затем неясным для меня, то дополнили словесно два других русские торговца из Ханькоу, приезжавшие в Шанхай и останавливавшиеся в «Astor-house» (имена их, к сожалению, забыл). Словом, мне казалось, что провести зиму, до февраля, лучше всего будет в Шанхае, а с началом более долгих дней и теплой погоды – переехать в Японию. Но давно известно, что человек предполагает, а бог располагает; последний же был ко мне постоянно неблагосклонен во все время моей китайско-японской командировки. Не ограничиваясь той частью своей воли, которую он, по теории Ястржембского, передавал мне, за номерами и без номеров, через разные начальства, он сделал мне личную неприятность в виде сильной простуды горла и возобновления жестоких припадков ревматизма, полученного мною в 1860 году на Каскеленском проходе, в горах Алатау. Я попробовал обратиться к одному ученику Эскулапа, но и тот ничего не сделал, да и не мог сделать. В комнате моей, выходившей окном на северо-восток, были щели, через которые холодный декабрьский ветер проникал без затруднений. Тщетно я не снимал шубы и помещался с рабочим столом у самого камина: в то время, как правая рука моя, согреваемая огнем трещавшего кокса, писала, на всю левую половину тела действовала температура 3—4° Реомюра, и ревматизм, насморк и кашель усиливались. Ночью, когда камин не топился, термометр падал до 2°, и я должен был дышать этим холодным воздухом, дрожа от стужи, ибо если шуба защищала сверху, то жидкий тюфяк вовсе не защищал снизу. Я протянул так почти весь декабрь, издержал пропасть денег на доктора, аптеку и топливо, но, наконец, увидел необходимость переселиться безотлагательно в более теплую местность, именно в Нагасаки, который хотя лежит севернее Шанхая, но имеет очень теплую зиму.
V
На переезде из Шанхая в Нагасаки я разобрался с добытыми мною данными по изучению Китая в тех отношениях, которые были мне указаны инструкцией. Оказалось, что в течение пяти месяцев моего пребывания в Срединном царстве мне удалось собрать и частью даже обработать следующие материалы:
1) О племенном составе населения Китайской империи;
2) О выселениях китайцев в Америку, Австралию и разные азиатские страны;
3) О европейских поселениях в Китае и флотах в Китайском море;
4) О русских чаепромышленниках в Хунани;
5) О путях, ведущих в Китай со стороны русской границы;
6) О внешней торговле Китая, особенно с Россией;
7) О пиратстве на китайских водах;
8) О восстании тайпинов;
9) О китайских войсках, устроенных по европейскому образцу;
10) О распределении по гарнизонам китайских войск в застенных владениях: Маньчжурии, Монголии, Чжунгарии и Восточном Туркестане;
11) О вновь возникших в Китае военно-технических и учебных заведениях в Тяньцзине, Шанхае, Нанкине, Фучжоу;
12) Об укреплениях Дагу и Кантона, единственных, какими в то время Небесная империя была защищена или, по крайней мере, думала быть защищенной с моря;
13) О китайском флоте, как вновь возникшем в Шанхае, Фучжоу и Кантоне из судов европейского типа, так и старом, чисто национальном и рассеянном по прибрежьям моря и по рекам.
Таким образом, на все пункты данной мне инструкции я мог уже дать определенные, иногда совершенно полные ответы, достаточные, чтобы удвоить размеры описания Китая в «Военно-статистическом сборнике». Оставалась нетронутой одна задача: изучить восстание дунганей. Но не в Шанхае же и даже не в Пекине можно было изучать события, совершившиеся в северо-западной части Небесной империи, большей частью за Великой стеной. Им я думал посвятить последние месяцы моей командировки или время моего возвращения в Россию. Надеясь, что к той поре возвратится в Пекин генерал Влангали, я был уверен, что эта часть моей программы будет исполняться при лучших условиях, чем было до сих пор. Теперь же, в Нагасаки, я снова вернулся к изучению Японии, с целью составить полное ее описание.
Чудесный, полный нравственного спокойствия месяц провел я в «Hôtel de Belle-vue» {3.96}, расположенном в европейской части Нагасаки, среди тенистого сада. Правда, тень от широковетвистых, большей частью хвойных и потому вечно зеленых деревьев не была сама по себе нужна в январе, но деревья защищали от ветров, и это уже было удобством в доме, наполовину состоявшем из оконных и дверных рам с одиночными стеклами. В чистом воздухе, после прогулок по очаровательным окрестностям Нагасаки, как славно работалось, по сравнению с Пекином и даже Шанхаем! А за материалами дело не стояло: у меня были под руками не только старые классические писатели о Японии: Кемпфер, Тунберг, Зибольд, но и все новейшие – от Перри до Диксона и Линдау. Да, кроме того, были все европейские газеты, издававшиеся в Иокогаме и Нагасаки, и, наконец, важнее всего – возможность поверять многое из прочитанного личным наблюдением или расспросами у европейцев – старожилов в Японии. В Нагасаки их было больше, чем где-нибудь, особенно между голландцами, а с одним из последних, Герстом, я познакомился уже с весны 1869 года на «Мерисе» и «Камбодже». Хотя он лично был новичок в стране, как и я, но у него, как у врача местного госпиталя и профессора математики и химии в местной медицинской школе, была масса знакомых и между европейцами, и между японцами, и это давало мне возможность узнавать многое из первых рук. Только о политических переменах в строе Японии в Нагасаки, как городе провинциальном, знали мало, но политика на этот раз и не занимала меня. Я больше интересовался экономической статистикой страны и вопросами, относящимися к ее общественному и умственному перерождению, чем борьбой партии при дворе микадо и столкновениями японского правительства с иностранными посольствами в Иедо и Иокогаме.
И было чем интересоваться в той сфере, которую на этот раз я отвел себе! Вот, например, факты из истории умственного прогресса японцев того времени. Герст прибыл в Нагасаки только в июле 1869 года, а в январе 1870-го я был у него на лекции математики и видел, как ученики его бойко решали задачи из геометрии и алгебры, несмотря на то, что преподавание последних шло через переводчика и что от начала курса прошло всего полгода. Из химии успехи были еще поразительнее. Юноша лет семнадцати, сын солевара, увидев в учебнике химии (французском) рисунки градирен, немедленно попросил у Герста объяснений (хотя еще очередь до хлористого натрия не дошла) и потом убедил отца безотлагательно ввести европейский способ обогащения маточного рассола взамен туземного, который состоял в поливании этим рассолом куч крупного песка, причем, конечно, соль получалась худшего качества и в меньшем количестве. Другой подобный химик en herbe {3.97} изучил голландский способ очищения камфары и тотчас сообщил его соотечественникам, которые до этого должны были продавать свою камфару европейцам в сыром, неочищенном виде. И туземная перегонка началась, к немалому огорчению голландца-доктора, который увидел в своей «неосторожности» поступок антипатриотический, потому что отныне амстердамские очистители камфары должны были лишиться дохода. Улучшение приемов по разработке каменноугольных копей на острове Такасиме также занимало японцев; но на этот раз они не успели сами ввести эти улучшения и попали в руки англичанина Гловера. Кусок был слишком лаком для того, чтобы европейские просветители-хищники не захватили его в свою пользу, во имя «христианской цивилизации». Немедленно целая толпа авантюристов, якобы техников каменноугольного дела, водворилась на Такасиме, и бедный князь Хизен, владелец острова, тотчас почувствовал ценность цивилизаторских услуг. Когда тот же Гловер доставил ему в январе 1870 года заказанный прежде броненосный корвет, то казна феодала оказалась пуста, и во все время моего пребывания в Нагасаки вопрос о принадлежности броненосца оставался нерешенным, пока не взялось за дело покупки само правительство микадо.
И во многих других отношениях научное и промышленное преуспевание японцев наглядно обнаруживалось в Нагасаки. Пароходный завод в Аконуре, еще летом 1869 года работавший под управлением голландских техников, теперь уже не имел ни одного иностранца. От последнего кузнеца до директора – все в нем трудившиеся были японцы. Мортонов эллинг приглашал европейские суда, нуждавшиеся в починках, воспользоваться удобствами, которые он доставляет, и притом за гораздо меньшую плату, чем доки в Шанхае. Развозка европейских товаров из Нагасаки по другим портам острова Кюсю делалась помощью японских пароходов, и вообще нигде в то время японцы так не вошли во вкус европейской цивилизации, как в этом городе, где они с лишком двести лет сряду держали голландцев как пленников, а прочим европейцам заявляли категорическое non possumus {3.98} на домогательства их торговать с Японией. Зато и европейская колония в Нагасаки теснее, чем в других открытых портах, сблизилась с туземцами. На улицах и в домах встречались дети, очевидно, смешанного происхождения – плоды морганических браков пришельцев с мусме, из которых иные имели порядочное общественное положение. Даже наша русская народность, невидимая или забитая в других портах Востока, напоминала о себе в Нагасаки если не русскими торговыми домами и консулами, которых не было, то целым населением деревни Инасы, говорившим по-русски, иногда очень порядочно. Деревня эта была облюбована русскими военными моряками со времени стоянки около нее судов эскадры адмирала Попова {3.99}, и близ нее находились бывший адмиральский домик, в виде польского чворака, и русское кладбище. Я посетил оба эти памятника пребывания в Нагасаки моих соотечественников и на крыльце домика встретил при этом японского каменотеса, который по-русски говорил совершенно правильно, хотя и позабыл некоторые слова. Он объяснил мне, что прислан своим начальством починить ступеньки лесенки, которая вела в чворак, ибо японцы заботились, чтобы русский домик, в случае прихода русских моряков, был ими найден в полной исправности.
В Нагасаки я достал от представителя американского дома Walsch {3.100} список европейских кораблей, разновременно купленных японцами. Документ этот, единственный в своем роде, приложен к моему «Обозрению Японского архипелага», но, к сожалению, я до обнародования имел неосторожность сообщить его встреченному в Иокогаме русскому офицеру, лейтенанту Старицкому, и тот напечатал его прежде меня в «Морском сборнике», причем даже не упомянул об источнике, хотя это и было поставлено у нас условием. Это был один из случаев, доказывающих, как нужно стеречься наших соотечественников, делясь с ними сведениями. Но, по счастью, еще прежде, чем показать список г. Старицкому, я послал копию с него в Петербург, и таким образом, по крайней мере, предупредил нарекание, что я заимствовал факты от случайно заезжих в Японию. Впрочем, Старицкий со своей стороны был мне полезен сведениями о Сахалине, только я об этом не промолчал, а с благодарностью упомянул в предисловии к моей книге.
И список японских князей, с обозначением их доходов, список гораздо подробнее олкоковского (в «The Capital of the Tycoons» {3.101}), был мною добыт в Нагасаки, впрочем, без всяких хлопот. В Японии были отлитографированы на длинных полосах бумаги гербы и флаги всех владетельных особ, с присовокуплением имени самих особ и годовых их доходов. Ввиду любопытства европейцев к этого рода статистическим документам, надписи на них были сделаны по-английски, и мне оставалось только удостовериться, что мое собрание полосок было полно и что надписи не перевирали собственных имен, что и сделал с помощью одного молодого японца, служившего, кажется, в таможне. Полоски эти были потом переданы мною адмиралу С. И. Зеленому {3.102}, вместе с подробным планом Иокогамской бухты, и поступили первые в морской музей, а второй – в «секретное» отделение морских карт, как уведомил меня о том почтенный адмирал особой запиской, любопытной в том отношении, что она не подписана конечно потому, что в России адмирал или генерал унизил бы себя, поставив свою подпись на бумаге, адресованной к подполковнику и не составляющей предписания ему…[51]51
Я слишком уважаю С. И. Зеленого, чтобы последнее замечание отнести лично к нему; нет, таков вообще порядок вещей в России. Адмирал, вероятно, приказал благодарить меня запиской; в канцелярии написали, а к подписи его превосходительства не подумали подать, согласно обычаю.
[Закрыть]
Желая ближе изучить окрестности такого важного в военно-морском, торговом и промышленном отношениях пункта, как Нагасаки, я делал довольно дальние поездки в окрестности его, большею частью верхом, с одним бетто, то есть пешим конюхом, который бегал за мною, когда лошадь шла рысью. Это сословие бетто было очень многочисленно в Японии и служило самому правительству вместо курьеров. Совершенно нагой, с небольшой палкой через плечо, на которой подвязывался ящичек с письмами или посылками, бетто отправлялся в путь рысью и делал по 8—10 верст в час, так что почта проходила до 200 верст в сутки, причем курьеры-возчики сменялись по станциям, как у нас ямщики и лошади, совокупность которых они заменяли собой. У частных людей, не исключая европейцев, водворившихся в Японии, бетто был просто конюх, обязанный кормить, чистить, седлать лошадь и следовать за ней безотлучно, куда бы и каким бы аллюром ни отправился на ней господин. Это последнее условие должно бы было казаться варварским, бесчеловечным для представителей «христианской цивилизации», и они его порицали, но никогда сами не отказывались от услуг бетто в их полном размере. Замечу, что бетто, благодаря их профессии, были самыми крепкими людьми в Японии, с широкой грудью и толстыми мускулами, только были ли они долговечны, этого я дознаться не мог, несмотря на многие расспросы. Обыкновенно бетто с летами повышался по лестнице домашних слуг и кончал жизнь на каком-нибудь спокойном месте, но многие ли из них доживали до этого?
В Нагасаки при мне была одна из последних вспышек ненависти японцев к католицизму. Вероятно, еще с XVII столетия, несмотря на симабарскую резню 1636 года {3.103}, на острове Кюсю оставались тайные последователи христианства; после 1859 года католические патеры, получив снова доступ в японские порты, успели подновить усердие своих тайных агентов, и одна японская деревня к северу от Нагасаки гласно заявила себя католической. Тогда правительство велело деревню эту сжечь дотла, а жителей выселить внутрь страны, рассеяв их по частям. Патеры, я думаю, радовались в душе, ибо это было наилучшее, испытанное веками средство распространять их учение; но на словах они негодовали и даже довольно недвусмысленно обвиняли «в злодеянии» представителя еретической Англии Паркса, который в самом деле накануне сожжения деревни еще был в Нагасаки, где провел несколько времени и имел свидания с губернатором. Быть может, в таком обвинении была и доля правды: ведь католическое влияние на Востоке есть влияние Франции, а Паркс слишком ярый пальмерстоновец, чтобы не быть ревнивым к успехам французской политики. Совпадение его приезда в Нагасаки с данным эпизодом останавливало внимание не одних патеров.
Умеренность зимы в Нагасаки так велика, что бамбуки остаются зелеными, а снег даже на горах лежит лишь по нескольку часов. Имея жительство в солидно построенном доме, можно почти и не топить комнат или довольствоваться японскими очагами, вносимыми на самое короткое время; но, к несчастью «Hôtel Belle-vue», как я уже упомянул, был построен слишком легко и напоминал стеклянную оранжерею, окруженную галереями, или верандами: оттого приходилось часто топить, что, впрочем, обходилось не так дорого, как в Шанхае. Несмотря на это неудобство, я быстро вылечился от одолевавшего меня в Китае кашля, и самый ревматизм возвращался лишь по временам в слабой степени. С восстановлением здоровья возвратилась и психическая бодрость, и я только ждал известия о получении моего содержания за текущее полугодие[52]52
Я имел право надеяться на такое получение, во-первых, потому, что таково было высочайшее повеление, а, во-вторых, потому, что, зная, что в России все зависит не столько от царя, сколько от чиновников, я еще в августе 1869 года, из Пекина, просил об ассигновании моего жалованья, и мне оно было обещано письмом Гельмерсена.
[Закрыть], чтобы начать исполнение широкого плана, который придумал в Нагасаки. План этот состоял в том, чтобы отправиться через Иокогаму на север Японии, в Хакодате, а оттуда на Сахалин или во Владивосток, далее в Маньчжурию или Монголию и из Урги на запад к берегам Верхнего Иртыша. Таким образом, я осмотрел бы все японские и китайские земли, прилегающие к России, а их изучение, конечно, было главной целью моей командировки. На последней части предположенного маршрута я коснулся бы окраины местностей, обуреваемых дунганским восстанием {3.104}, и, следовательно, мог бы собрать о нем обстоятельные известия. Для такого путешествия, конечно, нужны были значительные наличные деньги именно в серебряной монете, и я послал докладную записку министру финансов об ассигновании мне содержания за второе полугодие 1870 года серебряными рублями с доставкой их в Ургу. До русских же владений в Приморской области я рассчитывал доехать без больших издержек при помощи клипера «Всадник», плававшего в это время в Японском архипелаге. С этой целью я написал капитану клипера в Иокогаму письмо, прося его известить меня, может ли он доставить меня на Сахалин, во Владивосток или хотя бы в Хакодате. В ожидании ответа я торопился привести в порядок все данные, привезенные из Шанхая и собранные в Нагасаки.
Дней через десять или более пришел из Иокогамы ответ: капитан-лейтенант Михайлов извещал, что он сам не знает, когда пойдет на север и пойдет ли еще, что притом на военные корабли посторонние пассажиры не допускаются без предписания высшего морского начальства, но что при личном свидании в Иокогаме он объяснит, что в состоянии будет для меня сделать. Это был отказ, вежливый, но несомненный. Я впал в уныние.
Вечером того же дня почта из Шанхая привезла еще более неприятную новость. Из Петербурга мне писали, что так как кредит даже на первое полугодие 1870 года не может быть открыт в 1869 году, то вексель для меня не будет написан ранее января, следовательно, не дойдет до меня раньше конца марта или начала апреля.
Это был последний удар. Я чуть не плакал. Все мои предположения разлетались в прах. Я был осужден влачить печальное существование человека, заброшенного на чужбину и вечно ожидающего денег, а в ожидании связанного в каждом малейшем движении или обязанного делать займы у людей, едва знавших меня по имени. Продать своего у меня ничего уже не было, и наличных средств не могло достать долее, как до конца февраля, если бы даже остаться в Нагасаки, а за расходами на переезд в Иокогаму осталось бы и того менее.
Только тот, кто долго, многие и лучшие годы своей жизни мечтал об исполнении какого-нибудь серьезного плана, кто не жалел ничего для исполнения, начал уже это исполнение, презирая много препятствий, – и вдруг увидел, что все планы его разбиты, в состоянии понять, что происходило во мне… Бедность! бедность! с неизбежным при тебе отсутствием связей и поддержек – ты губишь самые чистые, самые святые начинания!.. Длинная ночь прошла для меня без сна, и к утру я написал докладную записку начальнику Главного штаба графу Гейдену, прося его отозвать меня ранее срока, в том внимании, что все нужное относительно Японии будет мною окончено к лету и что Южного Китая мне тоже посещать более незачем, а посетить Северный можно будет на обратном пути. Я промолчал о том, что действительною причиною моего желания воротиться поскорее домой было постоянное запаздывание моего содержания, ибо это было бы принято за жалобу на штаб и, следовательно, увеличило бы только злобу на меня, а мне и без того было ясно, что записка моя – мой приговор. За десять тысяч верст от Петербурга по прямой линии мне как бы слышались насмешливые замечания «друзей»: «Ну, наконец, доконали этого выскочку! Вперед не будет соваться туда, куда охотно пошел бы и каждый из нас…»
Посылать изготовленную записку по адресу я, однако же, приостановился, в том соображении, что личное свидание с командиром «Всадника» могло еще изменить дальнейшие условия моего существования. А так как срок пребывания клипера в японских водах был мне неизвестен, то я и поспешил в Иокогаму, чтобы застать его там. По прибытии туда я сделал визит капитану Михайлову, словесно объяснил ему во всей подробности то, что излагал прежде в письме, показал свои бумаги и, конечно, получил тот же отзыв, то есть что путешествовать по морю на «Всаднике» мне рассчитывать нельзя.
Тогда записку свою к Гейдену я сдал не то на английскую, не то на американскую почту (чтобы избавиться от прочтения ее пекинскими покровителями) и принялся за работы с фатализмом доброго мусульманина, очень хорошо, впрочем, зная, что пословица «За богом молитва, а за царем служба не пропадают» есть чистейшая ложь и что в России она давно заменена другой: «Бог предполагает, а чиновники располагают», и притом всегда под влиянием чувства зависти.
Две главные невыгоды истекали в данную минуту для меня из безденежья: во-первых, я не мог делать разъездов по стране, даже на небольшие расстояния, например в Иокосуку, в Иедо; во-вторых, должен был отказаться от возобновления многих прошлогодних знакомств с французами, которые, однако же, могли быть мне очень полезными, особенно по изучению японских военных сил и средств. Пользоваться гостеприимством иностранцев и не платить им тем же казалось мне неприличным с моей частной точки зрения и унизительным с точки зрения русского. Через две недели после водворения моего в «Hôtel des Colonies» оказалось, что и на текущие домашние расходы у меня остается какой-нибудь десяток пиастров. Нужно было достать денег quand-même {3.105}. Возможных источников было два: дом Герда, через который ex officio шла моя корреспонденция, и касса «Всадника», про которую капитан Михайлов мне говорил, что она полна. Я обратился сначала туда, куда следовало по моему официальному положению, то есть к консулу Герду, получавшему мои векселя в Шанхае и уже открывавшему мне кредит на 300 пиастров в прошлом году, но получил отказ. Тогда пришлось просить Михайлова, и от него, к счастью, я получил ответ: «Сколько хотите!» Соображая, что по закону мне уже в январе должно было получить из казны 150 фунтов стерлингов, то есть 1 100 долларов, и что если «Всадник» уйдет из Иокогамы, то я могу остаться без всяких средств к жизни и к возвращению домой, я попросил прямо отпуска всех 1 100 долларов и на другой день имел удовольствие их получить. Терзаниям моим наступил конец.
Я немедленно переехал на две с лишком недели в Иедо и здесь, благодаря французу дю Буске, значительно пополнил мои сведения о военных силах и средствах Японии, а также о составе правительственных сфер в Иедо, о главных деятелях переворота 1868 года и пр. В то время еще не вполне улеглись тревоги, сопровождавшие падение тайкуната, и во владениях князя Мито произошли беспорядки в смысле оппозиции новому государственному строю: они, впрочем, были тотчас подавлены, причем один феодальный замок сожжен. В Иедо это произвело впечатление, но нисколько не отозвалось на судьбе бывшего тайкуна, мирно проживавшего в философском уединении в провинции Суруге, – факт, делающий честь правительству Санжо и Ивакуры, руководивших молодым микадо. В то же время в Иедо случилось событие, напомнившее о прежних бытовых порядках, именно публичное кровомщение за обиду, очень давно нанесенную, – о нем тоже толковали, но не более, как теперь толкуют в Париже о дуэлях, столь частых между журналистами и членами клубов, парламента и пр. В данном случае дети мстили за отца, уже умершего. Совершив месть, они сами явились в полицию заявить об этом и, кажется, остались безнаказанными, потому что обида их была заранее занесена в особую книгу, чем самым им давалось право мстить. Это право было особенностью японских законов, сколько мне известно, не повторявшейся нигде: ни в средневековой Европе, ни у народов других частей света, допускавших кровомщение. Реформирующееся правительство микадо в 1870 году еще не касалось его, да и коснулось ли теперь – не знаю. Оно, по совести, мне кажется недурным, ибо поддерживает взаимное уважение и вежливость между людьми гораздо действительнее, чем современные законы о взысканиях за обиды, клевету и пр. в Европе. Сколько мне помнится, право мстить безнаказанно было ограничено, однако же, в Японии сроком двух лет, после чего, если кровомщение совершалось, то рассматривалось уже как преступление, только, вероятно, сопровождаемое «смягчающими обстоятельствами» в глазах судей. Удержано ли оно в современном японском законодательстве, я, к сожалению, не знаю.








