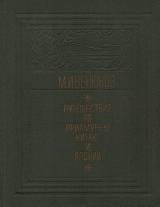
Текст книги "Путешествия по Приамурью, Китаю и Японии"
Автор книги: Михаил Венюков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
Хладнокровный янки-капитан не дал себя в обиду: он сначала договорил, что было нужно, со своим собеседником, а потом уже сказал г. де Мон-Блану:
– Сэр, я никогда не опаздываю против расписания; если же состояние моря или судьба потребует захода в какой-нибудь промежуточный порт, то, конечно, зайду.
И, отвернувшись, опять продолжал разговор с соседом, не обращая внимания на молниеносные взгляды его сиятельства, недовольного, что с ним обошлись как с простым смертным. Надменно-заносчивое поведение графа продолжалось во все время плавания, причем он добивался даже, чтобы другие пассажиры при встрече с ним на лестнице, в проходах и даже на палубе давали ему дорогу, на что однажды какой-то янки и ответил ему тем, что, взяв за плечи, отвел слегка в сторону от прохода, прибавив сухо, плохим французским языком: «Monsieur, on ne s'arrête jamais sur le passage» {3.71}. Я был очень доволен этим нравоучением, после которого де Мон-Блан скрылся в свою каюту и не показывался до самого Нагасаки, куда князь Сацума никакого парохода за ним, конечно, не присылал. По сходе с «Нью-Йорка» этой надменной особы в публике говорили, что это просто авантюрист, которого французские посланник и даже консул не принимали к себе и если не арестовывали за самозванство, то лишь потому, что списки савойской знати им были не довольно известны[47]47
Савойя была очень недавним приобретением Франции, и предполагать существование в ней графов де Мон-Блан естественно.
[Закрыть]. Относительно же Сацумы поведение де Мон-Блана состояло просто в надувательствах этого богатого феодала, который покупал много оружия, пароходов, машин и других европейских произведений по рекомендациям савойского графа, конечно, заставлявшего платить себе за факторство и князя, и тех купцов, которых рекомендовал ему. Фразы о благе Японии, о прогрессе японской нации и о блистательной роли, выпадающей при этом движении вперед на долю князей сацумских, не сходили при этом с языка пройдохи.
Кобе, около которого мы сделали первую остановку на 5—6 часов, был в 1869 году только что возникшим маленьким городком, очень красивым и подававшим надежду перещеголять Иокогаму даже торговыми оборотами. В самом деле, соседняя Осака искони считалась первым торговым городом Японии, портом Киото и самых богатых центральных провинций Ниппона {3.72}. Однако надежда эта не оправдалась потом, и не только Иокогама, но и Нагасаки перетянули. Впрочем, большого убытка европейским негоциантам, основавшимся в Кобе, оттого не было: это ведь были отделы тех же самых фирм, что находились в Шанхае, Иокогаме, Нагасаки и пр., так что в сумме обороты их не только не страдали от скромности торговли в Кобе, но во всяком случае возрастали. Я не помню теперь, в том ли же самом порядке, как в Иокогаме и Шанхае, стояли вдоль набережной дома коммерческих тузов Кобе; но вообще порядок этот был во всех китайско-японских портах таков: Джардинь – Матисон, Гловер, Россель или Пустау, Уольш – Холл, Герд, Адамсон-Бель и так далее, соответственно богатству фирмы, причем дом Джардиня был всегда ближайшим к таможне или к английскому консульству. Любопытной и притом очень приятной особенностью Кобе являлся сад для прогулок, составленный из вековых, очень тенистых деревьев. Этой почти необходимой принадлежности цивилизованной жизни не имела в 1869 году никакая другая европейская «концессия» (квартал) в портах крайнего Востока. В Шанхае, правда, развели маленький садик на набережной, но это было жалкое подобие публичного гульбища: ни малейшей тени, теснота, ни буфета, ни музыки, и только в известные часы толпа китайских «нянек», или, как англичане попросту говорили, «of Chinese girls» {3.73}. В Кобе сад представлял все условия стать действительным местом отдохновения и от жары, и от трудов, хотя и в нем не было ни музыки, ни буфета. Это был прежний сад какого-то князя, земля которого была отведена правительством под европейский квартал.
Так как в маленьком Кобе, кроме сада, смотреть было нечего, то мы прогулялись в соседний большой японский город Хиого, знаменитый своими каменными набережными, на постройку которых один сиогун высылал тысячи народа и затратил большие деньги. Хиого действительно и доселе имеет удобный порт, глубокий и достаточно закрытый от ветров, тогда как Осака доступна только легким баркам, а других гаваней в окрестностях нет совсем. Сёгуны высоко ценили важность Хиого, и потому вход в порт издавна охранялся береговыми батареями, из которых одна имела даже центральный редут, в виде каменной башенки, – все очень игрушечное и неспособное бороться даже против одного европейского корабля с современной артиллерией. Гораздо большей защитой от огня с моря служил для Хиого лесок, который рос на плоской косе между городом и прибрежными укреплениями. С основанием Кобе, уже в 1869 году была речь о соединении города с Осакою мирным рельсовым путем в 28 или 30 верст длиной. Он вскоре и был сооружен, даже продолжен до Киото, а теперь, если не ошибаюсь, и до прибрежья Японского моря.
Плавание по Внутреннему морю (Суво-нада) было истинным наслаждением. Вид за видом, один живописнее другого, открывались перед нашими глазами, постепенно изменялись и скрывались за горизонтом, уступая место другим. Наконец мы приблизились к Симоносекскому проливу, этому Босфору Японии. Вход в него с востока очаровательно хорош; недостает только живописных построек по скатам соседних гор и у самого моря, чтобы местность эта заставила забыть о Константинопольском проливе, которому недостает больших лесных масс, чтобы взор мог отдыхать от излишней пестроты построек и полуголых скал. Особенно поразительна высота, ограничивающая пролив с юга и принадлежащая к составу гористого острова Кюсю: она покрыта лесом. На противоположном берегу, то есть на Ниппоне, мы видели издали развалины замка Чосиу, принадлежавшего одному из известнейших патриотов Японии – князю Нагато. Это разрушение, как известно, было произведено в 1864 году англичанами {3.74}, добившимися при этом от Нагато подписки, что Симоносекский пролив всегда будет свободен для плавания иностранных судов и никогда не будет укреплен. Конечно, такая подписка, взятая от местного правителя, а не от главы государства, по силе европейского международного права ничего не значила, не стоила той бумаги, на которой была написана; но англичане умели воспользоваться смутными обстоятельствами в Японии 1860-х годов, чтобы заставить и микадо признать силу подписки, данной одним из его подданных без всякого согласия верховного правительства страны и под влиянием самого вопиющего насилия… «Сила есть право», – как сказал еще Протагор {3.75}.
Вот вдали растянутый узенькой полосой вдоль берега пролива город Симоносеки; вот с другой стороны Кокурская бухта. Быстрое течение в проливе на этот раз идет против нас, но оно периодически сменяется другим, противоположным, так как все явление зависит от океанского прилива-отлива. В Японии эти случаи смены течений в проливах не редкость и, например, в Сангарском проливе делают подход к Хакодате очень нелегким для парусных судов; на северо-востоке от Сикокфа есть даже местность, где два встречающиеся прилива производят водоворот, небезопасный и для пароходов. По выходе из Симоносеки мы постепенно стали поворачивать к югу, следуя в виду берегов Кюсю, с одной стороны, и многочисленных островов – с другой. Приближалась ночь, и многие мнительные пассажиры «Нью-Йорка» побаивались легкой возможности наткнуться где-нибудь на скалу, тем более что маяков на этих водах в то время еще не было. Но на мостике парохода бодрствовал Фурбер, и мы на другой день проснулись рано утром у входа в Нагасакскую бухту.
Дождь лил без перерывов все время, пока мы стояли в Нагасаки, а потому для прогулки по очаровательным окрестностям этого города не было никакой возможности. Самые вершины соседних гор чуть виднелись сквозь дождевую мглу, и даже северного конца гавани различить было нельзя. Оставалось осмотреть только ближайшие части города, начиная со знаменитой Децимы, да те места, где находятся какие-нибудь военные сооружения, которые здесь, как и везде, составляли предмет моих первых забот ex officio. Я так и сделал, причем не мог не заметить, что оборона города и порта очень несовершенна. Особенно странной казалась батарея из больших бомбовых орудий, поставленная не впереди, а сбоку и даже почти сзади города: отвечая на ее огонь, то есть совершая военное действие бесспорно позволительное, неприятельский корабль, ворвавшийся в бухту, мог как бы ненамеренно сжечь самый город. И пароходный завод в Аконуре охранялся более выступом соседней горы, чем какими-нибудь укреплениями. Вообще овладеть Нагасаки с моря в 1869 году не могло составить большого труда, и это, конечно, было одной из причин боязливой политики японцев по отношению к бессовестным и свирепым представителям «христианской цивилизации».
III
– Что, каков «Сын океана»? – спросил меня случайно открытый мною среди пассажиров «Нью-Йорка» соотечественник мой, г. Олларовский, который, если не ошибаюсь, провожал до берегов Японии любимое им семейство бывшего американского посланника в Пекине, отъезжавшее на родину. «Сын океана» – это Янцзы-цзян, попросту Да-цзян (Великая река), у нас – Голубая река.
– Да, огромная масса текучей воды, – отвечал я, – только за что ее назвали Голубой, когда она серо-желтая?
– Полагаю, за то, что в верховьях, где она течет по гористым странам, цвет ее воды синий, как в Роне…
Такой коротенькой беседой открылось мое знакомство если не с почвой, то хоть с водами средней части Срединного царства. Скоро мы свернули в Вусун, который хотя не меньше Невы, но казался небольшой речкой по сравнению с Да-цзяном. До Шанхая оставалось лишь несколько верст, но мы не могли идти туда немедленно, потому что на баре в Вусуне, по случаю отлива, было мало воды. Ходя по палубе и осматривая видневшиеся на берегу Вусуна остатки китайских батарей, которые восстанавливать китайцы не могли по трактату 1860 года {3.76}, я невольно спрашивал себя: зачем европейцы основались в Шанхае, а не в Вусуне? Ведь таким образом они стеснили собственное судоходство, ограничив его лишь такими судами, которые сидят в воде не более 12 футов, тогда как в Янцзы-цзян имеют доступ большие корабли, с осадкой до 23 футов. Но этот вопрос, в сущности, был праздным, потому что если не логический, то фактический ответ на него скоро показался в виде длинного ряда огромных домов или дворцов опиумо-чайной аристократии Шанхая, и думать, чтобы когда-нибудь эти денежные тузы вздумали перенестись на берег Да-цзяна, было бы очевидной нелепостью.
В Шанхае первое, что невольно обратило мое внимание, было грубое, чтоб не сказать зверское обращение европейцев с сынами приютившего их Срединного царства. Лодочник, который довез меня с парохода до пресловутого «Astor-house'a» {3.77}, требовал уплаты, и так как у меня не было мелочи, то я поручил хозяину гостиницы удовлетворить его, то есть дать ему условленные два шиллинга. Китайцу я показал при этом два пальца и особу хозяина, за которым тот и последовал, понимая, в чем дело. Но каково же было мое удивление и отчасти негодование, когда через три-четыре минуты я увидел моего лодочника спасающимся во все лопатки от «директора» гостиницы, который, оттаскав его за косу, гнался еще за ним с бильярдным кием, нанося по временам удары.
– В чем дело? – А в том, что китаец требовал двух шиллингов, а мистер Смит давал ему две какие-то дрянненькие мелкие монеты, находя, что с него и этого за глаза довольно и что «баловать эту сволочь» не следует. Последовал спор, конец которого я и наблюдал из окна. Так как действительной причины побоища я в ту минуту не знал, то и не принял никаких мер к вознаграждению побитого китайца. Через полчаса же, когда дело было мне объяснено одним соседом за столом и бывшим пассажиром на «Нью-Йорке», поправлять было поздно: китаец исчез бесследно. Я думал сначала, не принес ли он жалобы на мистера Смита, да и на меня подлежащим консулам, но ничего подобного не было. «Небесные» хозяева страны уже привыкли, точнее были приучены не тратить понапрасну времени на попытки жаловаться консулам, из опасения, что те к полученным уже ударам прибавят еще несколько новых или добьются от китайской администрации посажения жалующегося на цепь, с деревянной доской на шее, у ворот обидчика. Это-то ведь и называется у европейцев в китайских портах «внушением варварам уважения к представителям европейской цивилизации и их интересам…» Любопытно, что мне в счет хозяин «Astor-house'a» поставил два полных шиллинга, вероятно, чтоб вознаградить себя за труд по исправлению китайца от алчности.
На другой день по приезде в Шанхай я отправился в русское консульство справиться: не получен ли там для меня вексель? Ведь был уже август по новому стилю. В консульстве, которое, в сущности, было американским домом Герда под русским флагом для внушения вящего уважения к богатому хозяину, мне сказали, что нет. Тогда пришлось, с первого же шага на китайскую почву, стать в неприятное положение и просить вице-консула Диксвелла открыть мне кредит долларов на триста, которые он мог покрыть тотчас по получении моего векселя, который не мог миновать его рук. Деньги были даны, но и немедленно же был принят высокомерный тон, дошедший до того, что торгаш-янки не отдал мне визита и даже не спросил: думаю ли я жить в Шанхае или отправляюсь куда-нибудь далее? Для сношений со своей важною особою он указал мне одного из своих конторских писцов, уроженца Финляндии и бывшего боцмана на каком-то «российском» корабле, заходившем в Шанхай… Нетрудно было догадаться, что этот тон был предписан ему свыше, не только из Пекина, но из самого Петербурга. Это отзывались обстоятельства, предшествовавшие моей командировке.
Сображая, что в Шанхае летом жарко, а в Пекине зимой холодно и что, следовательно, лучше август и сентябрь провести в последнем городе, а осень и зиму в первом, я решился безотлагательно ехать на север. Пробыв дня три в Шанхае для осмотра собственно города, я сел на пароход, отходивший в Тяньцзинь. Это было любопытное судно, потому что представляло смесь морского типа с речным; ибо хотя оснастка его была чисто морская, но дно почти плоское и осадка с полным грузом не более девяти футов, чтобы можно было переходить в Дагу через бар, а потом двигаться по Пейхо. Так как вместимость парохода была значительна (до 2 000 тонн), а борты и палубные надстройки высоки, то легко себе представить, каков должен был быть крен при хорошем боковом ветре и как легко было утонуть с подобным кораблем на бурном море, каково Желтое. Я думаю, что в Европе не было бы позволено такому судну перевозить пассажиров… разве если бы оно принадлежало Русскому обществу пароходства и торговли, издевающемуся над всеми мореходными правилами. В Китае г.г. Траутман и К°, конечно, не стеснялись европейскими предрассудками и имели целью только одно: на мелкосидящем и скороходящем пароходе перевозить возможно большее количество грузов, а проезжих людей принимать чуть не из милости, хотя за четверо суток плавания с них бралось по сто долларов. Товар при этом всегда можно было застраховать, хоть бы в том же обществе, в котором г. Траутман был директором; а пассажиры если бы и погибли даром, то небольшая беда… По счастью, в наше плавание погода была совершенно тихая, и так как мы не заходили в Чифу, то были исправно в назначенный час перед устьем Пейхо.
Я описал в «Очерках Китая» курьезные укрепления в Дагу, наружный осмотр которых сделал во время стоянки парохода в устье реки, около самых фортов. Забавно было видеть глиняные форты вооруженными дальгреновскими орудиями, точно они собирались и надеялись с успехом выдержать борьбу с броненосцами. Китайцы из современных опытов и наблюдений не научились почти ничему. Для них как будто не существовало воспоминаний о взятии дагуских «твердынь» штурмом с фронта – взятии, произведенном англо-французами, которые даже не имели дальнобойных броненосцев, а только небольшие канонерские лодки. В тех же глиняных стенах были возобновлены те же, быстро разрушенные перед штурмом, амбразуры с деревянными потолками вместо сводов; те же мортиры стояли сзади верков, для навесной стрельбы… не знаю уж в кого, потому что, конечно, ни один корабль, бомбардируя Дагу, не приблизится к нему на расстояние навесного выстрела из мортиры, а будет разрушать стены фортов прицельно… Только лет через пять после посещения мною Китая Ли Хун-чжан {3.78} догадался изменить систему обороны Хайхэ, то есть водной дороги к Пекину, заготовив большое количество подводных мин для погружения их в реку перед вторжением неприятельского флота; но остались ли в прежнем виде «твердыни» Дагу или их заменили чем-нибудь более серьезным, я не знаю.
Перед приближением к Дагу и во время плавания по реке Хайхэ на пароходе было немало толков о том, будет ли открыто для европейцев вновь образовавшееся устье Желтой реки. Известно, что в 1860-х годах Хуанхэ прорвала плотину около города Кайфына и ушла на северо-восток, в Печилийский залив, вместо того чтобы впадать в Желтое море, где устья ее были почти занесены песками. Два англичанина из Шанхая, Ней-Илаяйс и Кингсмилл, ездили осматривать новое русло реки, но устьев ее не видали, а потому вопрос о судоходстве по нижней ее части остался под сомнением. Большая часть пароходной публики думала, что и в Печилийском заливе устье Хуанхэ так же мелководно, как было в Желтом море, а потому торговых выгод новое направление реки не представляло. В таком виде дело остается и до настоящей поры.
Около самого Тяньцзиня, версты за полторы, пароход наш стал на мель; и так как капитан не надеялся сняться скоро, то многие пассажиры, в том числе я, решились немедленно уехать в город по сухому пути. Китайские одноколки тотчас явились к нашим услугам; я взял часть своих пожитков и отправился отыскивать русское консульство. Найти было нелегко, потому что, хотя дом находился не очень далеко от пристани, в европейском квартале, но, вопреки общепринятому в Китае обычаю, отличался таким низким флагштоком, что его издали вовсе не было видно. Да и самый флаг, сшитый из каких-то тяжелых дерюг, висел вдоль флагштока в виде шерстяного одеяла, полосы которого различить было трудно. Наконец, при помощи одного встретившегося англичанина мы нашли консульский двор и постучались у ворот. Их отворил сторож-китаец, который и ввел меня на передний двор. Я, однако же, принял его сначала за задний: до того много в нем было навоза, иссушенного солнцем, и мух, которые носились тучами. Несколько кур, находившихся тут же, еще более убеждали меня, что это именно la basse-cour {3.79}, и я хотел было уже повернуть назад, чтобы поискать другого, более приличного входа в российско-императорское консульство, но китаец-сторож давал знаками понять, что других ворот нет. Делать нечего, пришлось достать карточку и послать почтенного стража известить консула о моем прибытии. Он не торопился с этой миссией, а сначала вызвал помощника, вероятно для наблюдения, чтобы мы с кучером-китайцем не покрали кур, и только тогда отправился через калитку в садик, предшествовавший консульскому жилищу. Прошли добрых четверть часа, пока он вернулся и показал мне путь, выгнав в то же время моего кучера за ворота, так что последний мог бы, в мое отсутствие, уехать с моей кладью вполне незамеченным. Я миновал садик и через отворенную дверь передней увидел консула Скачкова занимающимся осмотром и описью каких-то чемоданов.
– А! Вот и вы! – сказал он, увидев меня. – Нам об вас писали из Петербурга, и я все дивился, как это Военное министерство посылает в Китай агентов, которые не знают китайского языка.
– Я думаю, это потому, что в армии нет таких офицеров; те же лица, которые знают китайский язык и состоят на службе в Китае, никогда ничего нужного военному ведомству не доставляли.
– Ну, а как же вы доставите, не умея ни о чем спросить китайцев? Если вы надеетесь на нас, то ошибаетесь. Я свои сведения держу для себя и даю лишь тем, кому хочу.
– Не беспокойтесь, вашего содействия по собиранию военных сведений я не попрошу, так как вы не специалист по военному делу.
– Ошибаетесь: я сам служил в военной службе.
– Да? Где же и когда?
– Я был юнкером на Черноморской береговой линии; только там один бездельник майор, заметив, что у меня есть деньги, обыграл меня до нитки, что и заставило меня пойти в студенты в Пекине.
– А! Ну, я этого не знал. Во всяком случае, в данную минуту я вас беспокоить никакими вопросами не буду, ибо знаю уже, что в Тяньцзине есть образцовые китайские войска, арсенал и пороховой завод, которые я постараюсь осмотреть на возвратном пути из Пекина. А теперь вот мой паспорт: благоволите сделать на нем визу и содействовать моему отъезду в Пекин.
– Хорошо-с. Паспорт ваш я доставлю вам в гостиницу, где рекомендую вам остановиться и куда вас проводит вот этот китаец.
Я раскланялся и последовал за проводником, не успев проникнуть у консула дальше передней.
Этот грубый прием, без сомнения, имел в основе инструкции из Петербурга; но в нем сказались и старые личные счеты. Дело в том, что в 1859—1860 годах, когда я управлял 2-м отделением Генерального штаба в Омске, Скачков был консулом в Чугучаке {3.80}, и вся переписка с ним генерал-губернатора Западной Сибири находилась в моих руках. Однажды получена была от него эстафета с донесением (в открытом конверте) в Азиатский департамент, что «по распространившимся в Чугучаке слухам Большая киргизская орда взбунтовалась, ей на помощь пришли кокандцы, укрепление Верное {3.81} взято ими и казачьи станицы в Заилийском крае разрушены». Генерал-губернатора Гасфорта это взбесило. Мне приказано было приложить к донесению консула бумагу в Азиатский департамент, что все скачковские доносы – вздор, и что было бы желательно, чтобы на будущее время консулы в Чугучаке и Кульдже {3.82} относились менее доверчиво к среднеазиатским базарным слухам, всегда почти преувеличенным, а часто и просто выдуманным. Было даже прибавлено, что едва ли дело консулов, живущих за границей, делать донесения о событиях внутри России и что было бы лучше, если бы они сообщали сведения о странах, в которых служат, чего, к сожалению, не делается.
Ковалевский, который был тогда директором Азиатского департамента, оценил справедливость этих замечаний и хотя не любил Гасфорта, но дал хорошую гонку Скачкову и велел ему извиниться. Это повело за собой пресмешное объемистое письмо консула к генерал-губернатору, в котором он старался объяснить промах, сделанный им два месяца назад. Главною извинительною причиною выставлялось рождение консульской женой ребенка, вследствие чего отец был впопыхах и не имел возможности серьезно заниматься делами… Гасфорт, справедливо обиженный тем, что «коллежский асессор Скачков извинился лишь тогда, когда получил нагоняй из Петербурга, да и то представил доводы глупые», велел мне «написать ему бумагу на бланке за номером, по возможности краткую, но поучительную». Я и написал следующее:
«Консулу в Чугучаке, коллежскому асессору Скачкову.
На письмо вашего высокоблагородия от такого-то числа имею честь ответить, что Министерство иностранных дел было мною своевременно уведомлено о неосновательности дошедших до вас слухов о бунте в Большой киргизской орде, вторжении кокандцев, разрушении Верного и пр. И я пользуюсь случаем, чтобы сообщить вам ныне, что подобные базарные слухи нередко распространяются в Средней Азии то людьми злонамеренными, которые на это имеют свои расчеты, то легковерными, без всякого основания. Поэтому доверять им следует с осторожностью».
Вот эта-то пилюля, полученная десять лет назад, отзывалась, без сомнения, на прием меня Скачковым в 1869 году в Тяньцзине, так как он очень хорошо знал, что автором ее был я. Узнав из слов его, что сведений, мне полезных, я от него не получу, я решился не посещать его более и, по возвращении им моего паспорта, немедленно уехать в Пекин и оттуда написать одному лицу в Главном штабе о характере консульского приема. К сожалению, эта первая, самая естественная и рациональная мысль была мною потом оставлена только потому, что мне не хотелось в первых же моих сообщениях касаться личных дрязг. Скачков, впрочем, и сам догадался о невежливости своего поведения, вследствие чего на другой день сделал мне визит, просидел часа полтора и при этом вручил мне не только мой паспорт, но и открытый лист, или подорожную, для следования в Пекин, выданную от тяньцзинского губернатора. Мало того, он сообщил мне, что завтра к моим услугам будет лодка с гребцами, которая меня доставит в Тунчжоу, оттуда уже рукой подать до Пекина. Я невольно смягчился и раскланялся с консулом возможно приветливо, сообщив ему в разговоре немало интересовавших его новостей из России. Доверие восстановилось настолько, что консул вручил мне связку долларов с просьбой передать их одному лицу в Пекине, и мне казалось, что отклонить от себя исполнение этого частного поручения г. Скачкова было бы грубостью. Притом, постоянно думал я, к несимпатическим приемам дипломатов и консулов я давно готов: зачем же растравлять и без того недружелюбные отношения, конечно, во вред и моему делу, и мне самому, потому что при первом промахе с моей стороны, какого бы рода он ни был, обо мне немедленно полетели бы в Петербург многочисленные изветы, с влиянием которых я, человек одинокий, без протекций, бороться не мог.
На другой день, поутру, лодка с шестью гребцами явилась перед гостиницей, и, погрузив вещи, я тронулся в путь, сопровождаемый одним забайкальским казаком, который был прислан в консульство с почтой и теперь возвращался в Пекин. Хотя он знал говорить только по-русски и по-монгольски, но это не помешало ему немедленно вступить в командование китайскими гребцами, с которыми он и успевал как-то объясняться. Присутствие его на лодке было полезно; ибо едва мы, после множества хлопот, причиненных стоявшими вдоль обоих берегов реки джонками, подошли к плавучему мосту, связывающему город Тяньцзинь с его восточным предместьем, как один из плотов немедленно вывели в сторону, чтобы пропустить нас, тогда как десятки лодок туземцев долго ждали понапрасну этого развода моста, да и теперь не были пропущены. Четыре полицейских солдата, с толстыми бамбуками в руках, наблюдали мой проход через отверстие моста, и едва моя лодка проскользнула, как они принялись тузить по чем попало тех лодочников-туземцев, которые было сунулись в открытый проход. Выглянув из-под навеса лодки, чтобы узнать, отчего поднялись крики побиваемых, я увидел моего казака важно стоящим около рулевого в походной форме и при сабле: он мне объяснил, в чем дело.
За мостом плавание стало легче, ибо хотя число джонок на реке не уменьшалось, но хозяева их, видев, как почтительно отнеслась к нам полиция, не только не препятствовали нашему плаванию, но помогали двигаться вперед. Скоро мы дошли до места слияния Императорского канала с рекой Байхэ, в которую и повернули. Слияние это любопытно в гидрологическом отношении, ибо два потока, довольно быстрые, приходят тут с двух совершенно противоположных сторон[48]48
Северная часть системы Императорского канала образуется рекой Юнхэ, которая впадает в Байхэ, принимающую после этого название Хайхэ.
[Закрыть] и, не образовав никакого водоворота, круто поворачивают под прямыми углами в русло Хайхэ, которое очень глубоко, но мало отличается по ширине от каждого из двух составляющих. Вообще бассейн Хайхэ заслуживает серьезного изучения в гидрологическом и геологическом смысле. Реки, его составляющие, не имеют своих долин, а орошают одну равнину, в почве которой и прорыты их русла. Идешь по равнине и не догадываешься, что вблизи река, потому что оба берега последней совершенно на одном уровне, невысоки, но обрывисты и, что всего замечательнее, составлены отнюдь не из твердого камня, а из глинистого ила, или того, что Рихтгофен называет лёссом. Река промывает в нем глубокое, но обыкновенно неширокое ложе, и тут опять странность: иногда прибыль воды от дождей бывает так велика, что она разливается по соседним полям, а долины все-таки не образуются, и, по стоке избытка воды, река опять течет среди невысоких, но обрывистых берегов. Берега эти иногда так низки, что китайцы укладывают на них оси не очень больших наливных колес, которыми черпают из реки воду для отвода ее, помощью желобов, на поля. Местами, впрочем, береговой обрыв возвышается до двух-трех сажен, и тут обыкновенно стоят китайские деревни, так как на этом уровне им уже не угрожают разливы реки. В одном только месте я заметил начатки образования речной долины у Байхэ, в том смысле, что береговой обрыв уходил вдаль от русла: тут между рекой и обрывом расстилается широкое, покрытое тростником болото.
Глинистый (а отчасти и слегка известковый) ил, или лёсс, есть ли продукт одних речных наносов, или в образовании его принимала участие и пыль, приносимая ветрами с монгольских степей? – я не берусь решать, но вероятно, что и то и другое вместе. Плодородие его известно, но только и тут нужно воздержаться от решительного суждения, то есть от приписывания этого плодородия исключительно естественным качествам почвы. Искусство, то есть удобрение, разрыхление и орошение полей, значит чрезвычайно много, и мне не раз, глядя на эти китайские поля, приходило в голову: что если бы хозяева их взглянули на наши великорусские пашни? какими варварами или лентяями обозвали бы они наших крестьян! А между тем рабочий скот – быки и лошади – у китайских хлебопашцев редкость; да и употребляют они его лишь для поднятия нови или пара, а чаще для углубления распахиваемого уже слоя земли; обыкновенно же все возделывание поля есть дело рук человеческих, вооруженных лопатой и иногда киркой… Я сказал: «пара или нови», и отнюдь не оговорился: это только иезуит Риччи и его подражатели уверяют, что в Китае постоянно возделывается вся почва; на самом деле мне не раз приходилось видеть пустыри как в Чжили, то есть около Пекина и Тяньцзиня, так и в Цзянсу, вблизи Шанхая. Быть может, впрочем, виной образования этих пустырей было Тайпинское восстание {3.83}, истребившее массы народа и обратившее в пустынные развалины даже часть самого Пекина. Но кроме этих случайных пустырей есть и постоянные, особенно в местах болотистых, каменистых или там, где были кладбища. Последнее обстоятельство объясняется чрезмерным уважением китайцев к мертвым их предкам и совершенно согласно с общим строем их понятий, консервативных до косности.
Дорогой до Тунчжоу мне приходилось довольно близко наблюдать быт китайского народа, и здесь, под самой столицей Срединного царства, он совершенно тот же, что в кяхтинском Маймачене… Припоминая, что и в Сингапуре, Сайгоне, Иокогаме, то есть даже вне Китайской империи, «небесные» ее сыны остаются верными исконным своим обычаям и притом именно в силу этого единообразия жизни чувствуют себя членами одной семьи, я понял их этнографическую устойчивость, которая не имеет себе подобной нигде, кроме Англии и ее колоний. С этим антропологическим фактором должны будут считаться едва ли не десятки поколений грядущих, и он служит залогом, что китайцы, сильные притом числом, не так легко поддаются обезличивающему влиянию западной цивилизации, как, например, японцы или, еще лучше, как мы. И, признаюсь, как ни люблю я Запада, но эта устойчивость крайнего Востока меня радует. Когда обе стороны, теперь далеко отстоящие одна от другой, сблизятся, узнают друг друга, скольким хорошим вещам передовые сыны человечества научатся у отсталых теперь китайцев! Одни рабочие, промышленные и торговые товарищества китайцев дадут немало примеров для подражания людям, среди которых много, но почти втуне, работали Муры, Бриссо, Фурье, Сен-Симоны, Лассали и пр {3.84}.








