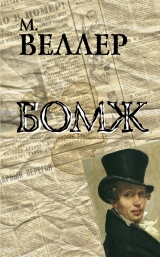
Текст книги "Бомж"
Автор книги: Михаил Веллер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Белинский
– Чего разорался, – недовольно сипит он. Сипит-то он сипит, но как выпьет и разойдется – такие речи произносит, не то соловей, не то соловей-разбойник. И все на литературу сворачивает. Он и был учителем литературы. Пока его один родитель в ухо не наладил – за двоечника. Не то колотуха у родителя была поставлена, не то уши у наших литераторов слабые и не слышат они предупреждений судьбы. Родитель его год предупреждал. А после въехал. И половина мозга у Белинского вылетела из противоположного уха. Теперь он с нами. Для нашей жизни любой половины мозга вполне достаточно.
– А угадай-ка, что это: в одно ухо влетает, в другое вылетает?
Намек его злит: всплакнет или укусит.
– Лом!.. – наставительно говорю я, он не выдерживает и хохочет вместе со мной, брызгая сквозь редкие коричневые зубы. Диковатое это зрелище – хохочущие середь людей бомжи. Энергия у нас не та, разве что на жиденькое гыгыканье хватает. Смех требует молодости, здоровья; и благополучия. Смех – это показатель общего счастья человека, а вернее даже – его жизненной перспективы.
Я заметил уже года как два или сколько-то там: вообще я отупел в поряде, и думаю о чем-то редко. Чаще или тошно, или заботы решить: выпить надо, голод как-то утолить, согреться в холод, от дождя вовремя в нору залезть или потом сушиться. Шмотки, опять же, нормальные иметь. И на глаза особо не лезть – в дезах злые суки грозят, дворники палкой метлы по голове целят, суки, матерят что мы везде ссым и срем и помойки из баков раскидываем. И жильцы случаются садисты, в лютый мороз из подъезда гонят несчастного, которому зайти некуда оказалось, наших сколько зимой мерзнет. А уснул днем на скамеечке, куда мент по дурости зашел – возьмет да оттянет дубинкой по почкам. А почки и так еле фурычут, отбить их нечего делать, и умирают потом ребята.
А вот когда выпил в меру, и живот насытил, и не болит ничего, и погода хорошая, теп лая, и заботы не грызут, – тогда счастье. И размышляешь о жизни. Неожиданно всплывают в голове знания, когда-то туда попавшие.
– В Грецию надо перебираться, – втолковывает мне Белинский (он беспрерывно болтает свое), ведя узкими дворами вдоль заборов в свой сарай. Забытая сараюшка, не снесли почему-то. Со скрипом отходит снизу край дос ки вместе с гвоздем, и мы лезем сквозь щель в его «библиотеку». Он сюда сволок деревянные поддоны от супермаркета, и пластмассовые ящики (тару от бутылок) составил на них рядами – боком, типа стеллажей. Ящики громоздились салатовые и голубые. И там у него книги. Много, разные, некоторые совсем как новые. Сейчас много книг выбрасывают. Особенно если кто умер, их среди старья и ремонтных обломков прямо в эти мусорные контейнеры, такие вроде кузовов для самосвалов, прямо по рукавам из окон ссыпают. А иногда оставляют аккуратно рядом с подъездами. Старушки у рынка их по десять-двадцать рублей продают.
Подобранную на остановке «Месть вора» Евгения Сухова Белинский аккуратно поставил рядом с Чингизом Абдуллаевым. Русские боевики, значит.
Он рехнутый, Белинский, книг от жизни не отличает. Говорит нормально, и вдруг – раз! – несет ересь нездешнюю, и смотрит при этом чистыми глазами. Чистая шизофрения. Замели бы в дурку, да там своих девать некуда. В дурке быстро превращают всех в овощей, и они гниют на койках в своих лужах, дожидаясь близкого кладбища.
– Карательная психиатрия! – неожиданно выскакивает из меня, и мы с Белинским удивленно смотрим друг на друга.
– Греция – родина Диогена, – недовольно продолжает прерванный Белинский. – Теплый климат и плодородная почва позволяют человеку пускать больше энергии на умственные процессы. Обилие пищи снижает уровень агрессии, люди там толерантнее. Греки чтят своих предков, и если мы поселимся в бочках, к нам будут хорошо относиться. Не говоря уже о том, что гений русской литературы Антон Павлович Чехов написал, что в Греции все есть. А он был очень реалистичен в деталях!
– А он не написал, как туда проехать?
– Нет. Он учил географию по учебнику. А ты?
– Что – я?
– Ты – учил географию по учебнику? В школе? Не отвечай – я угадаю! Если нет – или ты болел, или тебя украли цыгане и заставили просить милостыню. Как мало мы знаем друг о друге!.. – сокрушенно поник Белинский.
– Однажды я уже это слышал от фээсбэшника, – сказал я.
Белинский снял с полки, в смысле вытащил из ящика «Атлас мира» и раскрыл политическую карту Европы.
– Через Киев в Кишинев… – вел он ногтем, – Бухарест, София. А дальше – Греция.
– Через Киев нельзя, – предупредил я. – Там сейчас фашистская хунта.
– Когда?! – подпрыгнул Белинский. – Какая?!
– Ты что, дурак? Которая совершила кровавый переворот.
– Ужас какой… – прошептал он. – Тогда… мы пойдем через Полтаву и Черкассы. В Полтаве жил Гоголь, там нет фашистской хунты.
– Есть, – сказал я.
– Откуда?
– Из Киева.
– А… зачем она там?..
– Чтобы совершить кровавый переворот, – предположил я.
– Тогда… через Харьков и Львов.
– Там тоже хунта.
– Я не понимаю. Она что, везде? И давно? Сколько уже?
– Сколько надо, столько и хунта.
– А… у нас?.. – со страхом спросил Белинский.
– При чем тут мы? У нас, слава Богу, демократия.
– Ф-фух… – облегченно выдохнул он. – А то я уже испугался.
Отцы и дети
И тогда я делаю ошибку. Я иду погулять в наш парк. В нем желтые листья, и почти нет в начале дня людей, и танк Т-34 на постаменте. Звездочка алеет на башне. А на другой маленькой полянке, или внутреннем скверике, как сказать, куда звездой сходятся несколько аллеек, стоит гипсовый лев. Или алебастровый. Белый. Сероватый от погоды, облупившийся, конечно. К этому танку и этому льву меня водили гулять еще ребенком, только ходить начал.
Теперь я часто думаю об этой символике. Страна готовила меня к боям и победам. Воспитывала из меня солдата и повелителя. И где та страна с ее гордыми идеями? В глубокой заднице. А на самом дне этой задницы – я, верный сын своей родины. Повелитель помойки семнадцатого дома.
Я выбираю удобное место на траве, чтоб светило солнце и был виден лев. Он скалит клыки, а морда у него старая и удивительно добрая. Лежу, удобно опираясь плечами и головой на мою сумку, пристроенную к березе.
От этого льва начался мой жизненный путь. Совершил огромный, почти полувековой круг и замкнулся. Но это только кажется, что замкнулся. Когда у тебя ничего не болит, и тебе не мокро и не холодно, и ты сыт, и ничего не боишься – ты понимаешь, что еще не поздно. И силы, оказывается, еще есть. И – самое главное и удивительное! – желание есть, воля есть! Я еще поднимусь, ребята. Прорвемся. Я умею. И знаю как. И не из такого поднимались.
Злая и трезвая точка в мозгу, как мент с дубинкой среди поющей толпы, беззвучно предрекает тщету всех надежд: не в первый раз. Но злой и трезвый внутренний мент едва уравновешивает чашу весов – а на другой чаше как раз поющая толпа. И малейшее усилие сдвинет мечту к движению в реальность. Все зависит от тебя самого, вот в чем дело. Э, доводилось мне делать вещи и покруче.
…В голову попала разрывная пуля, голова взрывается! Рука оторвалась! От следующего удара я прихожу в себя. Проснулся. Меня пинают, быстро, зло! Хотя несильно. В ухо больше не попадают.
Это мелкие. Беспризорники. Промышляют. Я их добыча. Все случилось из-за сумки. Ее рвут с лямки, перекинутой через шею подмышкой.
Черная лакированная туфля с острым твердым носком бьет особенно больно. Пацанов человек шесть, на вид еще дети, и жалости они не знают. Зверенышам убить – азартная игра. Я прикрываю лицо руками, подтягивая колени к животу.
Сумка. Я заснул с сумкой. Клетчатая клеенка, как у челноков, но поменьше. У каждого вольного человека есть сумка. В ней хранится его собственность, необходимая для жизни. Куртка на поролоне, болоньевый плащ или кусок пластиковой пленки – от дождя и на подстилку, шерстяная шапочка. Еда в пакетике, ложка, нож. Пара пластиковых стаканчиков, кружки сейчас не достать. Может быть еще годный будильничек, какая-нибудь красивая безделушка на обмен. Может быть рубашка, свитер, носки-трусы практически целые.
Вот на сумки они и охотятся. Они растут, им есть надо…
Как бы не убили! Могут плеснуть бензином и поджечь. Могут полоснуть лезвием. Могут камнем по голове. Надо встать!!! Убью одного – остальные убегут.
Отдать сумку? Поздно. Они завелись всерьез. Мое счастье, что слабенькие и хилые. Дети подвалов, наркоманы. Их рваные кроссовки и боли не причиняют, только один в больших берцах бухает с размаху в ребра, как таран. А вот черная остроносая туфля так и гвоздит!
Я перехватил тонкую щиколотку выше туфли и сильно дернул. Пацан упал, я мигом дотянулся схватить его за яйца и вывернул с силой. Он взвыл и скорчился.
Двумя руками держась за березу, я сумел подняться на ноги, пряча лицо от растопыренных пальцев, которые норовили ткнуть мне в глаза. Тут лямка сумки моей наконец лопнула от рывков, и грабители мои и убийцы бежали с ней и скрылись меж деревьев.
Вот гадство. Я остался без вещей.
Поверженный враг скорчился на боку, держась за свой детский размножительный аппарат. Надо было или свернуть ему шею для спокойствия, или как-то помочь. Они злопамятные, малолетки. Замурзанный, тощий, из зажмуренных глаз слезы. А рожа исцарапана, губы сжаты. Злой мальчишка.
Курево я держал в кармане, в пачке из-под «Бонда». Не помялось. И зажигалка осталась на месте.
– Куришь, крутой бандит? – спросил я, пуская дым.
– Убью, – глухо пообещал он с земли.
Через пять минут мы сидели рядом и курили по второй.
– Зачем же вы у своего, у старика отбираете? – говорил я. – Крутые – так бомбите воздушных челов (богатых людей). Взял приемник из тачки – и живи сытно.
– А чего тебе зря пропадать? – равнодушно сказал он. – Риска нет, а навар какой-никакой. Хоть покурить, может из барахла чего найдется.
– Ты уже убивал кого-нибудь? – спросил я.
Он пожал плечами. Нормальный подросток, мальчик даже, скорее. Джинсики не такие грязные, курточка нормальная, а туфли лаковые острия тянут на мужской размер. Видно, все лучшее в шайке себе отбирает. А личико – специфическое: припухлое, под смуглостью бледность землистая просвечивает, карие глаза злые и твердые. Санитар городских джунглей, не то крысеныш, не то волчонок.
– Из-за вас все зло, из-за паразитов, – сказал он.
– От меня тебе зло? – изумился я.
– От таких, как ты. Которые бросают своих беременных баб, а бабы потом идут на панель. Вас вообще всех кастрировать – и в колонию, работать, пока не сдохнете.
– Это тебя мать научила?
– Жизнь научила. Страну прогадили, совесть прогадили, а сами не сдохли.
Развитой ребенок. Опоздал комсоргом родиться.
– Что ты в жизни видел. А ты учиться не пробовал?
– Пробовал. В интернате. Хрен я туда вернусь. Лучше сдохну.
– Да вы все быстро дохнете. Дурью дырки набьете – и дохнете.
– Тебе еще в рот не ссали, – сказал мальчик наставительно. – Тебя еще на хор не ставили. Кому ты нужен, огрызок, ты вообще жизни не видел.
– Поживи с мое, микроб, узнаешь.
– Наши столько не живут. Это вы, плесень, воняете – а за жизнь цепляетесь.
Потом мы пообещали убить друг друга при первой встрече, а потом – глядь! – по аллейке ЛГБТ наш шаркает, Петюня. Увидел нас и улыбается.
Цветы жизни
А улыбка у него, у пидораса, добрая и открытая. Отцовская такая, дружеская. Просто ходячая забота о ближнем.
– Чего ты мальчишку скуриваешь, – укорил он. – Хоть покормил бы чем.
– Они уже мной покормились. Всю сумку скоммуниздили.
– А чего ты пришел в их парк со своей сумкой? Да еще заснул, небось. Вон от тебя дух какой парфюмерный. Сам виноват, нельзя детишек в искушение вводить. Им знаешь как кушать хочется, не то что нам…
Петюня сел рядом, с другого бока пацана, и достал два мятных пряника в прозрачном пакетике:
– Угощайся, брателла. Этот зверь вообще к малолеткам жестокий, я его давно знаю.
Когда-нибудь я его, педофила поганого, убью. Вот будет настроение особенно поганое, и я его убью. Трудность в том, что вообще по жизни он кент нормальный. Подлянок не кидает. Просто крыша со сдвигом. Как мальчика увидит – так у него встает. И тут он уже собой не владеет, готов на любые жертвы и унижения.
– Легабот, – поддразниваю я, – пойдем на ферму посмотрим, как там сегодня боровков холостят?
Он даже лопатками передернул. Глянул как змея, чуть не зашипел. Да ладно, какое мое дело. Я ему подмигнул. А вообще его, конечно, стерилизовать надо. Не уколом, а реально. Чтоб писал из дырочки в ровном месте.
– У скопцов в секте, кстати, хорошо кормят, – ну не могу я удержаться. – Правда, там работать заставляют. И молиться.
Тут глаза у него белеют, и я понимаю, что он меня первый убить может.
– Погубит тебя твоя доброта, – говорю. – Нельзя же вечно лучшую хавку шакалятам раздавать.
А он тащит еще пакетик: там булочка с кремом маленькая. Подсохшая, но почти мягкая. И дальше пацану скармливает.
– А взрослый уже малец, – льстит примитивно. – Девок уже, поди, дерет! Тебя как звать, любарь-террорист?
– Андрей, – с достоинством представляется пацан.
– Стоит уже по утрянке-то, Андрей?
После крошечной паузы пацан солидно кивает и пожимает плечами: как же иначе-то, само собой, и даже излишне стоит, непрошенно. С этого бродяжья и недокорма нищего что там у него может стоять, у несчастного.
– Может, Алиску ему привести… – думает вслух Петюня. – Она всегда готова, любит это дело, а сама молодая, старые мы для нее. Да уж и смотрят у нас всех на полшестого с этой жизни, ведь отраву все пьют страшную, от нее даже фонарный столб не встанет, сами-то еле живы.
Пацан, Андрей то есть, улыбается неуверенно.
– Слышь, Пирамида, – обращается ко мне Петюня самым естественным тоном, – сходи приведи Алиску, ты ж знаешь те скамейки за летней эстрадой, где она тусуется. А мы пока покурим, точно, Андрюша?
И эта гадина достает маленький прозрачный пакетик с табаком: никакой это не табак, это смесь табака, реальной анаши и спайса; я его приколы знаю. Сворачивает аккуратную, приятно смотреть, самокрутку и предупредительно мальчишке дает из рук зализать склейку, чтоб тот не побрезговал потом, неровен час. А ведь видеть должен пацан, что там такое, не мог запах не почуять, наверняка спайсы пробовал. Но еще не въехал, что сейчас курить это ему не надо.
Петюня делает вид, что затягивается, и передает Андрею. Процесс пошел.
– Трава? – спрашивает жертва.
– Ну, отличная! – подхватывает Петюня.
– В нос как спайсом отдает.
– Чистая индийская, сынок, без примесей, не разбодяженная.
Через минуту зрачки пацана расширяются, по лицу бродит тревожная улыбка. Паук растворил мозг своей жертвы.
– Опасно здесь на открытом месте! – громко и убежденно говорит Петюня. – Менты с собаками ходят, облава! Спрятаться надо, идем быстро! Успеть надо!
Уводит пацана за куст:
– Ложись!
Тот под гипнозом, озирается невидящим лицом.
– Тебя ищут! – пугает Петюня. – Одеждой поменяться надо, в моей тебя не узнают!
Он еще велит мальчику затянуться, спускает с него джинсы и укладывает на живот. В торбочке у него всегда есть и тюбик вазелина, выдавливает прозрачную гусеницу на корявый указательный палец и смазывает свой коричневый банан, нечеловеческий какой-то, животный. Остаток с пальца сует меж бледный тощих ягодиц мальчишки и пристраивается. Когда он начинает свои втыкания и сопения, мне становится противно. Я подхожу – там рядом на сухом листе аккуратно лежит этот окурочек, охнарик на одну затяжку, – и втягивая крошечную толику дыма, совсем чуть-чуть. Для поддержания общей расплывчатости мира.
По совести – сдать надо Петюню ментам. Но это только на месте преступления эффект имеет. Петюню тут же опустят еще в СИЗО, сделают петухом, определят к параше, и на зоне он точно подохнет. И хрен бы с ним. Но мальчика-то сдадут в спецприемник! И народ обязательно узнает, что его драли в дупу! И каторга для него будет такая, что очень даже легко повеситься может. А здоровье точно отнимут, и характер на всю жизнь изуродуют. Вот такое равновесие добра и зла в природе. В человеческих джунглях.
…Видимо, одна затяжечка эта, да на утренние дрожжи, на меня все же подействовала. Потому что когда я осознал себя сидящим на жухлой траве, а спину больно подпирал неровный ствол не то липы, не то осины, – по щекам текли слезы, и печальная боль по человечеству, поголовно несчастному, заполняла мой объем точно по границе кожи, которая отграничивала мою боль от Вселенной.
В пяти шагах Петюня курил нормальный окурок с видом расслабленным и опустошенно-счастливым. Оргазм он испытал, гадина. Мальчик сидел на равном от нас расстоянии, образуя третью вершину равностороннего треугольника. Джинсы его были в порядке, губы сжаты, иногда он делал странные движения руками, будто отгонял тополиный пух.
– Хоть бы денег заплатил, фашист, – сказал он, заперхал и стал лизать сухие губы.
– Я тебя лакомствами накормил, – рассудительно возразил Петюня. – Я тебя кайфом угостил. Ты, между прочим, тоже от меня удовольствие получил.
– Чи-во-о?!
– Был бы умнее и образованней – понял бы, что получил удовольствие. Наслаждение. Бесплатно. Так с чего же мне тебе еще и деньги к этому всему давать?
Пацан Андрей встал, пошел боком и опять сел.
– Убью я тебя, – безжизненно сказал он. – И тебя убью. Обоих убью. Хоть на улице. Хоть днем. Встречу – и убью. Пику в печень суну – и сдохнете. Оба.
– Вот видишь, – поощрительно кивнул Петюня, – теперь у тебя есть цель в жизни. Это хорошо. А может – придушить мне тебя сейчас, а? Для спокойствия? И прикопать? Здесь и сейчас! А? Ты как?
Суну я ему когда-нибудь под настроение гвоздь в ухо, и спишется с меня половина всех грехов. Только с духом собраться… а то в глазах какое-то голубое мелькание…
Голубой звездолет
В космосе уходил в бесконечность застывший голубой водопад – в тысячу километров высотой и тысячу километров глубиной. И вдоль этого водопада тысячу лет в голубом звездолете летел я. И чувство полета в прекрасной и бесконечной свободе было прекрасно, и счастье это было абсолютным и нескончаемым.
Водопад искрился, и в каждой искре был мир, огромный и законченный. В этом мире все миги жизни застыли в одном времени, и можно было переходить из одного мига в любой другой сколько угодно. А в центре мира стояла огромная, как тот водопад, старинная электронно-вычислительная машина, мигая лампочками и дрожа стрелками. Машина была лишь маскировкой диспетчерского центра, а центр был похож не величественное лицо, из которого исходили лучи, и каждый луч проецировал движущуюся цветную картинку. Все эти картинки и были мгновениями, из которых складывалась моя жизнь.
Фокус в том, что этим лицом был я, и диспетчером был я, и я сам складывал свою жизнь из чего хотел. Вокруг плыл узор из прекрасных женских фигур, и это была любовь. Золотой свет подчеркивал прелесть этого живого рельефа, свет исходил из золотого нимба под их ногами, и это было богатство – легкое и неограниченное. Позади свечения угадывался огромный красочный зоопарк в тропическом саду, типа райского. И все происходило на берегу озера, золотой цвет которого объяснялся тем, что там благоухал драгоценный коньяк. И берег щетинился рядом вонзенных копий – знак верных друзей, ждущих меня.
И не успел я устыдиться потребительской вульгарности своего мира, как он проникся дрожью, стал сворачиваться в трубу и медленно вращаться по часовой стрелке, слева направо: изображения изогнулись и стали длинными, соединились в тоннель, плавным правым загибом поднимающийся вверх, стены тоннеля светились фиолетовым рыцарским светом и состояли из больших шестиугольных чешуек, скорее граненых боевых щитов, чем кедровых шишек. Я был светящимся облачком, летящим по этому тоннелю, выход впереди светился ярко, там нестерпимо сиял лучезарный, бездонный, ослепительный туман – это была пустота, но в этой пустоте содержалось абсолютно все в жизни и вообще во Вселенной. Один голос, как внутренний магнит, велел стремиться туда и познать нечто абсолютное и совершенное, что и есть цель жизни, – противоположный же голос, магнит тот же внутренний, холодея от страха велел тормозить пока не поздно: хоть это и стыдно, и манит изведать тот свет за порогом, но это – небытие, возврата не будет, смерть это.
Тогда вращение прекратилось, я лежал на кушетке, застеленной чистым бельем, а рядом на табуретке сидел профессор Калашников, друг мой Боря, и с добрым дружеским ехидством следил, как я отхожу от кайфа. Длинный, тощий и непобедимо обаятельный в своем жизнелюбивом цинизме. Он вовсе не умер и вид имел преуспевающий. Клиника его процветала.
– Как самочувствие? – поинтересовался он и положил пальцы мне на пульс.
– Отлично, – уверил я, пытаясь встать, но он меня удержал и велел не торопиться.
Я увидел свои руки и сообразил, что я нестарый, мускулистый, очень чистый и хорошо одет.
– Ну, как тебе понравился кетамин? – спросил Калашников, а я уже знал, что через девять лет он умрет от передоза. Но это просто будут говорить так, что от передоза. А на самом деле он давно знал, чем кончит, и ушел по собственной воле, легко и счастливо. А был доктор милостью Божьей, этому нельзя научиться, родиться таким надо: только посмотрит, ухмыльнется, скажет слово – и тебе уже легче, и все будет в порядке, и ничего страшного в жизни никогда с тобой не случится.








