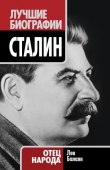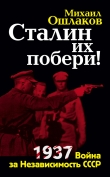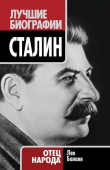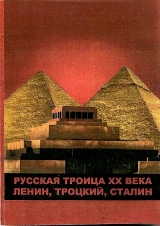
Текст книги "Русская троица ХХ века: Ленин, Троцкий, Сталин"
Автор книги: Михаил Глобачев
Соавторы: Виктор Бондарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Виктор Бондарев Михаил Глобачев
Русская Троица XX века: Ленин, Троцкий, Сталин
Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья.
Троица русского века
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем.
Мировой пожар в крови —
Господи благослови!
А. Блок
Что самое главное мы узнали за последние десятилетия о Революции и Гражданской войне?
Что случилось в России после февраля 1917 года? И что могло бы произойти?
Сегодня нам не требуется никакого сослагательного наклонения, которого будто бы «не знает история». Последние двадцать лет русской жизни дали ответы на все вопросы.
Самое простое и очевидное – мы теперь точно знаем, чем закончился большевистский эксперимент. И поскольку известен результат, постольку можно и нужно оценивать происходившее в начале. Но не это самое важное: мы также точно знаем, что Россия все время ходит по кругу.
Теперь не надо гадать, «что же это было».
А что будет?
Да то же самое! В четвертый, пятый или бог знает уже который раз!
Сталин повторяет Ивана Грозного, Горбачев поразительно схож с Керенским. Ельцин делает то, что делал Ленин… Конечно, различия есть, но они не принципиальны для судеб страны.
Не верите?
Приведем пример.
В 1925 году главный теоретик и идеолог большевизма, «любимец партии» Бухарин провозгласил «Обогащайтесь!», а через четыре года стал политическим трупом с биркой «правый уклон». Горбачев в 1986-м, когда за ним с восторгом наблюдала по телевизору вся страна, разрешил «кооперацию и индивидуальную трудовую деятельность», то есть по сути, тоже предложил советским гражданам обогащаться. К нему прислушались, и через те же четыре года перестройка перешла в необратимый процесс падения генсека.
Взлет Путина вполне объясним «Великим переломом» Сталина, и все это вместе подтверждает устойчивость русского менталитета. А вместе с тем успешное строительство в течение одной пятилетки «вертикали власти» показывает специфику российской государственности. Как в советском анекдоте: рабочие таскают детали с завода, чтобы смастерить из них что-нибудь полезное для себя, но результат домашней сборки неизменно один и тот же – автомат Калашникова.
Есть, конечно, «историческая колея», по которой русский этнос упорно, кругами движется более 700 лет – с Александра Невского. Движется по-разному: то быстро, то медленно, а то и вовсе страна переходит в галоп в гонке за лидером. Так было при Петре, а еще нагляднее это произошло в начале прошлого века. Большевики пытались заставить страну догнать и перегнать человечество на пути к светлому будущему.
Они, естественно, не знали, что бегут по кругу, а посему только на коротком участке могут обогнать конкурентов. Потом те все равно даже «пешочком» покажут догоняющим спину, поскольку у них дорога иная – вперед. Конечно, и она не пряма, и прогресс понятие относительное, в каких-то принципиальных вещах он, как принято считать, вовсе недостижим. Но все же мир прошел за последнюю тысячу лет грандиозный путь, который отрицать невозможно. И даже Россия, движущаяся по кругу, время от времени перепрыгивает на спиральную траекторию; во всяком случае, из средневековья она уже определенно ушла.
Центральными фигурами российской истории первой половины прошлого века были трое вождей: Сталин, Троцкий, Ленин. Более того, есть немало оснований, чтобы именно эту «революционную тройку» признать главными персонажами российской истории за все двенадцать веков, ее условно слагающие. В таком случае это уже Троица, в которой у каждого своя незаменимая роль. Какая? Об этом – предлагаемая книга.
Самой яркой, самой талантливой фигурой из них был, безусловно, Троцкий. Точнее – он был просто гений. Можно найти сравнения, которые адекватно выразят его роль и масштаб: например, Моцарт революции, русский Наполеон. На его фоне Ленин – это Сальери. Или Кутузов, которому отечественная история приписывает победу над Бонапартом, хотя погубила гения бессмысленность его наступления и русская зима. Самая нейтральная метафора для Сталина – Чингисхан, который сегодня, между прочим, не только национальный герой посткоммунистической Монголии, но и знаковый персонаж современной культуры. А если обратиться к вершинам советской литературы, например, к Булгакову, то видна связь тиранического с сатанинским. Но при огромных различиях в личной одаренности на судьбы человечества повлияли все трое, и в наибольшей мере, наверное, именно Сталин.
Не менее сильно разнится посмертное восприятие этих фигур. Живее всех живых, по ритуальной формуле, оказался вовсе не Ленин, а опять-таки Сталин. Хоронили его аж четырежды: в 1953 в прямом физическом смысле, в 1956 – морально, как непогрешимого вождя, затем, в 1961, культовую мумию решили спрятать с глаз под плитой у кремлевской стены; наконец, в перестройку – снова фигурально, через полное, как тогда мнилось, развенчание сталинского образа, завершившееся крахом дела всей его жизни: распадом тоталитарной империи. Однако с началом нового тысячелетия Сталин с готовностью воскрес не просто как демиург великой державы, но как «Имя России», для иных фанатов-неформалов – даже кандидат в православные святые!
Не то – Ленин. Завершив свой земной путь, он превратился по сути в неупокоенного призрака, чей мавзолейный кадавр выставлен на публичное обозрение, да и вообще в СССР он витал повсюду – и в массовом сознании как абсолютное воплощение идеи добра, и в памятниках, с позволения сказать, материальной культуры местного образца. Даже в «лихие и кошмарные» 1990-е самые либеральные публицисты порой не удерживались от дешевого соблазна обыграть эффектные приметы ленинского образа – к примеру, воспевая кипящую энергией коренастую фигуру, лысину и кепку столичного мэра Лужкова… «Вернуть Богу» мощи Ильича не удалось ни прогрессистам, ни консерваторам, но в последнее время как будто намечается тенденция, что его все-таки захоронят как губителя России, и наступит «смерть после смерти».
Происходящее же с Троцким в последние восемьдесят лет можно в пандан его любимой идее насчет революции назвать «перманентной смертью». Все это время его поливают грязью с самых различных сторон. Масштабы фальсификаций запредельны. Без всякого преувеличения можно сказать, что на его долю досталось и до сих пор достается клеветы больше, чем любому другому персонажу мировой истории. Если вспомнить размах хотя бы только подсоветских публикаций, от сочинений Ленина и его последователей до обычных школьных учебников, то счет тиражей идет на миллиарды!
К своим предшественникам Владимир Ульянов вполне мог бы причислить любого персонажа русской истории, выступавшего против власти, любого бунтаря, претендовавшего на коренные перемены русской жизни. Даже сами слова «бунтовщик» и «большевик» вполне созвучны, хотя ни один мало-мальски подкованный стихотворец не сочтет такую рифму удачной. И Пугачев, и Радищев, и Пестель, и Бакунин – все они были «большевики», ленинские предки. А вот Иосифа Джугашвили, по крайней мере, на вершине его славы, привлекала совсем другая «родословная»: Александр Невский, Иван Грозный, Петр Первый, Александр Суворов. Если же говорить о Льве Бронштейне, то он к своим предтечам мог бы отнести Моисея, Цезаря, Дантона, Наполеона.
В 1991 в России тоже случилась революция. Кто же в ней «работал Троцким»? Похоже, соразмерного ему гения эта революция не выдвинула. Наверное, команда реформаторов во главе с Гайдаром и Чубайсом стала «коллективным Троцким» конца столетия, благодаря которому страна совершила некие движения не только по кругу, но хоть чуточку по спирали.
И что теперь думает о них народ?
Революция по определению должна пожирать своих детей, и она это делает неизменно. Русские революции жрут так, что чаще всего и клочка не остается.
И бессмысленно бить тревогу по поводу каких-то вражьих искажений нашей истории XX века, поскольку в самом что ни на есть узаконенном воплощении вся она – сплошная ложь и фальшь. В лучшем случае, когда с нею работают настоящие профессионалы (каких, конечно, немало во всем мире) им мешает выбор оптики – смотрят на события, на людей кто в телескоп, кто в микроскоп. Понятно, что даже при точном следовании фактам либо «лес» не виден из-за отдельных листиков, либо он разглядывается с космических высот, что тоже не помогает приблизиться к истине.
Цель этой книги – добавить в бочку дегтя российской истории каплю истины. Поэтому не станем замахиваться ни на подробное повествование об идеях и событиях, ни на полное хронологическое описание, тем более что на такое и ста томов не хватит. Довольно будет, если авторам удалось устранить пару-другую мутных и грязных пятен.
Глава 1
Ох, вспомнит еше наша интеллигенция – это подлое племя, совершенно потерявшее чутье живой жизни и изолгавшееся насчет совершенно неведомого ему народа… Как возможно народоправство, если нет знания своего государства, ощущения его, – русской земли, а не своей только десятины! Злой народ! Участвовать в общественной жизни, в управлении государством не могут, не хотят, за всю историю. Интеллигенция не знала народа. Молодежь Эрфуртскую программу учила.
И. Бунин
Территория нелюбви
В начале 60-х годов XIX века власть Российской империи, как утверждала официальная советская историография, была паразитической и никуда не годной. Потому «давление под крышкой котла» неминуемо нарастало. Царь-реформатор обманул надежды крестьян: освобождение от крепостного права лишь усугубило тяготы их жизни, поскольку большая и лучшая часть земельных угодий осталась у помещиков. Но народ с передовой интеллигенцией – «революционными демократами» в авангарде все активнее борется за справедливость. Классовая борьба обостряется вплоть до революционного террора, и в конце концов императора Александра Второго убивают герои-народовольцы. Правда, коммунистические идеологи не отрицали того, что царь довольно-таки успешно усовершенствовал судебную систему, воинскую службу, местное самоуправление, а его гибель привела к реставрации многих косных порядков.
После 1991 года оценки поменялись на полярно противоположные. Оказалось, что великий Александр начал замечательные реформы, а те, кто с ним расправился, не дав довести дело до конца, – злобные экстремисты. Политики самых разных взглядов требовали вычеркнуть фамилии цареубийц из отечественной топонимики, а царю и его соратникам наконец воздать должное. Задача решена лишь частично – памятник Александру Второму теперь стоит в центре Москвы. Нашли героев и в пореформенной эпохе: Петр Столыпин зачислен в национальный пантеон как самый выдающийся деятель империи во все времена. Кроме них была, как выясняется, еще целая плеяда ярких личностей: талантливый финансист и дипломат Сергей Витте, мудрый Константин Победоносцев, «вовремя подморозивший» Россию, его гениальный тезка Леонтьев, все предвидевший, коллега последнего по философскому цеху Иван Ильин, все возвестивший и многие, многие другие…
Вроде бы логично, но с таким-то потенциалом – отчего же империю неотвязно преследовали поражения? Блестящие «государственные менеджеры» Витте и Столыпин трудились в совокупности два десятка лет – с 1892 по 1911, и почему все рухнуло практически сразу после них? Несмотря на отдельные впечатляющие прорывы, Россия и в экономике, и в оборонном деле, и в культурных сферах отставала от Великобритании, Франции, Германии, США, в самом конце – совершенно неожиданно не только для себя, но и для мира – даже от Японии. Национальный доход накануне мировой войны был в 8–10 раз ниже, чем в США. Эффективность крестьянского труда (а именно им жила вся страна без малого, 85 % тогдашнего населения) была чрезвычайно низкой. Периодически в разных губерниях и областях случался голод, от которого страдали миллионы сельских жителей. В чем другом, а в этом не соврали марксистско-ленинские толкователи: российское государство во второй половине XIX века действительно было самым слабым звеном в мировой цепи империализма и имело внутри себя целый букет антагонистических, то есть непреодолимых противоречий.
Важнейшее из них – конфликт между дворянством и крестьянством. Или, если взять проблему шире, между «двумя Россиями», словно бы двумя совершенно разными (и объективно чуждыми, сплошь и рядом враждебными друг другу!) народами в лоне одного и того же русского этноса. Между просвещенной частью общества и теми, кого звали простонародьем. Отмена крепостного права, конечно, переменила многое во взаимоотношениях этих классов, но решающего прогресса, а тем более общественной стабильности не принесла. Крестьянство по целому ряду причин – из-за особенностей общинного землеустройства, условий выкупа земли, из-за отсталости аграрных технологий и общей культуры, природных катаклизмов и т. п. – пребывало в перманентном кризисе. К тому же увеличился прирост населения, больше младенцев стало выживать. В деревне стремительно росло число едоков при прежней чудовищно низкой производительности труда. Горький в 1917 году сообщал об урожайности в России: с «площади 3/4 десятины наш крестьянин снимает хлеба и картофеля 20 пуд., тогда как в Японии эта площадь дает 82 пуд., в Англии 84, в Бельгии – 88» [Горький, 1990: 43].
Бухарин [Бухарин, Преображенский, 1994: 41] приводит другую подборку не менее показательных данных:
Каждая десятина давала средний урожай за период с 1901–1910 года, пудов
| рожь | пшеница | ячмень | овес | картофель | |
| Дания | 120 | 183 | 158 | 170 | |
| Голландия | 111 | 153 | 176 | 145 | 1079 |
| Англия | - | 149 | 127 | 118 | 908 |
| Бельгия | 145 | 157 | 179 | 161 | 1042 |
| Германия | 109 | 130 | 127 | 122 | 900 |
| Турция | 98 | 98 | 117 | 105 | |
| Франция | 70 | 90 | 84 | 80 | 563 |
| США | 67 | 64 | 93 | 74 | 421 |
| Россия | 50 (8 ц) | 45 (7,4 ц) | 51 (8 ц) | 50 (8 ц) | 410(66 ц) |
Очевидно, что при такой производительности русским крестьянам, в чьих руках, между прочим, были не одни бросовые суглинки, но и лучшие в Европе черноземы, никакие переделы – как внутри общин, так и «по мужицкой справедливости» в масштабах всей страны – помочь не могли. Кстати, видно отсюда еще и то, как далеко шагнуло земледелие в развитых странах, где урожай в 50 центнеров считается заурядным. А в Советском Союзе, да и в современной Российской Федерации урожайность зерновых… по существу не изменилась за сто лет!
Итак, отечественное земледелие что с крепостными, что без них неумолимо вело в тупик. Один из популярных в сегодняшней России ответов на роковой вопрос – почему мы веками живем так, как жить нельзя – примитивный географический детерминизм: дескать, широты не те и погода неподходящая для устойчивого земледелия. (А разве пресловутые английские туманы, засушливая жара центральной Испании или континентальный климат канадских прерий так уж сильно лучше для быта и хлеба?) И ладно еще, что ни один из «народных климатологов» не предлагает никаких собственно аграрных рецептов успеха – коль скоро таковые невозможны по условиям задачи. Но любопытно, что все подобные теории завершаются одинаковым выводом, вообще не связанным с сельским хозяйством как таковым: надо, мол, решительно отвергнуть все «чуждые западные ценности», особенно демократию и рынок, полностью изолироваться от мира и снова, как встарь, зажить единым, могучим колхозом имени товарища Сталина. Иначе пропадем!
Нет, совсем даже не в морозах тут дело. Пусть император Александр отменил рабскую повинность на земле и в войсках, дозволил кое-какое самоуправление и суды присяжных. Но в целом общественная система и ее политический класс законсервировались, скажем так, на уровне позднего, перезрелого феодализма. В Европе и Северной Америке меж тем давно уже свершилась промышленная революция и активно складывалось гражданское общество современного образца. А среди царских подданных мужского пола, православного исповедания и русской национальности грамотных было в 1850 году 19 % – аккурат столько Запад имел в эпоху Реформации, в XVII веке! Не случайно в России в веке XIX варварскими эксцессами сопровождались эпидемии, с которыми крестьянство не только не могло бороться, но не умело понять их причин и природы. Начальное образование сделалось общеобязательным лишь после первой русской революции, в 1908 году.
Основой основ оставалась сельская община – мать всех социализмов, когда-либо «побеждавших» в пространстве от Пном-Пеня до Ла-Паса. Что же это такое?
Если речь о дореволюционной России – это замкнутое репрессивное сообщество выморочных субъектов: полухозяев, полурабов. Имущественные права и обязанности каждому общиннику назначал так называемый мир, то есть собрание односельчан. Земельные наделы менялись с большим или меньшим постоянством, переходя из рук в руки: ни один участок никогда не становился для «держащей» его семьи полностью своим. Такой патерналистский уклад, конечно, давал его участникам определенный уровень взаимовыручки и круговой поруки (кроме тех нередких, как сказано, случаев, когда бедовать приходилось всем миром). Но он же наложил неизгладимый, как окончательно становится ясно в наши дни, отпечаток на общественные нравы и национальную психологию не только русского, но и многих других российских этносов. Именно эти исконные традиции чем дальше, тем сильнее мешают стране справляться с любыми вызовами истории.
Общинное миропонимание агрессивно отторгало все, что казалось непривычным и чужим. Люди, склонные к независимой инициативе и новшествам, либо выталкивались вон, либо кончали так, как показано в первых кадрах фильма «Андрей Рублев» – падением с колокольни в прямом или переносном смысле. В общине с ее действительно особой – казенной духовностью все должно быть «заодно, под одно» (как писал в позапрошлом веке знаток русской деревни Глеб Успенский): выделиться может только тот, кому начальство дозволило. А начальник, да и вообще каждый, кто землю не пашет, не льет на нее ведрами пот – в глазах общинника праздный нахлебник на его умученной шее. Иное понимание природы труда, как и всякую другую «баламутную» мысль, он отпихивает от себя с тупой угрюмостью или с бешеной злобой.
Потому «парень родом из народа», если сам исхитрится выбиться на начальственную или любую мало-мальски «умственную» должность, почти гарантированно превращается в настоящего тунеядца. Эти простые лица, расплывшиеся или сурово насупленные, одинаково узнаваемы на поблекших от времени постерах Политбюро и на экранах сегодняшних телевизоров.
Отсюда самый принципиальный момент. «Бездуховный» западный обыватель, планируя любой свой жизненно важный шаг, веками привык исходить из собственных возможностей – социального статуса, кошелька, свободного времени, личных умений и навыков и так далее. Типичный же россиянин как вел, так и ведет до сих пор отсчет от противного: что ему дадут сделать другие. Или не дадут ни при каких обстоятельствах. (Принцип тотальной зависимости не одних простецов обязывал, но выстраивал весь русский мир наподобие некоей несущей вертикали. Как известно, даже «наше всё», великий Пушкин много лет мечтал побывать в Европе и объективных к тому препятствий вроде нищеты, отсутствия вида на жительство или незнания иностранных языков, по всей очевидности, не имел. Но так и умер с этой мечтою, поскольку царь Николай решил назначить его невыездным.)
Соответственно, «у них» большинство нормальных людей стремится приобрести законным путем то, чего им недостает. А российская душа рано или поздно приходит к жажде истребить препоны на пути к своей мечте, причем непременно «до основанья». Именно так самым всеобщим, чуть ли не единственным массовым интересом в России сделалось отрицание существующего порядка вещей. Так сложилась, а затем в первый раз разрушила государство «партия вселенского протеста», объединившая и земледельцев, и босяков, и интеллигенцию, и немало аристократов. В конечном счете этот роковой принцип породил «негативную самоидентификацию»: несколько поколений советских людей отдавали силы, а часто и саму жизнь не ради того, чтобы обустроить свой дом, но чтобы когда-нибудь их страна смогла развалить чужие. И в наши дни «национальная гордость от противного» отзывается то одной, то другой идиотской сварой с меньшими государствами, сбежавшими из-под руки такой державы. А главное – совершенно уже бессильным, но самозабвенным до полной невменяемости антизападничеством. («Что означает сегодня быть русским? – вопрошает Александр Дугин, претендующий на роль придворного историософа. И отвечает: – Это значит быть антиамериканцем!» Генезис же ненависти к Америке, как основополагающей национальной идеи, сей мудрец выводит… аж из эпохи Киевской Руси.)
Между прочим, в тех же Соединенных Штатах народ, когда устроил у себя первую революцию, после всех бурь и невзгод добился ровно того, к чему стремился изначально. То есть независимости своей экономики от заокеанских правителей и, как следствие, быстро растущего процветания нации. Вторая гражданская война уничтожила рабство негров, и через неполных полтора столетия после нее президентом великой страны избран темнокожий политик. Да и во Франции, в Великобритании, в Италии и в «Больших Нидерландах» Тиля Уленшпигеля, нынешнем Бенилюксе, во многих других европейских странах, даже столь «новых», как Польша – цели и результаты пережитых в разные века великих потрясений совпали практически без зазоров.
У девяти из каждого десятка жителей Российской империи накануне ее краха желание было, в общем-то, одно: «Земля – крестьянам!». Много земли совершенно задаром. И еще народ мечтал о воле. Чтобы, значит, ни начальства, ни буржуев больше не было, ну а уж если без начальников совсем никак, то чтоб были все свои. Заодно и под одно! Россия «первая», огромная, инертная и косная, дошла до края в своем яростном неприятии «другой России».
В реальности получили – продразверстки, коллективизацию, голодомор и Гулаг.
Только придумали все это не Ленин, не Сталин и не Троцкий, в чем сегодня рвутся обличить каждого из них бойцы разных политических станов, с несовпадающими мотивами и приоритетами. Любой из троицы лишь использовал на собственный неповторимый манер, но с одинаковыми целями феномен, давно сложившийся в своих самых главных и неизменных сущностных чертах. Далее, как говорится, – везде.