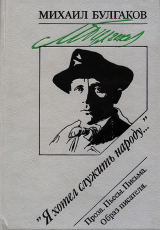
Текст книги "«Я хотел служить народу...»: Проза. Пьесы. Письма. Образ писателя"
Автор книги: Михаил Булгаков
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 68 (всего у книги 71 страниц)
Впрочем, феноменальная посмертная слава пришла к Булгакову не в одночасье. На моей памяти начиналась его вторая литературная жизнь.
В 60-е годы у многих читателей сложилось впечатление, что в нашей литературе, помимо хорошо известных лиц, чьи адреса и телефоны можно найти в справочнике Союза писателей, тайно работает еще один – и незауряднейший – современный прозаик. Книги Булгакова появлялись будто из-под земли, с малыми интервалами, одна за другой и имели нарастающий успех, каждая последующая лучше предыдущей. Мне выпала редкая удача – писать о книгах Булгакова по свежему следу, писать о нем как о современнике. В 1962 году вышла «Жизнь господина де Мольера». Потом появились «Записки юного врача» (1963), «Театральный роман» (1965) и, наконец, «Мастер и Маргарита» (1966―1967). Я откликался на эти книги рецензиями, статьями, будто на новинки живущего рядом писателя, спорил с критиками, которые пытались оттеснить его в тень. Читателей взволновала судьба Булгакова, потрясли его книги, и я стал получать от них письма. Лишь по поводу спора вокруг «Мастера и Маргариты» я получил их больше полусотни.
Об одном из писем хочу рассказать. Шли последние недели моей работы в «Новом мире», когда однажды положили мне на стол коричневую, изжеванную при пересылке бандероль, прочно увязанную шпагатом и обклеенную со всех сторон марками. Обратного адреса на бандероли не было. С тоскою подумал я, что вот еще кто-то прислал на отзыв свою работу в робкой надежде напечататься, и скорее всего понапрасну: случись даже, что рукопись хороша, я вряд ли успел бы что-либо сделать для ее автора. В бандероли, однако, оказалась не рукопись. То была книга в самодельном зеленом переплете с обтрепанными полями, карандашными пометками – читанный, видно, десятки раз и не одним читателем роман «Мастер и Маргарита», аккуратно вырезанный из старого комплекта журнала «Москва». Вместо послесловия домашний переплетчик подшил к книге мою статью о романе.
Я держал в руках трогательный читательский «конволют», как выражаются библиофилы (такие мне уже приходилось видеть), но не понимал, зачем он мне прислан, пока из книги не выпало письмо. Вот оно:
«Я не буду уже знать, получили ли Вы принадлежащее Вам (бандероль будет отправлена после меня), но если даже и нет, то все же мне легче думать сейчас об адресате неведомом, чем заведомо недостойном.
Эту книгу мне некому оставить („После тяжелой и продолжительной…“). Распорядитесь ею Вы, по своему усмотрению.
Говорят: книга – друг. Пусть так. Но для меня книга была чем-то большим. Мне книга приносила ту радость духовного единения, какую мы так тщетно стремимся получить в общении с людьми. С книгой мы до конца понимаем друг друга. Здесь гармония. Здесь восторг. Здесь что-то от кирилловских „пяти секунд“… Есть любимые писатели, любимые вещи, места… и часто возвращалась я к ним, к этому спокойному и привычному миру. Но вот – Булгаков, и все отодвинуто.
Не Вам мне рассказывать о действии на нас этой книги, но я хочу сказать: разве можно остаться равнодушным, разве можно без слез слушать: „…Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший“. Или: „…он отдался с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его…“ Или: „Навсегда!.. Это надо осмыслить…“
Так ведь это что же, это же теплое, живое сердце бьется в ваших руках! Да… Это надо осмыслить… А слова, что слова? Только пылкое наше воображение доскажет нам их. Не в том дело, что даже сам сатана предстал перед нами добрым гением. Дело в бездомновском „караул!“.
Людей ведь не убеждают ни слова, ни страдания человека… В тебе, может быть, бомба отчаяния разорвалась, а люди скажут: пьяный, что ли… Не знаю, но для меня этот „караул!“ достоин „кисти винограда“ у Достоевского…
Беспокою Вас последний раз. Желаю Вам еще долгие годы…»
Письмо заключали несколько добрых слов, обращенных ко мне лично, и подпись стояла «Е. С.» и дата: 15.XI―69 г.
Я вспомнил, что однажды уже получал письмо от этой женщины по поводу какой-то журнальной драки, в которой мне пришлось участвовать. Это была фельдшерица районной поликлиники из подмосковного городка Калининграда Е. С. Вертоградова. Посмотрел еще раз на дату – 15 ноября, а на дворе был конец декабря. Стало быть, бандероль с письмом ждала где-то, пока ее не стало. Тот, кому она доверяла, выполнил ее последнюю волю, и я получил подарок с того света. Не знаю и, наверное, не узнаю теперь никогда, какую жизнь прожила эта женщина, сколько ей было лет, отчего она умерла. Но ее любимая книга в самодельном переплете с коленкоровыми уголками осталась у меня как память о ней, окликнутой гением Булгакова и благодарно отозвавшейся ему на вершине человеческого страдания.
Благодаря ей, это подмосковной медсестре, я снова думал о романе Булгакова. О том, чего не сумел выразить и договорить в своей статье о «Мастере» и на что она предсмертным, вещим знанием мне указала. Думал о том, как сильно и пророчески, выше любых слов, связаны в теме смерти боль перехода в небытие, страх полного уничтожения и надежда на вечную память. Как хочется, наверное, уходя навсегда, удержать с собой и сохранить, конвульсивно сжав в горсти, все любимейшее на земле, победить отчаяние беспамятства, победить смерть чудом и остаться присутствовать в этой жизни пусть в виде незримого дыхания, прозрачной платоновской «тени». И может быть, правда, что безверие Ивана Бездомного и его готовность закричать «караул!» при одном приближении чуда губительнее других видов разрушения?
А еще думал я о том, что не напрасно сказал Булгаков: пусть каждому сбудется по вере его. Он верил в своих будущих читателей, как в часть второй своей жизни, знал, предчувствовал, что книгу его прочтут, особенный голос его расслышат, и эта вера не обманула его.
О «Собачьем сердце» Михаила Булгакова«Собачье сердце» – последнее значительное прозаическое произведение автора «Мастера и Маргариты», остававшееся еще не известным нашему читателю.
Повесть была написана в январе – марте 1925 года, рукопись принята в альманахе «Недра», но откладывалась от книжки к книжке, и, ожидая издания, Булгаков даже заключил с Художественным театром договор на инсценирование «Собачьего сердца». Однако постепенно менявшаяся литературно-общественная ситуация, нетерпимая агрессивность РАППа и его критиков, нападки на Булгакова, усилившиеся после премьеры в октябре 1926 года «Дней Турбиных», закрыли дорогу повести в печать. В начале 1927 года и МХАТ разорвал с Булгаковым договор на инсценировку повести. На долгие годы «Собачье сердце» осталось лежать в архиве писателя.
Теперь перед нами «московская» повесть Булгакова, очень характерная для его блистательного пера, где социальная сатира возникает на тщательно выписанном городском фоне, а в натуральнейший быт вплетена фантастика. Эта наклонность булгаковского таланта к соединению быта, фантастики и сатиры уже была отмечена первыми критиками повестей «Дьяволиада» и «Роковые яйца»; ей предстояло еще развиться в фантастически-реальном мире «Мастера и Маргариты».
Критики, в том числе В. Шкловский, оказавшийся для Булгакова плохим пророком, указывали в свое время на зависимость писателя от традиций фантастики Уэллса с его «Пищей богов». С бо́льшим основанием, пожалуй, можно было бы припомнить близкие этому жанру отечественные опыты – Ал. Толстого в «Аэлите» или Евг. Замятина в романе «Мы». Но еще вернее иметь в виду зависимость Булгакова от классической традиции, которой он следовал, разумеется, не как персту указующему, а как путеводной звезде. Назвать надо прежде всего мрачно-веселую фантастику Гоголя и сатиру Салтыкова-Щедрина.
«Мертвые души» Булгаков прочел в девятилетнем возрасте и всю последующую жизнь не мог освободиться от магии слова этого великого художника. Не случайно в одном из его рассказов 20-х годов по нэповской Москве разгуливает тень Павла Ивановича Чичикова. Что же касается Щедрина, то в писательской анкете, посвященной памяти автора «Истории одного города», Булгаков заявил: «Влияние Салтыков оказал на меня чрезвычайное, и, будучи в юном возрасте, я решил, что относиться к окружающему надлежит с иронией… Когда я стал взрослым, мне открылась ужасная истина. Атаманы-молодцы, беспутные клемантинки, рукосуи и лапотники, майор Прыщ и былой прохвост Угрюм-Бурчеев пережили Салтыкова-Щедрина». Сатирический метод Щедрина, но без его желчи, как и фантастику Гоголя, но лишенную мрачной рефлексии, Булгаков по-своему переосмыслил в своей реалистической прозе, в самобытном жанре сатирической утопии.
Современники и знакомцы Булгакова находили в «Собачьем сердце» множество узнаваемых, конкретных примет времени и среды. В чертах быта и особливом норове профессора Преображенского узнавали обиход и характер близкого родственника Булгакова, родного брата его матери Николая Михайловича Покровского, бывшего известным акушером-гинекологом в клинике знаменитого московского профессора В. Ф. Снегирева. Н. М. Покровский, кстати, подобно герою повести, и жил на углу Пречистенки и Обухова переулка (ныне угол Кропоткинской и Чистого переулка). Здесь же, неподалеку, в Обуховом переулке, обитал одно время Булгаков, рисовавший, как легко убедиться, с натуры городской пейзаж этих мест. Пречистенка тех лет была средоточием интеллигентского, художественного и профессорского круга, порой с кастово-консервативным оттенком. В переулках между Пречистенкой и Остоженкой, в арбатских закоулках Булгаков жил сам и находил своих друзей, но взгляд его на эту среду был, по преимуществу, трезво-ироническим. Живой злобой дня подсказаны в повести и приметы жилищного кризиса в Москве, создавшие эпоху «уплотнений» и призрак всемогущего домкома; и модные темы 20-х годов, обсуждавшиеся в газетах и на диспутах, – о проблемах «омоложения» и пола, толки вокруг «евгеники», сулившей ошеломляющие возможности в области «улучшения» и «исправления» несовершенной человеческой природы, опыты профессора Н. К. Кольцова и его школы.
Все это, казалось, отвечало духу коренных перемен всего уклада жизни людей, взорванного величайшей революцией, – грезились неслыханные возможности для выработки нового «человеческого материала». В свете этих исканий времени легче понять замысел писателя, возникший на вполне конкретном историческом фоне Москвы 20-х годов, но имевший в виду более крупные и долговременные по значению проблемы.
По меньшей мере две глубокие и острые мысли, развернутые в повести, пережили свое время и заставляют до сих пор читать эту вещь неотрывно, не только в силу уважения к репутации автора. Одна из них связана со странным «лабораторным существом», которого никак уж не решишься назвать человеком, – Полиграфом Полиграфовичем Шариковым. Другая – с самим профессором, «жрецом», как не раз называет его Булгаков.
В пору революционной ломки в историческое действие неизбежно втягиваются самые различные по тенденции и окраске силы. В Шарикове воплощена не демократическая, сознательная, а плебейская, низменная стихия народной жизни. По сути, Полиграф Полиграфович не имеет в себе ничего «пролетарского», кроме происхождения, которым он так кичится. Клим Чугункин, пьяница и лодырь, имевший судимости, чье сознание унаследовала уличная дворняга, это «люмпен-пролетарий» в точном смысле слова. Грубость и наглость, пьянство, воровство, лганье, доносы – все дурное словно сконцентрировалось в рожденном гением профессора фантастическом двуногом существе. Его главный интерес – не производить, а «делить», настаивать на «правах» и избегать обязательств. И какая поразительная черточка – требование себе Шариковым белого билета! «На учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом!» Но зато полная готовность занять должность по отлову котов. Великая возможность произносить членораздельные звуки поощряет Шарикова лишь к митингованию и хамской демагогии – так много ли, стало быть, стоит эта наша способность выкрикивать политические лозунги?
Грубость души и просто грубость, невоспитанность, непросвещенность – вот в чем видит Булгаков реальную угрозу строительству новой жизни и бичует это средствами изощренной, язвительной сатиры. Страшен этот недочеловек со скошенным лбом, но в цветном галстуке и лакированных ботинках, готовый вечно кого-нибудь «тяпнуть». Шариков в «должности», надевший кожаную куртку и доставляемый домой на грузовике (что за чудная деталь!), – грозное видение плебейского нахрапа, наглой вседозволенности, готовой погубить все человеческие нравственные ценности заодно с идеалами революции. И потому профессор прав, когда, пусть наивно, прекраснодушно призывает Шарикова: «Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества».
С фигурой профессора Преображенского связана другая, не менее важная сторона фантастической сатиры Булгакова. Добросовестный консерватор, и если не монархист, то по меньшей мере добропорядочный верноподданный старого режима, Преображенский тщетно борется за сохранение привычного образа жизни в большой пречистенской квартире. Он хотел бы отгородиться от «улицы», оставить нетронутыми свою «чистую» науку, независимость чужого новой власти, но сотрудничающего с ней «спеца», а вместе с тем удержать свои понятия о нравственности и даже об удобствах быта. Но себе же на погибель он создает чудовище, некоего «пролетарского Голема», способного изгадить и погубить все окрест себя. Близорукость взгляда академического ученого и непредсказуемость результатов опыта и теории, когда дело касается человеческой психики, – вероятно, в современном мире эта тема не менее, а более насущна, чем 60 лет назад, когда писалась повесть.
Вторая половина XX века открыла возможности генной инженерии, поставила тревожный вопрос о реальности злоупотреблений при вмешательстве в механизмы человеческого сознания. Я уж не говорю об изощренных роботах, рожденных притязательной кибернетикой. Если эти опасные опыты не будут ограничены высшим нравственным сознанием, результат может выйти из-под контроля ученого, и весьма вероятно, что он оглянется на свое создание с тем же гадливым изумлением, с каким смотрит Преображенский на созданное им двуногое чудовище. Вот почему еще можно не сомневаться, что повесть Булгакова будет прочитана с интересом нынешним поколением читателей.
Легко допустить, что позиция автора может вызывать различное отношение и споры. Но совершенно очевидно, что при определенных симпатиях к «жрецу» чистой науки взгляд Булгакова во многом не совпадает с позицией героя, пречистенского профессора.
В известном письме к Правительству от 28 марта 1930 года Булгаков с редкой откровенностью говорил о своих взглядах: о том, что он безусловный сторонник свободы творчества и «Великой Эволюции», что лучшим социальным слоем в стране он считает интеллигенцию и сокрушается о тех чертах «моего народа», которые «задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя Салтыкова-Щедрина». Но он искренне пытается помочь новому обществу избавиться от тех его язв, какие зорко видит.
Тут к месту вспомнить слова А. А. Фадеева о Булгакове: «И люди политики, и люди литературы знают, что он человек не обременивший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, что путь его был искренен, органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом нет ничего удивительного: хуже было бы, если бы он фальшивил».
Художественная честность и делает повесть Булгакова значительным источником реалистического познания. Но познание познанием, а есть еще и просто наслаждение читателя, ценящего ум, юмор и живую красоту русской литературной речи. Слог Булгакова прост и свободен, и это черта не только стиля, но как бы и самого художественного мышления. Вот проза, которую без тени преувеличения можно назвать «прозрачной»: сквозь слова, как сквозь неосязаемый, чистейшей воды кристалл, видны люди, их физиономии, движения, поступки. И чудесный булгаковский юмор, явственная, но беззлобная ирония прибавляют обаяния и силы жизни непринужденному рассказу.
П. Палиевский[116]116
П. В. Палиевский – критик и литературовед. Статья печатается по: Палиевский П. В. Литература и теория. – М., 1978.
[Закрыть]
Последняя книга М. Булгакова
Последняя книга М. Булгакова «Мастер и Маргарита» вышла несколько лет назад, но каждая новая рецензия на нее как будто требует другую, и не видно, чтобы положение это скоро изменилось.
Не сразу можно понять все, чем она связана с Гоголем, Достоевским, Чеховым и вообще наследием, которое в ней живет. Своим появлением эта книга вынуждает нас, наверное, и заново взглянуть на всю деятельность Булгакова, на его пьесы, первый роман «Белая гвардия», в чем-то и на состояние литературы той поры. Неизвестно даже, стоит ли сожалеть, что с выходом роман задержался. Ясно, во-первых, что он мог и подождать, пропустив вперед тех, кто торопился; во-вторых, на расстоянии, может быть, лучше видно, о чем он написан.
Из-под разных частных поводов и намеков, которых никогда не оберешься, если начать их искать, теперь яснее выступила его идея, забрезжившая, вероятно, еще в «Белой гвардии», там, где герой этого романа Алексей Турбин, пережив крушение надежд и упований на былую Россию, остается один среди своих сомнений.
«Только под утро он разделся и уснул, и во сне ему явился маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:
– Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь – страна деревянная, нищая, а русскому человеку честь – только лишнее бремя.
– Ах, ты! – вскричал во сне Турбин. – Г-гадина, да я тебя».
Хорош был этот упырь, и вопрос был им поставлен достаточно зловещий; причем непонятно даже, как можно было такое сказать. А вот ведь сказал, да так, словно что-то стукнуло и открылось: так можно было кому-то думать; а кто не предполагал этой возможности, мог многое прозевать, подобно оторопевшему Турбину, только проводившему «клетчатого» глазами. Тот ничуть не сомневался в сказанном. Он пришел – это видно было – не спорить, а спешил к делу, примериваясь, с какого конца его начать. В «Мастере и Маргарите» такая возможность ему как будто и предоставляется.
Но вот что поразительно. «Клетчатый» располагается уже в этом романе как хозяин; он действует нагло и безнаказанно; мы узнаем наконец, что это дьявол, посетивший нас «со товарищи», чтобы поживиться глумлением в полную сласть; но автор, кажется, нисколько этим не опечален. Он весел, беспечен и мил во всех описаниях шайки, за которой следит чуть не с репортерским удовольствием. Его тон спокоен и насмешлив. Отчего это?
Первая мысль, естественно приходящая в голову, – от отчаяния. Ударил себя в лоб, как пушкинский Евгений, и «захохотал». Но, кажется, здесь никакой истерии не слышно. Речь быстрая, но ровная и четкая. От равнодушия? Может быть, это уже безучастный смех над тщетой человеческих усилий, с астральной высоты, откуда и Россия-то – «тлен и суета»? Тоже как будто не так: автор в людях, им описываемых, слишком заинтересован, не отпускает их без освидетельствования, вздыхает: «Боги, боги мои…» Все их радости и огорчения готов разделить. Отчего же тогда?..
Одна подробность как будто дает пониманию первый шаг. Мы замечаем, что он посмеивается и над дьяволом. Странный для серьезной литературы XX века поворот, где дьявола привыкли уважать. У Булгакова что-то совсем не то. Он смеется над силами разложения, вполне невинно, но чрезвычайно для них опасно, потому что мимоходом разгадывает их принцип.
После первого изумления безнаказанностью всей «клетчатой» компании глаз наш начинает различать, что глумятся-то они, оказывается, там, где люди сами уже до них над собой поглумились; что они только подъедают им давно оставленное.
Заметим: нигде не прикоснулся Воланд, булгаковский князь тьмы, к тому, кто сознает честь, живет ею и наступает. Но он немедленно просачивается туда, где ему оставлена щель, где отступили, распались и вообразили, что спрятались: к буфетчику с «рыбкой второй свежести» и золотыми десятками в тайниках; к профессору, чуть подзабывшему Гиппократову клятву; к умнейшему специалисту по «разоблачению» ценностей, которого самого он, отделив голову, с удовольствием отправляет в «ничто».
Работа его разрушительна – но только среди совершившегося уже распада. Без этого условия его просто нет; он является повсюду, как замечают за ним, без тени, но это потому, что он сам только тень, набирающая силу там, где недостало сил добра, где честь не нашла себе должного хода, не сообразила, сбилась или позволила потянуть себя не туда, где – чувствовала – будет правда. Вот тут-то «ён», как говорила одна бабушка о дьяволе, ее и схватил.
Даже лица у него собственного нет. Оно всегда только сгущение свойств того, у кого он обезьянски поднабрался. Иногда только что, или давно, так что мы успели позабыть, откуда награблен его реквизит – шпаги, плащ и шляпы с пером, – вплоть до того уже трогательного момента, когда мы слышим, как дьявол, оставшись один, напевает старый романс: «скалы… мой приют…» Подхватил запетую тему и тоскует; это уже его. Но все при людях и от людей.
Кот же, его посыльный, мы чувствуем, что уж совершенно свой, прижившийся на чердаках и в коммунальных квартирах. Он симпатичен во всех своих мелких злодействиях, полезен; видно, что без него вряд ли можно было бы и обойтись. То есть он просто необходим для контроля, так как представляет все те неотвязные глупости, о которых необходимо напомнить, когда из них выкарабкиваться почему-либо перестали, – толстое их воплощение, серьезный, деловитый, домашний, вникающий в интим.
Он еще ждет своих иллюстраций, таких бы, как у Ватагина к «Маугли» или к «Онегину» Кузьмина; хотя этот стиль безусловной фантазии (именно не условной) все равно потребует чего-то нового, и увидеть его на бумаге сумеет лишь художник.
Так или иначе, но все несомненнее выступает мысль: наглецы из компании Воланда играют лишь роли, которые мы сами для них написали. Там, где положение сравнительно нормально, они гуляют на степени воробушка и кота; где помрачнее – там уже бегает глумливый и хихикающий «клетчатый» с клыкастым напарником, а где совсем тяжко – сгущается черный Воланд, уставя в эту точку пустой глаз.
Но повсюду, как ни отвратительна нечисть, остается признать, что и источник приносимых ею бедствий не в ней. Недаром несчастный поэт Бездомный, гоняясь за слугами Воланда, налетает головой на стекло, собственной головой, которой суждено лишь потом одуматься; они этим преследованиям только рады. Потому что здесь уже для преследователей совсем теряется из глаз главная, настоящая причина разрушений, сознаться в которой нелегко: собственное размахайство и наплевательство, желание во что бы то ни стало быть правым и ковырять любую ценность, как игрушку, у которой, мол, просто хитрый секрет и ничего особенного, а поломав – «туда ей и дорога», словом, то самое, что другой русский писатель определил как «мы гибнем… от неуважения себя».
Однако Булгаков никак не думал, что мы гибнем. Хотя и приходится допустить, что наглый посетитель Турбина имел для своих слов куда больше оснований, чем нам бы того хотелось, общее настроение этого романа остается иным. Именно потому, что разложению позволено здесь в разных, невидимых глазу тонкостях показать себя, раскрыться – и, однако же, ничего решающего не совершить, становится ясно, что влиянию его положены границы, которые оно может подвинуть, но не преступить. Мы присутствуем, приближены и видим, как действует эта замечательно интересная сила в целой серии образов и переменчивых лиц; как она, едва проснется подлинное, тотчас же спешит к нему присоединиться, но чуть кто зазевается – быстро его рушит, разъедает, глумится и топчет; как она ползает кругом, ища щель, обезьянствует, прикидываясь другом, и т. п. Но не больше: никогда не может ухватить она у этого подлинного его начал. И значит, всем своим коварством – только чистит, выжигает его слабость. Безжалостное исправление того, что не пожелало само себя исправить. Собственное же положение ее остается незавидным; как говорит эпиграф к книге: «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Все разоренное ею восстанавливается, обожженные побеги всходят вновь, прерванная традиция оживает и т. д.
Конечно, и источник авторского спокойствия оттуда. Он тоже издалека – соединен с началами, которых разложению не достать. Роман наполнен этим настроением, которое не выговаривается прямо, но дает ему весь его внутренний разбег.
Так уже в самом стиле этой книги мы почувствуем продолжение чего-то очень для нас важного – русской интеллигентности. Не в лицах и событиях, а в том, как автор с ними ведет себя: в голосе, составе мысли, обращении.
И не просто продолжение. С нами явно говорит интеллигент исторически иной, не тот, что спешил когда-то отдать кошелек любому встречному бродяге на призыв: «Мадмуазель, позвольте честному россиянину на пропитание… Выдь на Волгу!» – как у Чехова. Отошел этот тип. Прошло и время, когда титаны, умиляясь собственной силе, обнимались в слезах и, хватив шапкой о землю, готовы были все отдать (и отдавали); вразумление, которого требовал – тщетно – Чехов, наступило. В булгаковском стиле, интонации стало возможным осознать, хотя и трудно определить его, это отрезвление.
Вдруг мы услышали снова классический русский смех, интересно изменившийся, что-то сообразивший и мягко, но бесповоротно что-то усвоивший, укрепивший через испытания, как это всегда бывало, свое. Очень любопытно его отношение к насмешливости иного, одно время модного у нас склада, к иронии многозначительного третирования «мещан». У Булгакова она узнается в стиле сразу, но у кого, где – у Коровьева-Фагота:
«– Приношу вам тысячу извинений, какие удостоверения? – спросил Коровьев, удивляясь.
– Вы – писатели? – в свою очередь спросила гражданка.
– Безусловно, – с достоинством ответил Коровьев.
– Ваши удостоверения, – повторила гражданка.
– Прелесть моя… – начал нежно Коровьев.
– Я не прелесть, – перебила его гражданка.
– О, как это жалко, – разочарованно сказал Коровьев» и т. д.
Есть и эта ирония в булгаковском романе. Но что же: в общем складе авторской мысли она явно проигрывает, хотя и думает, что торжествует; самый способ ее – заставить дурака наступить на щетку и радоваться, как у того сыплются искры из глаз, – оборачивается в вопрос: а ну, как этот дурак опомнится, поумнеет? Даже выяснится, что он был и не дурак вовсе, а только в дурацкое положение поставлен? Что тогда?..
Да, собственный смех Булгакова совсем иной школы (об этом точно сказал, рецензируя роман в «Сибирских огнях», О. Михайлов – 1967, № 9). И дело не в том только, что он отмечает уровень смеха-глумления, а в его положительной силе: новом продолжении тех ценностей, которыми держится жизненная связь.
Силу этой идеи Булгаков доказал как будто и своей писательской судьбой.
К однотомнику «Избранной прозы», почти совпавшему с выходом романа, приложен его портрет. Впечатление то же. Такое лицо могло быть у инженера и летчика, вроде того, что было нарисовано на довоенной синей пятирублевке, – человек, который не потеряется в любом из дел. Он и писал: «Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1 Художественный театр… Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя – то прошусь на должность рабочего сцены». Можно не сомневаться, что на каждом из этих мест он был бы со своей фантазией и верностью тому, за что взялся, потому что, как он говорил: «Я очень много думал… может ли русский писатель жить вне родины, и мне кажется, что не может».
То есть иных способов стать писателем ему было не нужно, так как он был им. А трудности своей судьбы он умел преодолевать. О многом говорит то место в его «Театральном романе», где к герою, тоже писателю, обращается один, считающийся его другом, коллега: «Ну, что ж, – вздохнув почему-то, сказал Ликоспастов, – поздравляю. Поздравляю от души. И прямо скажу – ловок ты, брат. Руку бы дал на отсечение, что роман твой напечатать нельзя, просто невозможно».
Стоит спросить себя, кто герой этого «невозможного» романа. Это остается проблемой, несмотря на ясное заглавие, потому что положительная идея автора явно не желает связывать себя каким-нибудь одним именем и выражает главное в отношении. Однако и выражая, очевидно, тоже колеблется, то приближаясь, то отдаляясь от каждого и постоянно заставляя задумываться, ради кого же разворачиваются все события романа, для кого, собственно, из действующих там лиц он написан.
Для Иешуа? Может быть. Но ведь он вряд ли нуждается в этом. Иешуа нужен роману, но не роман – Иешуа. Он далеко, слишком, хотя и подчеркнуто реален. Реальность эта особая, какая-то окаймляющая или резко-очертательная: ведь нигде Булгаков не сказал «Иешуа подумал», нигде мы не присутствуем в его мыслях, не входим в его внутренний мир – не дано. Но только видим и слышим (это, конечно, исключительно сильно), как действует его разрывающий пелену ум, как трещит и расползается привычная реальность и связь понятий, но откуда и чем – непонятно, все остается в обрамлении. Мы видим только раму окна, но не то, что внутри, где слишком светло: «на правду да на солнце во все глаза не глянешь». Реальность этого образа, несмотря на всю его бытовую яркость, остается поэтому в особых границах – как попытка проверить, что бы было, если бы он был реален, и что бы тогда произошло в реальности – от вторжения высшего. Булгаков с честью выдержал встречу с этой глубиной, но Иешуа, наверное, все-таки не его герой, а только то, что можно было бы при подобном высоком предположении в жизни увидеть.
Мастер? Это не исключено, хотя не следует, по-видимому, думать, что писатель полностью на его стороне или хотел бы им быть. Не о мастерстве и не ради мастерства написан роман. Очень близко, может быть, к этому, но все же через спасительное «чуть-чуть», отгороженное иным взглядом. Это Мастер, а не М. А. Булгаков, натягивает на себя серьезно шапочку с вышитым «М»,[117]117
В. Лакшин видит в шапочке с «М» масонский знак и возможный отблеск легенды о мастере-строителе Соломонова храма («Новый мир», 1968, № 6). Само по себе это очень интересное напоминание, но, вероятно, оно лишь отдаляет Булгакова от Мастера, особенно если вспомнить, как описан в романе тот храм (точнее, его восстановленный после первого разрушения вариант).
[Закрыть] для Булгакова, к счастью, мастерство не было проблемой; его книга выделяется среди прочего и этим в самоисследующей литературе XX века. Не «роман в романе», демонстрирующий технический класс (обезьянство стилей, не забудем, отдано дьяволу), и не величественные раздумья о судьбах искусства, но что-то жизненно необходимое, еще не решенное, как раздвигающиеся полюса одной идеи, в центре которой – Россия.
Но если это так, то рискнем высказать предположение, что обращен роман все-таки больше всего к тому, над кем автор долго и неутешительно смеется, – к Ивану Николаевичу Поныреву, бывшему поэту Бездомному. Едва ли не для него разыгралась вся эта история Мастера и Маргариты.








