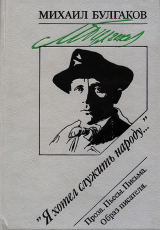
Текст книги "«Я хотел служить народу...»: Проза. Пьесы. Письма. Образ писателя"
Автор книги: Михаил Булгаков
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 62 (всего у книги 71 страниц)
Вечером
Дорогая Люси![90]90
На первой странице на полях надпись Булгакова: «В этом письме восемь страниц». (Примеч. сост.)
[Закрыть]
Сегодня от тебя письмо (12-го), открытка (13-го) и сегодняшняя телеграмма. Целую тебя крепко! Лю! Три раза тебе купаться нельзя! Сиди в тени и не изнуряй себя базаром. Яйца купят и без тебя! Ку! Ни стрихнина, ни мышьяка не надо. Любуйся[91]91
Часть письма, начиная со слова «Ку!» и кончая началом слова «Любуйся», залита тушью. (Примеч. сост.)
[Закрыть] круглым пейзажем, вспоминай меня. Много не расхаживай. Значит, здоровье твое в порядке? Ответь!
──────
Вот что интересно: почему Сергей не ответил на мое письмо с пометкой – «Секретное, одному Сергею», где я поручил ему сообщить его мнение о твоем здоровье? Неужели он его не получил?
──────
Желая тебя развлечь, посылаю тебе бытовые сценки:
I
Бабка. Звать Настасью на… экскурсию.
II
Старуха Прасковья, которая у нас служила. Требовала какие-то ее сковородки, которые она «вложила в наше хозяйство, чтобы они промаслились». Разговаривала с Настасьей, так как я в это время был занят телефоном.
III
А. П. (отделывая ноготь). Елена Сергеевна еще не соскучилась по дому?
Я. (куря, задумчиво). Да, ведь она несколько дней всего, как уехала. Пусть отдыхает.
А. П. (глядя исподлобья). Нет… как же… (пауза) Л. К. кланялась, велела сказать, что на днях придет к вам ночевать.
Я. Это очень любезно. (Помолчав и представив себе картину – я разговариваю с Дмитриевым,[92]92
В. В. Дмитриев, художник МХАТа.
[Закрыть] – Настасья спит у Сергея, а на рояле спит старуха.) Кланяйтесь ей! (Про себя.) Это надо пресечь!..
IV
Отчаянные крики Л. К. в телефон: «Поздравляю! Поздравляю! Поздравляю! Телеграмму послали?!»
Берусь за сердце. Чудо? «Бег»? «Что такое, Л. К.?»
Крики усиливаются: «Константина! Константина! Константина и Елены! Телеграмму!»
«Ах, вы говорите про именины? Да ведь они уже были недавно. Я поздравлял!»
Вопли: «Нет! Телеграмму! Нет! Не было! Константина! Не было! Константина! Телеграмму! От меня тоже! Константина!»
«Л. К.! А. П. передавала, что вы хотели прийти ночевать? Зачем вам беспокоиться?»
Внезапное гробовое молчание в трубке. Потом крайне смущенный и раздраженный голос: «Это А. П. все врет. Ходит по квартирам и врет на меня… Если вы меня вызываете, это другое дело!»
V
Sist. (радостно, торжественно).[93]93
Sist, S – О. С. Бокшанская.
[Закрыть] Я написала Владимиру Ивановичу о том, что ты страшно был польщен тем, что Владимир Иванович тебе передал поклон.
Далее скандал, устроенный мною. Требование не сметь писать от моего имени того, чего я не говорил. Сообщение о том, что я не польщен. Напоминание о включении меня без предупреждения в турбинское поздравление, посланное из Ленинграда Немировичу.
Дикое ошеломление S. от того, что не она, а ей впервые в жизни устроили скандал. Бормотание о том, что я «не понял!» и что она может «показать копию».
VI
Sist. (деловым голосом). Я уже послала Жене письмо о том, что я пока еще не вижу главной линии в твоем романе.
Я (глухо). Это зачем?
Sist. (не замечая тяжкого взгляда). Ну, да! То есть, я не говорю, что ее не будет. Ведь я еще не дошла до конца. Но пока я ее не вижу.
Я (про себя)˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙!
15. VI
Утром
Ку![94]94
Это слово залито тушью. (Примеч. сост.)
[Закрыть] Я слышал, что ты держалась обыкновения сжигать письма. Если ты теперь отступила от этого обычая, то, во всяком случае, я надеюсь, что мои писания не лежат на буфете рядом с яйцами? Мое желание – беседовать с тобою одной. Кстати: непонятное молчание Сергея наводит меня на мысль о том, все ли мои письма получены. Например, письмо с маленькой выпиской из словаря о Хелиантусе? Ответь.[95]95
На полях листа надпись Булгакова: «Ку, жду карточку с надписью!» (Примеч. сост.)
[Закрыть]
──────
Передо мною 327 машинных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро переписка закончится. Останется самое важное – корректура (авторская), большая, сложная, внимательная, возможно с перепиской некоторых страниц.
«Что будет?» – ты спрашиваешь. Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего.
──────
Свой суд над этой вещью я уже совершил, и, если мне удастся еще немного приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной в тьму ящика.
──────
Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно.
──────
Моя уважаемая переписчица очень помогла мне в том, чтобы мое суждение о вещи было самым строгим. На протяжении 327 страниц она улыбнулась один раз на странице 245-й («Славное море…»). Почему это именно ее насмешило, не знаю. Не уверен в том, что ей удастся разыскать какую-то главную линию в романе, но зато уверен в том, что полное неодобрение этой вещи с ее стороны обеспечено. Что и получило выражение в загадочной фразе: «Этот роман – твое частное дело» (?!). Вероятно, этим она хотела сказать, что она не виновата.
──────
Воображаю, что она будет нести в Лебедяни, и не могу вообразить, что уже несет в письмах!
──────
Ку! Нежно целую тебя за приглашение и заботы. Единственное радостное мечтание у меня – это повидать тебя, и для этого я все постараюсь сделать. Но удастся ли это сделать, не ручаюсь. Дело в том, Ку, что я стал плохо себя чувствовать и, если будет так, как, например, сегодня и вчера, то вряд ли состоится мой выезд. Я не хотел тебе об этом писать, но нельзя не писать. Но я надеюсь, что все-таки мне станет лучше, тогда попробую.
О том, чтобы Женя меня сопровождал, даже не толкуй. Это меня только утомит еще больше, а ты, очевидно, не представляешь себе, что тебе принесет ослепительное сочетание – Сережка, Санька и Женька, который, несомненно, застрянет в Лебедяни. Нет, уж ты себя отдых не срывай.
Остальное придумано мудро: обедать вместе с компанией – нет! нет! А с S. – даже речи быть не может. Пусть Азазелло с S. обедает!
──────
Ах, чертова колонка! Но, конечно, и разговору не пойдет о том, чтобы я вызывал Горшкова или вообще возился бы с какими-нибудь житейскими делами. Не могу ни с кем разговаривать.
──────
Эх, Кука, тебе издалека не видно, что с твоим мужем сделал после страшной литературной жизни последний закатный роман.
Целую крепко!
Твой М.[96]96
На последней странице на полях надпись Булгакова: «Як. Л. показывал мне расписание. Теперь есть удобный поезд с мягким вагоном? № 43 и обратно 44? Есть? Проверь?» (Примеч. сост.)
[Закрыть]
Дорогая Люси!
Твои письма и открытки получены.
──────
Купик дорогой! Первым долгом плюнь ты на эту колонку! Мне Настасья ничуть не поможет, если на мою голову приведет Горшкова! Привести я его и сам могу, а разговаривать с ним не могу (колонку надо ставить новую, по-видимому).
──────
Вообще, не думай, друг мой, что письмами издалека можно что-нибудь наладить. Ничего из этого не выйдет, поэтому не ломай головы над пустяками. Занимайся Жемчужниковым![97]97
Слово «занимайся» и большая часть фамилии «Жемчужников» залиты тушью. А. М. Жемчужников (1821―1908), русский поэт, один из авторов «Сочинений Козьмы Пруткова».
[Закрыть]
──
О нездоровьи своем я написал лишь потому, чтобы объяснить тебе, что я, может быть, не в состоянии буду выехать в Лебедянь.
Но ради всего святого, не придумывай ты мне провожатых! Пощади! То был Евгений! Теперь – Лолли!![98]98
Е. И. Буш, немка, воспитательница сыновей Е. С. Булгаковой.
[Закрыть] Ничего они мне не помогут, а только помешают этой поездке!
Сегодня вечером меня будет смотреть Марк Леопольдович. Тогда все станет пояснее.
──────
Стенограмма:
S. (тревожно). Ну! Ну! Ну! Что ты нудишься?
Я. Ничего… болит…
S. (грозно). Ну! Ну! Ну! Ты не вздумай Люсе об этом написать!
Я. А почему?.. Не вздумай?
S. Ну, да! Ты напишешь, Люся моментально прилетит в Москву, а мы тогда что будем делать в Лебедяни! Нет, уж ты, пожалуйста, потерпи!
──────
У меня сделалась какая-то постоянная боль в груди внизу. Может быть, это несерьезное что-нибудь.
──────
Ты недоумеваешь, когда S. говорит правду? Могу тебе помочь в этом вопросе: она никогда не говорит правды.
В частном данном случае вранье заключается в письмах. Причем это вранье вроде рассказа Бегемота о съеденном тигре, то есть вранье от первого до последнего слова.
Причина: зная твое отношение к роману, она отнюдь не намерена испортить себе вдрызг отдых под яблоней в саду. Я же ей безопасен, поэтому горькая истина сама собою встанет в Москве.
Но зато уж и истина!!
К сожалению, лишен возможности привести такие перлы, из которых каждый стоит денег (и, боюсь, очень больших денег!).
──────
Но довольно об этом! Один лишь дам тебе дружеский совет: если тебя интересует произведение, о котором идет речь (я уже на него смотрю с тихой грустью), сведи разговоры о нем к нулю. Бог с ними! Пусть эти разговоры S. заменит семейно-фальшивым хохотом, восторгами по поводу природы и всякой театральной чушью собачьей. Серьезно советую.
──────
Вообще, я тут насмотрелся и наслушался.
──────
Ку! Какая там авторская корректура в Лебедяни! Да и «Дон-Кихот» навряд ли. О машинке я и подумать не могу!
Если мне удастся приехать, то на короткий срок. Причем не только писать что-нибудь, но даже читать я ничего не способен. Мне нужен абсолютный покой (твое выражение, и оно мне понравилось). Да, вот именно абсолютный! Никакого «Дон-Кихота»[99]99
Пьеса М. А. Булгакова по роману М. Сервантеса.
[Закрыть] я видеть сейчас не могу. […][100]100
Далее тушью вымарано три строки. Можно разобрать лишь начало первой фразы: «Вот только Жемчужниковым спасаюсь…» (Примеч. сост.)
[Закрыть]
Целую прекрасную, очаровательную Елену!
Твой М.
Р. S. Вот роман! Сейчас стал рвать ненужную бумагу и, глядь, разорвал твое письмо!! Нежно склею. Целую.[101]101
На последней странице на полях надпись Булгакова: «В этом письме [шесть страниц] (ошибка) четыре страницы».
[Закрыть]

Образ писателя
(Воспоминания, страницы критики, статьи)
Э. Миндлин[102]102
Э. Л. Миндлин (1900―1980) – русский советский писатель. Очерк печатается по: Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988.
[Закрыть]
Молодой Булгаков
IАлексей Толстой жаловался, что Булгакова я шлю ему мало и редко. «Шлите побольше Булгакова!»
Но я и так отправлял ему материалы Булгакова не реже одного раза в неделю. А бывало, и дважды. С 1922 года Алексей Николаевич Толстой редактировал еженедельные «Литературные приложения» к берлинской русской газете «Накануне».
Однако, когда я посылал Толстому фельетон или отрывок из какого-нибудь большого произведения Михаила Булгакова, материал этот не всегда доходил до редакции «Литературных приложений»: главная редакция ежедневной газеты нередко «перехватывала» материалы Булгакова и помещала их в «Накануне».
С «Накануне» и началась слава Михаила Булгакова.
Вот уж не помню, когда именно и как он впервые появился у нас в респектабельной московской редакции. Но помню, что, еще прежде чем из Берлина пришла газета с его первым напечатанным в «Накануне» фельетоном, Булгаков очаровал всю редакцию светской изысканностью манер. Все мы, молодые, чья ранняя юность совпала с годами военного коммунизма и гражданской войны, были порядочно неотесанны, грубоваты либо нарочито бравировали навыками литературной богемы.
В Булгакове все – даже недоступные нам гипсово-твердый, ослепительно свежий воротничок и тщательно повязанный галстук, не модный, но отлично сшитый костюм, выутюженные в складочку брюки, особенно форма обращения к собеседникам с подчеркиванием отмершего после революции окончания «с», вроде «извольте-с» или «как вам угодно-с», целованье ручек у дам и почти паркетная церемонность поклона, – решительно все выделяло его из нашей среды. И уж конечно, конечно, его длиннополая меховая шуба, в которой он, полный достоинства, поднимался в редакцию, неизменно держа руки рукав в рукав!
Заведующему финансами московской редакции С. Н. Калменсу невообразимо импонировали светские манеры Булгакова. И так как при этом тридцатилетний Михаил Афанасьевич сразу зарекомендовал себя блистательным журналистом, то, скуповатый со всеми другими, прижимистый Калменс ни в чем ему не отказывал.
Открылась первая Всероссийская сельскохозяйственная выставка на территории бывшей свалки – там, где сейчас Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.
Все мы писали тогда о выставке в московских газетах. Но только Булгаков преподал нам «высший класс» журналистики.
Редакция «Накануне» заказала ему обстоятельный очерк. Целую неделю Михаил Афанасьевич с редкостной добросовестностью ездил на выставку и проводил на ней по многу часов.
Наконец изучение завершилось, и Булгаков принес в редакцию заказанный материал. Это был мастерски сделанный, искрящийся остроумием, с превосходной писательской наблюдательностью написанный очерк о сельскохозяйственной выставке. Много внимания автор сосредоточил на павильонах – узбекском, грузинском – и на всевозможных соблазнительных национальных напитках и блюдах в открытых на выставке чайхане, духане, шашлычной, винном погребке и закусочных под флагами советских среднеазиатских и закавказских республик. Никто не сомневался в успехе булгаковского очерка в Берлине. И даже то, что особенно много места в этом очерке уделено аппетитному описанию восточных блюд и напитков, признано было очень уместным и своевременным. Ведь эмигрантская печать злорадно писала о голоде в наших национальных республиках!
Очерк я отправил в Берлин, и уже дня через три мы держали в Москве последний номер «Накануне» с очерком Булгакова[103]103
Очерк «Золотистый город» («Накануне», 1923, 30 сентября, 5, 12, 14 октября).
[Закрыть] на самом видном месте.
Наступил день выплаты гонорара. Великодушие Калменса не имело границ: он сам предложил Булгакову возместить производственные расходы: трамвай, билеты. Может быть, что-нибудь еще, Михаил Афанасьевич?
Счет на производственные расходы у Михаила Афанасьевича был уже заготовлен. Но что это был за счет! Расходы по ознакомлению с национальными блюдами и напитками различных республик! Уж не помню, сколько там значилось обедов и ужинов, сколько легких и нелегких закусок и дегустаций вин! Всего ошеломительней было то, что весь этот гомерический счет на шашлыки, шурпу, люля-кебаб, на фрукты и вина был на двоих.
На Калменса страшно было смотреть. Он производил впечатление человека, которому остается мгновение до инфаркта. Белый как снег, скаредный наш Семен Николаевич Калменс, задыхаясь, спросил – почему же счет за недельное пирование на двух лиц? Не съедал же Михаил Афанасьевич каждого блюда по две порции!
Булгаков невозмутимо ответил:
– А извольте-с видеть, Семен Николаевич. Во-первых, без дамы я в ресторан не хожу. Во-вторых, у меня в фельетоне отмечено, какие блюда даме пришлись по вкусу. Как вам угодно-с, а произведенные мною производственные расходы покорнейше прошу возместить.
И возместил! Калменс от волнения едва не свалился, даже стал как-то нечленораздельно похрипывать, посинел. И все-таки возместил. Булгакову не посмел отказать.
Урок нам, молодым, был преподан. Но, признаться, никто из нас не отважился воспользоваться соблазном булгаковского урока.
На Булгакова с этого дня мы смотрели восторженно.
Он вообще дивил нас своими поступками.
Появилась моя статья в «Накануне». Редакция напечатала ее двумя подвалами – «Неосуществленный Санкт-Петербург».
Когда я утром пришел в редакцию, Булгаков уже сидел в глубине одной из редакционных кабин. При моем появлении поднялся и с церемонным поклоном поздравил меня с «очень удачной», по его мнению, статьей в «Накануне».
Потом оказалось, что я не единственный, ради которого он специально приходил в редакцию, чтобы поздравить с удачей.
Всякий раз, когда чья-нибудь статья или рассказ вызывали его одобрение, Булгаков считал своим долгом пораньше прийти в редакцию, усаживался на узкий диванчик в кабинете и терпеливо дожидался появления автора, чтобы принести ему поздравления.
Делал он это приблизительно в таких выражениях:
– Счел своим приятнейшим долгом поздравить вас с исключительно удачной статьей, которую имел удовольствие прочитать-с.
Булгаков печатался в «Накануне», как и Валентин Катаев, чаще других. Печатали его всегда с большой охотой. Он и Катаев были самыми любимыми авторами читателей «Накануне».
В «Литературных приложениях» к «Накануне» Булгаков опубликовал отрывки из «Записок на манжетах». Был напечатан и «„Багровый остров“. Роман тов. Жюля Верна. С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков». И многое другое. «Багровый остров» впоследствии он переделал в пьесу для Камерного театра.
IIФельетоны Булгакова в «Накануне» очень быстро привлекли к автору внимание московских читателей, а стало быть, и издателей. Булгакова стали приглашать в другие издания. Печатала его и «Россия». В «России» появился его роман «Белая гвардия», переделанный им в пьесу «Дни Турбиных».
Каким-то издателям пришла в голову мысль пригласить Булгакова на пост секретаря редакции нового литературного журнала. Не помню, как должен был называться этот журнал. Редакция была создана, Булгаков стал ее полноправным хозяином и, разумеется, привлек всех нас к сотрудничеству. Редакция помещалась там, где сейчас кассы Большого театра, – рядом с Центральным детским театром.
Мы пришли – Слезкин, Катаев, Гехт, Стонов, я… Булгаков поднялся нам навстречу и, прежде чем приступить к переговорам о задачах журнала, жестом гостеприимного хозяина указал на стол. Черт возьми! Мы не привыкли к такому приему в редакциях. На столе стояли стаканы с только что налитым горячим крепким чаем – не меньше чем по два куска настоящего сахара в каждом стакане! Да, товарищи, – сахара, а не сахарина, от которого мы отнюдь еще не отвыкли в те времена! Но что там чай с сахаром! Возле каждого стакана лежала свежая французская булка! Целая французская булка на каждого человека!
Не помню, состоялась ли в тот раз беседа о журнале, но булки были съедены все до единой.
Редакция булгаковского журнала всем очень понравилась. Уже на следующий день всю молодую (стало быть, не больно сытую) литературную Москву облетело радостное известие: Михаил Булгаков в своей новой редакции каждому приходящему литератору предлагает стакан сладкого чая с белой булкой!
Отбою не было в этой редакции от авторов. Вскоре кое-кто сообразил, что можно ведь приходить и по два раза в день – булки будут выданы дважды. Через несколько дней издатели спохватились и каждому приходящему стали предлагать чай с половиной булки. А недели через две или три незадачливая редакция прекратила свое существование. Бог весть, сколько булок и сахару было скормлено молодым литераторам, но журнала так и не увидел никто.
Не было похоже, что Михаил Афанасьевич очень огорчился печальной судьбой так и невышедшего «своего» журнала. Конечно, теперь – прощай секретарское жалованье! Придется Булгакову снова «приналечь» на злободневные фельетоны. Но зато и времени больше останется – «для себя». А «для себя» – это значило для серьезной писательской работы. Он не раз проговаривался, что пишет роман. Большой, современный. Но когда его спрашивали: «Михаил Афанасьевич, как роман? Пишется-движется?» – Булгаков жаловался, что времени на роман ему не хватает.
Он был значительно старше всех молодых «накануневцев». Как-то мы разговорились о возрасте, – оказалось, что в том году, когда я только поступил в первый класс, Булгаков уже оканчивал гимназию.
С точки зрения двадцатидвухлетнего юноши «четвертый десяток» Булгакова казался почтенным возрастом, хотя этот четвертый десяток Михаил Афанасьевич едва только начал. Сам он очень серьезно относился к своему возрасту – не то чтобы годы пугали его, нет, он просто считал, что тридцатилетний возраст обязывает писателя. У него даже была своя теория «жизненной лестницы». Он объяснял ее мне, когда мы шли с ним в зимний день по Тверскому бульвару – он в длиннополой и узкоплечей шубе на теплом меху, я в своей куртке мехом наружу.
У каждого возраста – по этой теории – свой «приз жизни». Эти «призы жизни» распределяются по жизненной лестнице – все растут, приближаясь к вершинной ступени, и от вершины спускаются вниз, постепенно сходя на нет.
Много лет спустя – уже в тридцатые годы – я вспоминал эту булгаковскую теорию. Однажды пришел к нему – и вижу: в узком его кабинете на стене над рабочим столом висит старинный лубок. На лубке – «лестница жизни» от рождения и до скончания человека. Правда, человек, сначала восходящий по лестнице, а потом нисходящий по ней, был отнюдь не писатель. Был он, по-видимому, купец – в тридцать лет женатый владетель «собственного торгового дела», в пятьдесят – на вершине лестницы знатный богач, окруженный детьми, в шестьдесят – дед с многочисленными внуками – наследниками его капитала, в восемьдесят – почтенный старец, отошедший от дел, а еще далее – «в бозе почивший», в гробу со скрещенными на груди восковыми руками…
Булгакову очень нравился этот лубок. Неважно, что на лубке восхождение и нисхождение жизни купца. Можно ведь этак представить и жизнь писателя: в тридцать лет написал роман, в пятьдесят достиг признания, в шестьдесят много и широко издается…
Но Булгаков и до полных пятидесяти не дожил, при жизни никогда не издавался много. Только спустя четверть века после кончины начал обретать заслуженное признание…
В двадцатые годы лишь ограниченный круг людей по-настоящему ценил его огромный талант.
Роман, над которым работал Михаил Афанасьевич, назывался «Белая гвардия». Он печатался в журнале «Россия» в 1925 году. Но печатанье его оборвалось, – журнал закрылся, не успев напечатать последней части романа.
Но и недопечатанный роман привлек внимание зорких читателей. МХАТ предложил автору переделать его «Белую гвардию» в пьесу. Так родились знаменитые булгаковские «Дни Турбиных». Пьеса, поставленная во МХАТе, принесла Булгакову шумную и очень нелегкую славу. Спектакль пользовался небывалым успехом у зрителей. Но печать взяла его, как говорится, в штыки. Чуть ли не каждый день то в одной, то в другой газете появлялись негодующие статьи. Карикатуристы изображали Булгакова не иначе как в виде белогвардейского офицера. Ругали и МХАТ, посмевший сыграть пьесу о «добрых и милых белогвардейцах». Раздавались требования запретить спектакль. Десятки диспутов были посвящены «Дням Турбиных» во МХАТе. На диспутах постановка «Дней Турбиных» трактовалась чуть ли не как диверсия на театре. Запомнился один такой диспут в Доме печати на Никитском бульваре. На нем ругательски ругали не столько Булгакова (о нем, мол, уже и говорить даже не стоило!), сколько МХАТ. Небезызвестный в ту пору газетный работник Грандов так и сказал с трибуны: «МХАТ – это змея, которую советская власть понапрасну пригрела на своей широкой груди!»
Что же так возмутило тогдашних ненавистников «Дней Турбиных»? Сегодняшнему зрителю и читателю трудно это понять. Да, в пьесе Булгакова показаны милые и добрые люди – русские интеллигенты в рядах белой гвардии. И пьеса доказывала, что, несмотря даже на этих симпатичных людей, на их доброту, благородство, душевность, патриотизм, – несмотря даже на них! – белогвардейское дело обречено исторически. Но в то время этого в пьесе не замечали. Не видели.
Спектакль был превосходен. Как позабыть очаровательного Лариосика в исполнении юношески хрупкого Яншина!
Более других неистовствовал видный в Москве журналист Орлинский. В короткий срок этот человек прославился своими фанатичными выступлениями против Булгакова и его пьесы «Дни Турбиных».
Орлинский не только призывал на страницах газет к походу против «Дней Турбиных», но подобными призывами заканчивал каждую из бесчисленных речей на антибулгаковских диспутах.
Михаил Афанасьевич избегал посещать эти диспуты. На некоторые его приглашали, он обычно отказывался. Однако имя Орлинского так приелось ему, он уже столько наслышался о своем лютом противнике, что однажды не выдержал и, как всегда, светски подобранный, одетый безукоризненно, явился на диспут, где ораторствовал Орлинский.
Диспут состоялся в здании театра Мейерхольда на Триумфальной площади, теперь площади Маяковского.
Появление автора «Дней Турбиных» в зале, настроенном в большинстве недружелюбно к нему, произвело ошеломляющее впечатление. Никто не ожидал, что Булгаков решится прийти. Послышались крики: «На сцену! На сцену его!»
По-видимому, не сомневались, что Булгаков пришел каяться и бить себя кулаками в грудь. Ожидать этого могли только те, что не знал Михаила Афанасьевича.
Преисполненный собственного достоинства, с высоко поднятой головой, он медленно взошел по мосткам на сцену. За столом президиума сидели участники диспута и среди них готовый к атаке Орлинский.
Булгаков спокойно слушал ораторов, как пытавшихся его защищать, так и старых его обвинителей во главе с Орлинским.
Наконец предоставили слово автору «Дней Турбиных». Булгаков начал с полемики, утверждал, что Орлинский пишет об эпохе Турбиных, не зная этой эпохи, рассказал о своих взаимоотношениях с МХАТом. И неожиданно закончил тем, ради чего он, собственно, и пришел на диспут.
– Покорнейше благодарю за доставленное удовольствие. Я пришел сюда только затем, чтобы посмотреть, что это за товарищ Орлинский, который с таким прилежанием занимается моей скромной особой и с такой злобой травит меня на протяжении многих месяцев. Наконец я увидел живого Орлинского. Я удовлетворен. Благодарю вас. Честь имею.
Не торопясь, с гордо поднятой головой, он спустился со сцены в зал и с видом человека, достигшего свой цели, направился к выходу при оглушительном молчании публики.
Шум поднялся, когда Булгакова уже не было в зале.








