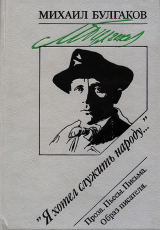
Текст книги "«Я хотел служить народу...»: Проза. Пьесы. Письма. Образ писателя"
Автор книги: Михаил Булгаков
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 66 (всего у книги 71 страниц)
Давно было замечено, что в биографии Булгакова есть таинственные недоговоренности, провалы и неразгаданные совпадения. Некоторые из них относятся к странному чувству связи его судьбы с личностью человека в усах и с трубкой, портрет которого был знаком каждому. Елена Сергеевна, при всей своей неортодоксальности, не разрешала о нем говорить дурно, и это была одна из немногих тем, разделявших нас. Ею был бережно храним составленный ее покойным сыном Женей список «врагов Булгакова» – критиков, редакторов, драматургов, деятелей общественной нивы. Но даже помыслить было нельзя, чтобы в этом списке оказалось имя человека с портрета. Он был могучей силой, злой силой, но относился к Булгакову, так по крайней мере считала Елена Сергеевна, если не с сочувствием, то с уважением и тайным любопытством. Похоже, что так же временами думал и сам Михаил Афанасьевич.
Кабала святош преследовала Мольера, тогда как от короля еще можно было ждать нечаянной милости ему. Тщетно было бы искать в этом булгаковском мотиве исторической истины. Скорее тут было иррациональное чувство самоуспокоения, инстинктивных поисков защиты. Ведь и демон зла – Воланд мог помочь восстановить справедливость… Так или иначе, но Булгаков думал, что Вождь помнит о нем, интересуется им, и навсегда был благодарен ему за телефонный звонок в ответ на свое отчаянное письмо Правительству. В самом деле, ведь не каждый день и не всякому советскому писателю, а тем более уничтоженному печатью и общественностью, звонит на квартиру лично Генеральный секретарь.
Сопоставление рядом лежащих дат бросает неожиданный свет на этот эпизод булгаковской судьбы.
Булгаков отправил письмо в Кремль 28 марта 1930 года. Письмо это было – крик полузадушенного человека. В 1929 году пьесы его были сняты повсюду, и вскоре в выступлении на XVII губернской партконференции драматург Владимир Киршон вел уже борьбу не с самим списанным со счета Булгаковым, а с «подбулгачниками». (В накале борьбы с кулаками и подкулачниками слово было рассчитано на мгновенный классовый рефлекс). К весне 1930 года, лишенный, по его выражению, «огня и воды», Булгаков дошел до погибельного отчаяния. Он искал любую работу, пробовал наниматься рабочим, дворником – его не брали. Он стал думать о том, чтобы застрелиться, носил с собой револьвер. Другим возможным исходом была эмиграция, путь, проделанный позднее Евгением Замятиным, которого Булгаков сам, в числе немногих, провожал в 1932 году на вокзальном перроне: с Замятиным он был близок и лично, и по литературе, что еще никто не взялся исследовать.
Чтобы понять настроения Булгакова той поры, мало иметь в виду наглядную историю его отреченных пьес и книг. Еще в конце 20-х годов у него был произведен обыск, изъяты все рукописи, дневники. Булгаков подал тогда заявление, где писал, что, если его литературные работы не будут ему возвращены, он больше не может считать себя литератором и демонстративно выйдет из Всероссийского союза писателей (был такой предшественник ССП). Его пригласили на Лубянку. Перед следователем лежало заявление Булгакова. Указывая на ящики своего письменного стола, следователь сказал, что все тетради Булгакова лежат здесь. Ему вернут его бумаги, если он заберет свое заявление и не будет о нем вспоминать. Булгаков ушел, неся в кармане заявление, а в руках – пачки исписанных им тетрадей. Придя домой, он бросил дневники, которые вел с 1921 года, в печь. Больше он никогда не вел дневников.
Надо ли удивляться тому бесстрашно-откровенному и исполненному достоинства слогу, каким дышит письмо Правительству. Булгаков просил правительство «приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР» или же – «дать мне работу по специальности». «Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя – я прошусь на должность рабочего сцены».
В таком письме не могло быть и тени неправды. Елена Сергеевна рассказывала, что, перечитывая письмо перед отправкой, Булгаков споткнулся о фразу: «…лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе…» «Но ведь это неправда, одна тетрадь осталась. Если захотят проверить, то узнают, что я сжег не все», – подумал Булгаков. «Надо сжечь». И тут же усомнился: «Но если сжечь все, как я докажу потом, что роман был?» Булгаков разодрал сверху вниз тетрадь с первой редакцией «Мастера» и две трети каждой страницы сжег, а корешок тетради, сохранивший начало строчек, спрятал как возможное доказательство.
Итак, вернемся к интересующей нас дате. Отправив письмо 28 марта 1930 года, Булгаков стал ждать ответа. Прошла неделя, другая, потекла третья – ответа не было. Вряд ли можно было уже ожидать его.
И вдруг – 18 апреля Булгакову позвонили. Негромкий голос с резким грузинским акцентом сказал:
«– Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда, пустить вас за границу? Что, мы вам очень надоели?
– Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины, и мне кажется, что не может.
– Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?
– Да я хотел бы. Но я говорил об этом – мне отказали.
– А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся…»
Таков был этот, решивший судьбу Булгакова разговор, породивший потом множество легенд и живописных переложений в литературной среде, отразившийся и в мемуарах Паустовского, но, по-видимому, точнее всего зафиксированный Еленой Сергеевной со слов Михаила Афанасьевича в приведенной выше дневниковой ее записи.[112]112
Текст письма Правительству СССР см. в настоящем издании. (Примеч. сост.)
[Закрыть]
Что, однако, побудило высокого адресата спустя три недели откликнуться на письмо Булгакова? Что произошло между 28 марта и 18 апреля?
14 апреля 1930 года в своей комнате в Лубянском проезде пустил себе пулю в сердце Маяковский. 17 апреля его похоронили. За три дня около 150 тысяч москвичей прошли в Клубе ФОСП на улице Воровского мимо гроба того, кого вскоре вождь назовет «лучшим, талантливейшим» поэтом эпохи. А спустя всего сутки Булгакову позвонил человек с грузинским акцентом. Простейший политический расчет подсказал ему, что нельзя доводить до крайности еще одного известного литератора. И так уже прежде покончили с собой Сергей Есенин, Андрей Соболь. А тут Маяковский… Не хватало еще Булгакова.
К литераторам, жившим и творившим под его десницею, вождь всегда относился по-отечески ревниво. Рассказывают, что в конце 40-х годов тогдашний оргсекретарь Союза писателей Дмитрий Алексеевич Поликарпов, освоившись с новой работой, пробился на прием в Кремль, чтобы на всякий случай, во избежание позднейшего упрека, охарактеризовать писателей, личные дела и политическую физиономию которых он досконально изучил. Он прошелся по всему наличному списку с краткими комментариями: «Этот бывший меньшевик… У этого теща – эсерка… Этого Бухарин хвалил… Тот космополит безродный…» Вождь слушал-слушал, прохаживаясь вдоль длинного стола, и вдруг шмякнул по нему со всей силы своей трубкой. «Товарищ Поликарпов, – сказал он, раздельно печатая каждое слово. – Других писателей – у меня – для тебя – нет». И спустя пять минут из соседней комнаты уже шел Поскребышев, неся на подпись проект постановления о переводе Поликарпова на другую работу.
Рассказ психологически правдив: человек с трубкой обиделся на товарища Поликарпова, ругавшего его писателей, как если бы его попрекнули тем, что в его стране не добывается качественный никель или не выращивают твердых пшениц.
Но это было уже в 40-е годы. Куда сложнее обстояло дело с писателями в начале 1930-го. Надо было приласкать и успокоить литераторов, придержать зарвавшийся РАПП. Недовольство обиженных могли использовать его политические враги. О нем должна идти слава покровителя истинных талантов.
Таков, по-видимому, лишенный мистики фон знаменитого телефонного разговора. Но Булгаков поверил – захотел поверить – в загадочную природу высокого покровительства. Лишь недавно видевший перед собой «нищету, улицу и гибель», он и в самом деле был принят на призрачную, но дававшую кусок хлеба службу в Художественный театр и выбросил револьвер в пруд у Ново-Девичьего монастыря.
Возвращение «Турбиных»Булгаков еще более убедился, что находится под присмотром и тайной защитой человека всемогущего, когда в 1932 году МХАТу была возвращена давно снятая с афиши пьеса «Дни Турбиных». На спектакле «Горячее сердце» в правительственной комнате за ложей глава театра Немирович-Данченко и обходительный царедворец с изысканными манерами, актер Подгорный, еще недавно встречавший здесь великих князей, принимали теперь кремлевских гостей. В антрактах велись непринужденные разговоры. Сидя на диване перед круглым столиком с цветами, бутылками вина и вазами фруктов и поднося спичку к трубке, вождь обронил, будто невзначай: «А почему давно не идут „Дни Турбиных“ драматурга Булгакова?»
Словно бы он не знал, точно не слышал того свиста и улюлюканья, под который еще недавно пьеса была снята из репертуара всех театров страны Главреперткомом. Будто не читал в газетах призыва через всю полосу – «Долой булгаковщину!» Будто сам не отвечал 2 февраля 1929 года на эпистолярный донос Билль-Белоцерковского рассудительным увещеванием: «Что касается собственно пьесы „Дни Турбиных“, то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда».[113]113
Сталин И. В. Соч. Т. 11. С. 328.
[Закрыть]
Рябоватый вождь во френче с прищуром восточных глаз и мудрой улыбкой, прятавшейся в усах, делал вид, что не знает или не хочет знать всего этого, и Подгорный поддержал игру: «В самом деле, давно эту пьесу не давали… Декорации, Иосиф Виссарионович, требуют подновления…»
Вождь сел в черную машину с провожатыми и уехал, а Немирович и Подгорный молча переглянулись. Ба! Вот так история! Как прикажете понимать? И на всякий случай порешили выждать.
Но долго ждать не пришлось. Не прошло и недели, как в театр позвонил Авель Енукидзе и сказал, что товарищ Сталин интересуется, когда он может посмотреть «Турбиных»?
Тут уже Владимир Иванович не поглаживал неторопливо свою красивую бороду. Тут забегали, засуетились, артисты стали вспоминать текст, назначили срочные репетиции, извлекли и подновили начавшие плесневеть и осыпаться в сарае декорации, а счастливый автор написал своему приятелю П. С. Попову:
«В половине января 1932 года в силу причин, которые мне не известны и в рассмотрение коих я входить не могу, Правительство СССР отдало по МХТ замечательное распоряжение – пьесу „Дни Турбиных“ возобновить.
Для автора этой пьесы это значит, что ему – автору, возвращена часть его жизни».
В день спектакля, 18 февраля, Булгаков был в театре, потерянный и счастливый слонялся за кулисами, но не появился перед публикой. Станиславский передал ему свою просьбу не выходить на вызовы и не появляться в зале, чтобы не случилось апофеоза с нежелательным душком. Был когда-то на одном из спектаклей «Турбиных» случай: офицеры на сцене запели «Боже, царя храни», и часть публики встала. С тех пор в театре боялись эксцессов.
Добрейший Василий Васильевич Лужский, заведовавший труппой в театре, пытался успокоить Булгакова, нервничавшего еще с утра, спешной запиской:
«„У нас прибавят вечно втрое“, начинаю я словами из Вашей любимой комедии. Что вышло такое, что мне говорят, что Вы ушли и обиделись? Дорогой, был только разговор о том, как лучше Вам для Вас же самих, пьесы и Театра быть или нет сегодня в зрительном зале? Константин Сергеевич думал еще только об этом говорить с Вами, но сам он прихворнул, а уже слух о том, что Вам запрещено входить в зал, Вам передали? Или даже Вы не можете допустить мысли о том, что как лучше быть в указанном случае?! Перестаньте мучить себя, и без того измученного всей передрягой. За кулисами Вас будут ждать П. А. Марков и И. Л. Судаков, с ними все и вырешите!» (Музей МХАТ).
Все сошло благополучно. Автор на овации не вышел. Спектакль закончился триумфально.
Невозможно лучше описать атмосферу этого вечера, чем это сделал Булгаков в письме к Попову:
«От Тверской до Театра стояли мужские фигуры и бормотали механически: „Нет ли лишнего билетика?“ То же было и со стороны Дмитровки.
В зале я не был. Я был за кулисами, и актеры волновались так, что заразили меня. Я стал перемещаться с места на место, опустели руки и ноги. Во всех концах звонки, то свет ударит в софитах, то вдруг как в шахте, тьма, и загораются фонарики помощников, и кажется, что спектакль идет с вертящей голову быстротой. Только что тоскливо пели петлюровцы, а потом взрыв света, и в темноте вижу, как выбежал Топорков и стоит на деревянной лестнице и дышит, дышит… Стоит тень 18-го года, вымотавшаяся в беготне по лестницам гимназии, и ослабевшими руками расстегивает ворот шинели. Потом вдруг тень ожила, спрятала папаху, вынула револьвер и опять скрылась в гимназии. (Топорков играет Мышлаевского первоклассно).
Актеры волновались так, что бледнели под гримом, тело их покрывалось потом, а глаза были замученные, настороженные, выспрашивающие.
Когда возбужденные до предела петлюровцы погнали Николку, помощник выстрелил у моего уха из револьвера и этим мгновенно привел меня в себя.
На кругу стало просторно, появилось пианино, и мальчик-баритон запел эпиталаму.
Тут появился гонец в виде прекрасной женщины. У меня в последнее время отточилась до последней степени способность, с которой очень тяжело жить. Способность заранее знать, что хочет от меня человек, подходящий ко мне˂…˃
Я только глянул на напряженно улыбающийся рот и уже знал – будет просить не выходить.
Гонец сказал, что Ка-Эс звонил и спрашивает, где я и как я себя чувствую?
Я просил благодарить – чувствую себя хорошо, а нахожусь за кулисами и на вызовы не пойду.
О, как сиял гонец! И сказал, что Ка-Эс полагает, что это – мудрое решение.
Особенной мудрости в этом решении нет. Это очень простое решение. Мне не хочется ни поклонов, ни вызовов˂…˃
Занавес давали двадцать раз».
И пьеса пошла. Однако автор ее не чувствовал себя спокойным и спустя два месяца после ее возобновления: все казалось ему, что она вот-вот снова будет снята. «…Писать ничего и ни о чем не могу, пока не развяжу свой душевный узел, – исповедовался Булгаков П. С. Попову. – Прежде всего о „Турбиных“, потому что на этой пьесе как на нити подвешена теперь вся моя жизнь, и еженощно я воссылаю моления Судьбе, чтобы никакой меч эту нить не перерезал».
Его волнения, казалось, были не напрасны, ибо в те же недели в одной из центральных газет появилась рецензия драматурга Всеволода Вишневского, в которой впечатление от спектакля связывалось с недавним процессом Промпартии. «…Все смотрят пьесу, покачивая головами, и вспоминают рамзинское дело» – цитировал Булгаков статью в письме к Попову 30 апреля 1932 года и добавлял: – «Казалось бы, что только в тифозном бреду можно соединить персонажи „Турбиных“ с персонажами рамзинского дела!»
И, несмотря на все это, пьеса шла. Она была разрешена, правда, только одному театру в стране. Но и это было чудо. «Турбины» шли в тридцать четвертом году, и в тридцать пятом, и в тридцать шестом. Они не сошли со сцены в тридцать седьмом и шли вплоть до сорок первого. Уже был выслан Осип Мандельштам, исчезли Пильняк и Бабель, убит Мейерхольд заодно со своим театром, – а «Турбины» шли. Булгаков почти уверовал в бытие злой силы, – незримо охраняющей его и чудодейно посылающей свое благо.
Тот, кто ответил однажды на его письмо, наверное, считается с ним, подумал Булгаков. И в самую недобрую пору решился просить за высланного товарища – драматурга Николая Эрдмана. За самого бы Булгакова кому попросить: «Турбины» идут, но ведь десять лет не печатали ни строчки, новые пьесы – «Мольер», «Иван Васильевич» – фатально не доходят до премьеры или сняты после первых представлений. Но просит он. Сочиняет письмо в духе тех, что любимый его Мольер составлял для Людовика XIV. В письме говорилось о процветании наук, искусств и ремесел под мудрым правлением вождя, и на этом помпезном фоне проситель живописал превратную судьбу талантливого и безвинно страдающего драматурга, за личную безупречность и чистоту помыслов которого он, Булгаков, безусловно ручался.
Он сам отнес письмо и сдал, как тогда полагалось, в кремлевскую будку. А Эрдмана – так, во всяком случае, уверяла Елена Сергеевна – вскоре же перевели из глухого, погибельного угла в недальнюю ссылку, в Вышний Волочек под Калинином, хотя вовсе освободить не решились. Булгаков был горд, приписывал случившееся силе своего письма и окончательно убедился, что между ним и владыкой полумира существует таинственная связь. Может быть, это и позволило ему, под нажимом друзей и театра, но без отвращения написать пьесу «Батум», правдивую во многих подробностях эпохи и среды, но ложную в главном?
Булгаков добросовестно изобразил молодого грузина, героя Батумской демонстрации 1902 года, социальную экзотику Закавказья начала века. Но вождю уже не хотелось ни на час выходить из вылепленного им годами образа мудрого отца народов с трубкой в руке, и скромнейший из скромных уронил из-под усов, что не стоит вспоминать детство и юность Сталина – кому это интересно? Пьесу не допустили к постановке, а Булгаков пережил это, как двойную беду – и неудачи и стыда. Во время последней болезни он с горечью сказал одному из друзей о своей пьесе: «Это самопредательство».
Словом, во всей этой истории нет, пожалуй, ничего особенно чудесного, если сбросить со счетов субъективное восприятие ее автором. До сих пор мне приходилось снимать налет мистицизма с событий, объяснимых исторически и психологически. Мистическое содержание темы Сталин – Булгаков открылось неожиданно с другой стороны.
«К вам обращаюсь я, друзья мои!»В недавние годы смотрел я во МХАТе посредственную постановку нынешних «Турбиных». И вдруг вздрогнул: на лестнице в гимназии Алексей Турбин, обращаясь к юнкерам, сказал слова, напомнившие чью-то другую, известную-известную, знакомую с дней войны интонацию: «Слушайте меня, друзья мои…»
Господи, да как же я сразу не узнал? Это же знаменитое сталинское: «К вам обращаюсь я, друзья мои»! Кто из современников минувшей войны, начиная от тогдашних школьников, не помнит этой речи 3 июля 1941 года, когда, собравшись, наконец, с силами после острого приступа малодушия и растерянности, яростной обиды на судьбу и обманувшего его Гитлера, Сталин приехал из своего загородного убежища, чтобы произнести эти слова, воззвать к стране, заметная часть территории которой уже была захвачена врагом.
Помню, как слушали мы, дети сорок первого года, под черной бумажной тарелкой репродуктора это, непохожее на торжественные сталинские доклады и недавние речи о бандах троцкистско-зиновьевских двурушников, выступление, где прозвучало что-то трагически понятное, человеческое. Вождь-отец обращался к сердцу каждого из нас, к детям и старикам, военным и штатским, партийным и беспартийным, верующим и неверующим, к стране, попавшей в беду. Помню тягостные паузы в репродукторе и как что-то звякало, то ли зубы о стакан, когда он отпивал воду, то ли чайная ложка. Оратор волновался перед микрофоном, как, может быть, ни разу в жизни, и оттого говорил с еще более сильным акцентом.
Никто не знал тогда, что его не было в Москве почти неделю и командиры армий и флотов, работники Генштаба и члены правительства не могли или не смели связаться с ним. Такие его внезапные исчезновения в трудные, роковые минуты жизни бывали и прежде, и о них помнили старые его соратники. «На Кобу опять нашло», – говорили в таких случаях его друзья по партии еще в начале 20-х годов. Так было и на этот раз, но в обстоятельствах особых. Текст речи, который он привез с собой теперь в Кремль, он обдумал за последние бессонные ночи на даче в Волынском. Он знал, что говорить надо коротко, а начать как-то особенно, необычно, сразу завоевав все души, и он сказал: «Товарищи! Граждане!.. Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!»
«Братья и сестры» возникло в его сознании, потрясенном несчастиями последних дней, невольно, как отдаленное воспоминание детства и юности. Это были те трогающие равенством и умиротворением слова священника, его обращение к братьям и сестрам во Христе, которые он привык слышать в семинарской церкви в Тифлисе.
А следом невольно подвернулись под язык знакомые интонации булгаковской пьесы: «К вам обращаюсь я, друзья мои…» Дело не только в заразительности ораторских ритмов. Хотя надо было, как он, ездить на этот спектакль не менее 15 раз (цифра, зафиксированная в театральных протоколах, но не исчерпывающая – ведь иногда он приезжал в середине или к концу спектакля, и это могло быть не отмечено), чтобы в ушах навсегда остались, будто впечатались, интонации исполнителей и, конечно, властная и доверительная речь Алексея Турбина – Хмелева перед взбаламученным строем юнкеров.
Запись Елены Сергеевны в дневнике 3 июля 1939 года: «Рассказ Хмелева. Сталин раз сказал ему: „Хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши усики, забыть не могу“».
Спектакль этот вообще, можно утверждать бессомненно, больше чем просто нравился Сталину. Он захватывал его. Чем? Можно гадать. Я думаю, как это ни странно прозвучит, каким-то бессомненным и неразменным чувством чести, преданности знамени, имени государя, которые несли в себе все эти растоптанные и давно выметенные за порог истории белые офицеры. Он завидовал им, он восхищался ими. Такую бы гвардию ему вокруг себя! Нет, кругом предатели, все только ждут, чтобы застать врасплох, ударить исподтишка…
Вспоминаю рассказ адмирала Ивана Степановича Исакова, однажды мною слышанный. «Идем мы со Сталиным длинными кремлевскими коридорами, а на перекрестье с другими коридорами стоят охранники и, по внутреннему уставу, встречают и провожают глазами каждого проходящего, пока не передадут его мысленно следующему посту. Я едва успел подумать об этом, а Сталин будто перехватил мою мысль и сказал с желчной ненавистью: „Охраняют… А сами того гляди – пальнут в спину“».
Даже странная притягательность офицерской формы, погон, которые он к общему изумлению введет в Красной Армии на рубеже 1942 и 1943 года, само возрождение офицерского корпуса вместо института красных командиров, не разогрето ли это впечатлениями в нем булгаковского спектакля? Кто знает, о чем думал он, скрываясь за серо-зеленой занавеской мхатовской ложи, один или с маленькой Светланой на коленях?
Декорации «Турбиных» сгорели в первые дни войны во время бомбежки, когда театр гастролировал в Минске: спектакль не мог больше идти. Но возможно именно тайное, едва ли не мистическое значение для Сталина этой пьесы заставило его откликнуться на обращение к нему Елены Сергеевны в 1946 году, когда она впервые попыталась исполнить завещание Булгакова и опубликовать «Мастера», хотя здравомыслие и не позволяло верить, чтобы роман в самом деле появился в ту невеселую пору.








