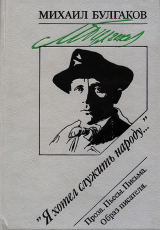
Текст книги "«Я хотел служить народу...»: Проза. Пьесы. Письма. Образ писателя"
Автор книги: Михаил Булгаков
Жанры:
Драматургия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 67 (всего у книги 71 страниц)
Комментаторы романа «Мастер и Маргарита» до сих пор обращали внимание по преимуществу на литературные источники фигуры Воланда; тревожили тень создателя «Фауста», допрашивали средневековых демонологов.[114]114
М. А. Булгаков, судя по его выпискам, основательно изучал книгу М. А. Орлова «История сношений человека с дьяволом». СПб., 1904.
[Закрыть] Связь художественного создания с эпохой сложна, причудлива, неоднолинейна, и, может быть, стоит напомнить еще об одном реальном источнике для строительства могучего и мрачно-веселого образа Воланда.
Кто из читателей романа забудет сцену массового гипноза, которому подверглись москвичи в Варьете вследствие манипуляций «консультанта с копытом»? В памяти современников Булгакова, которых мне приходилось расспрашивать, она ассоциируется с фигурой гипнотизера Орнальдо (Н. А. Алексеева), о котором в 30-е годы много говорили в Москве. Выступая в фойе кинотеатров и домах культуры, Орнальдо проделывал с публикой опыты, чем-то напоминающие представление Воланда: он не просто угадывал, но подшучивал и изобличал. В середине 30-х годов он был арестован. Дальнейшая его судьба темна и легендарна. Говорили, что он загипнотизировал следователя, вышел из его кабинета, как ни в чем не бывало прошел мимо охраны и вернулся домой. Но затем снова таинственно исчез из виду…
Жизнь, которая, быть может, и подсказала что-то автору, сама расшивала фантастические узоры по знакомой канве.
Другой отголосок атмосферы 30-х годов в романе – двоящаяся фигура аристократа-доносчика барона Майгеля. Этот служащий зрелищной комиссии занимает в романе, как известно, должность «ознакомителя иностранцев с достопримечательностями столицы». Маргарита встречала его в московских театрах и ресторанах. Барон славился своей «чрезвычайной любознательностью» и «не менее развитой разговорчивостью». Диковинно ли, что, явившийся без приглашения на бал сатаны, он был наказан мгновенной смертью – Азазелло выстрелил, а Коровьев немедленно передал мессиру чашу с еще теплой кровью барона.
Я напоминаю эту сцену для того, чтобы сказать несколько слов об одном современнике и знакомце Булгакова. В Майгеле угадываются черты биографии Бориса Сергеевича Штейгера. В прошлом белый офицер, человек с изысканными манерами и рискованным остроумием, барон Штейгер после революции стал помощником Флоринского, заведовавшего Отделом печати при наркоминделе Чичерине. К удивлению многих, Штейгер, знавший несколько иностранных языков, жил рассеянной светской жизнью, считался незаменимым собеседником на дипломатических обедах и ужинах, переносил сплетни из посольства в посольство, а заодно посещал с охотой дома московской артистической и писательской публики, где мог встречаться с Булгаковым. Его считали хоть и добродушным, но несомненным соглядатаем, чего он, впрочем, почти не скрывал, заявляя с легкой трассировкой: «Я резидент… м-м… одной могущественной державы». Назначенный в последние годы жизни руководителем студии при Большом театре, барон Штейгер носил в кармане визитную карточку: «Directeur des artistes», открывавшую ему многие двери. В 1937 году, приобщенный к процессу маршала Тухачевского, Штейгер был расстрелян. Таким образом, конец барона Майгеля также имел жизненную аналогию.
Я не решусь, понятно, утверждать, что Булгаков был вполне справедлив к реальному Б. С. Штейгеру, когда рисовал его подобие; изображение Майгеля рисковало стать кощунственным в свете трагического конца того, кто послужил ему прототипом. Но уничтожение силой зла преданных ее слуг есть закон или по меньшей мере обыкновение. Предатель и наушник убираются с дороги теми, кому безотказно служат (не от руки правосудия погиб и булгаковский Иуда).
К той же категории «мелких бесов», что и Майгель, может быть причислен в «Мастере и Маргарите» литературный клеветник Латунский. Критик Латунский вместе со своим коллегой Ариманом и литератором Мстиславом Лавровичем – самые ядовитые и упорные гонители Мастера. На сомнительную честь быть прототипами этих лиц могли бы претендовать многие: и Г. Горбачев, и Л. Авербах (кстати, его черты просвечивают и в образе Берлиоза), и Ив. Дорошев, и И. Нусинов, и В. Зархин, и В. Блюм. Но, пожалуй, более других заслуживают здесь быть названными два критика: О. Литовский и А. Орлинский. В фамилии Латунского точно переплавились эти два имени. Точно так же, как в фамилии Лавровича отозвалась фамилия драматурга Вс. Вишневского (лавр – вишня).
Напомню, что одна из статей, бичующих роман Мастера, называлась «Враг под крылом редактора», а в другой предлагалось «ударить, и крепко ударить по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) ее в печать». Наверное, Булгакову вспомнилась тут статья о его пьесах «Бег назад должен быть приостановлен» (Комсомольская правда. 1928. 23 октября). Именно в ней Булгаков был назван «посредственным богомазом». В попытках «протащить» произведения Булгакова на советскую сцену газета обвинила начальника Главискусства А. И. Свидерского: «Политика скрещенных рук, а тем более покровительство белогвардейским упражнениям Булгакова не может иметь место в руководстве театральной жизни» (терпимый и достаточно широкий в своих вкусах Свидерский был вскоре снят со своего поста).
Что же касается термина «булгаковщина» (аналог «пилатчины»), то его, несомненно, первым пустил в оборот критик А. Орлинский. Еще в 1926 году он начал бешено нападать на Булгакова. Одна из его статей называлась: «Против булгаковщины. Белая гвардия сквозь розовые очки». В другой статье, опубликованной на третий день после премьеры «Дней Турбиных», он писал: «Задача организованного зрителя и критики – дать отпор булгаковщине, напирающей из театр…» (Правда, 1926. 8 октября). На диспуте в Театре имени Вс. Мейерхольда 7 февраля 1927 года А. Орлинский своим выступлением вызвал обычно молчавшего в таких случаях Булгакова на взволнованный, горький ответ: в воздухе висел запах травли.[115]115
См.: Огонек. 1969. № 11.
[Закрыть]
А на другом, более раннем диспуте – в октябре 1926 года в Доме печати – Булгаков мог бы услышать и другого своего преследователя Осафа Литовского. Вот что, судя по газетному отчету, сказал о пьесе «Дни Турбиных» критик и цензор О. Литовский: «Пьеса не заслуживала бы внимания, если бы она не увидела свет рампы. Драматургически она незначительна. Но беда не в том. Беда в том, что пьеса лжива и тенденциозна в сторону симпатии к белым. Это попытка задним числом оправдать белое движение» (Новый зритель. 1926. 19 октября).
Цитаты, какие я здесь привожу, не были разысканы мною самосильно в старых газетах. Они взяты из вырезок, тщательно собиравшихся Булгаковым и послуживших ему напоминанием (если нужно было такое напоминание) при создании страниц романа, посвященных литературной судьбе Мастера.
Отношения Булгакова с Литовским хорошо передает эпизод, рассказанный одним старым литератором. Однажды член Главреперткома Литовский сам написал пьесу. И в своем комитете собрал человек десять драматургов и критиков, чтобы обсудить ее. По окончании чтения воцарилась мертвая тишина. Ее нарушил Николай Робертович Эрдман, у которого недавно была запрещена пьеса «Самоубийца». «Мне терять нечего, – заявил он, – я скажу прямо, пьеса из рук вон плоха». Наступила неловкая пауза. Тогда слова попросил Булгаков. «Если это комедия, – сказал Михаил Афанасьевич, – то крематорий – это кафешантан». (Тема только что отстроенного в 1927 году московского крематория была тогда модной). Мог ли Литовский когда-либо забыть или простить это обсуждение?
О. Литовский пережил Булгакова на двадцать с лишним лет и успел написать сомнительную в отношении достоверности книгу «Глазами современника» (М., 1963), где он попытался задним числом оправдать свое пристрастное отношение к молодому Булгакову.
Кстати сказать, у меня есть о Литовском микроскопическое личное воспоминание, ценное, однако, тем, что оно полностью сливается с бессмертным образом Латунского. В 1961 году, работая в «Литературной газете», я имел несчастие минут десять поговорить с Литовским по телефону: бряцая былыми заслугами, он требовал немедленно напечатать какую-то свою ничтожную заметку, сначала льстил, потом угрожал. Я не принял его слов всерьез, но спустя 10 минут был вызван к главному редактору: оказывается, Литовский уже успел наябедничать на меня, истолковав мой разговор с ним как глухое сопротивление затаившегося классового врага. Неискоренимый зуд ябедничества был у этого человека в крови.
Булгаков не был злопамятным и недобрым и все же не прощал содеянного ему зла, нанесенной обиды, тем более что ранам его до конца жизни так и не дали затянуться: прощать легко лишь отболевшее прошлое. Оттого он так дорожил темой возмездия, хотя бы запоздалого и восстанавливающего справедливость лишь на листе писчей бумаги.
Елена Сергеевна рассказывала, что в сентябре 1939 года, когда в состоянии здоровья Булгакова наступило резкое ухудшение, один из осматривавших его врачей сказал, отойдя от постели больного, что его конец – «это вопрос нескольких дней». Булгаков эти слова услышал. Ужас приговоренного смешался в нем с негодованием врача, удивленного грубой самоуверенностью и профессиональной бестактностью своего коллеги. Но жизнь, как нарочно, выкинула одну из тех своих штук, которые доказывают, как много в ней тайного сарказма. Стало известно вскоре, что смотревший Булгакова врач неизлечимо заболел и сам оказался на краю могилы, в то время как организм приговоренного им больного все еще сопротивлялся своему недугу, давая робкие просветы надежды на чудесное исцеление.
В один из январских дней 1940 года, то есть за два месяца до смерти, Булгаков продиктовал жене последнюю вставку в роман. Это был как бы посторонний сюжету эпизод в конце первой части книги. В нем рассказывалось, как ученое светило, профессор Кузьмин, которого буфетчик из Варьете умоляет остановить предсказанный ему рак печени, убеждается в своем бессилии перед лицом судьбы и сам становится жертвой нервного расстройства, насланного на него нечистой силой. Воробушек, разнузданно пляшущий фокстрот на столе у профессора, призван открыть ему глаза на то, как жалка и немощна самонадеянность патентованного знания перед таинственной природой жизни.
Штрихи к биографииБулгаков, по словам Елены Сергеевны, говорил порой, подымая палец в небо: «Когда окажусь там, то прежде всего разыщу Мольера».
В его обычном окружении нашлось не так уж много литераторов ему по росту. Он дорожил отношениями главным образом со старшим поколением своих литературных современников: Вересаевым, Горьким, Замятиным, Волошиным, Ахматовой. На клубных писательских мероприятиях Массолита избегал бывать, отзываясь о них иронически: «Бал в лакейской». Из литературных сверстников поддерживал приятельство с И. Ильфом, А. Файко, немногими другими. В предсмертные месяцы он охотно беседовал с Маршаком, Фадеевым. Обрадовался приходу Б. Пастернака («Вот он пусть приходит», – сказал Булгаков Елене Сергеевне). Но с некоторыми другими литераторами, желавшими его навестить, увидеться не захотел.
Из-за удаленности в последние годы от литературной среды так мало осталось о нем воспоминаний. А те, что были написаны, по большей части приблизительны, мало конкретны (К. Паустовский) или недобры (В. Катаев). Оттого иногда интересны и мелочи, летучие штрихи, подробности в устных рассказах, какие мне в разное время пришлось слышать и записать.
Георгий Петрович Шторм, известный исторический романист, работал с Булгаковым в 1921 году в ЛИТО – Литературном отделе Главполитпросвета при Наркомпросе. В «Записках на манжетах» есть об этом упоминание, изменена одна лишь буква в фамилии Шторма: «Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал: „Шторн“».
Булгаков, в свою очередь, запомнился Шторму как робкий, неуверенный блондин с вихляющейся походкой. Возглавлявший ЛИТО «старик», описанный Булгаковым, по воспоминаниям Шторма, не был чем-либо знаменит в литературе: его назначили временно замещать Серафимовича, как человека, причастного к искусству, – он был женат на актрисе. Фамилия его не запомнилась, так как он вскоре исчез. В одной комнате сидели Булгаков, Шторм и два молодых поэта – Богатырев и Иван Старцев (впоследствии библиограф). Писали лозунги для Помгола – организации в помощь голодающим Поволжья. У Булгакова лозунги не получались, его молодые товарищи сочиняли их успешнее. Зарплату платили талонами на муку, картошку и сахарин. Талонами можно было меняться, а отоваривались в столовой Наркомпроса…
А вот другое воспоминание. Игорь Александрович Сац присутствовал как-то при встрече Булгакова с А. В. Луначарским. Не знаю, было ли это в театре, во время антракта, или в гостях. Незадолго до этого наркому просвещения сильно досталось за поддержку «Дней Турбиных» на сцене МХАТа, и, познакомившись с пьесой «Бег», он добродушно журил автора: «То вас, Михаил Афанасьевич, за раскрашивание белых офицеров упрекали, а в „Беге“ вы за белых генералов взялись… И потом: думаете, никто не понял, что спутником Серафимы в пьесе вы изобразили себя? Я разгадал: Голубков – анаграмма фамилии Булгаков, как моя Луначарский – от Чарнолусский».
И еще одно воспоминание. Алексей Иванович Лакшин (по сцене Ангаров), мой дядюшка, в 20―30-е годы артист Художественного театра, рассказывал о трех запомнившихся ему эпизодах, связанных с Булгаковым. «Однажды идем мы с братом (мой отец – Яков Иванович Лакшин. – В. Л.) за кулисами по коридору. Видим, какого-то блондина актеры на руках подбрасывают, качают. Подошли – да это Булгаков взлетает в воздух, смеется, отбивается. „„Дни Турбиных“ снова играть разрешили“, – объяснил сияющий Иван Кудрявцев (он играл в пьесе Николку)».
А вот другой рассказ Ангарова: «В инсценировке „Мертвых душ“ бессловесные роли чиновников на балу у губернатора – Перхуновского, Беребендовского и Куку были розданы молодым актерам, одна из них досталась мне. Булгаков считался в постановке ассистентом режиссера, ему надо было что-то делать, и, пока постановщик В. Г. Сахновский разбирался с главными исполнителями, он поручил Булгакову заняться с нами. Булгаков несколько дней добросовестно репетировал, придумывал линию поведения на балу для каждого, обсуждал костюмы, грим. „Михаил Афанасьевич, словечка хоть по три нам прибавьте“, – молили молодые артисты. „Не могу, братцы, у Гоголя ничего, кроме фамилий, нет“, – отбивался Булгаков».
И последняя живая подробность. Было это, кажется, вскоре после того, как сняли с репертуара «Мольера». Ангаров был известен в театре как ярый книжник, и Булгаков подошел к нему в актерской раздевалке: «Вы, кажется, книги любите? Не купите ли у меня полного Шекспира – такие, знаете, в кожаном переплете толстые тома в издании Брокгауза?» Актеру Шекспир оказался не по карману, но он порекомендовал в качестве покупщика известного режиссера, и сделка состоялась. Драматург, продающий пьесы Шекспира, – такая подробность кое-что стоит! Видно, нелегкая была для Булгакова минута.
Камень ГоголяНе все знают историю могилы Булгакова в Ново-Девичьем монастыре. Расскажу заодно и эту невероятную, но вполне правдивую притчу. Известно, что Булгаков благоговел перед Гоголем. Судьба связала его с ним и по смерти. Думая о Гоголе, Булгаков воскликнул, обращаясь к нему, как к учителю, в одном из своих писем: «…Укрой меня своей чугунной шинелью!»
Так и вышло.
Булгаков умер в марте 1940 года. Тело его сожгли, а урну похоронили в вишневом саду Ново-Девичьего некрополя, невдали от Чехова, среди могил старейших артистов Художественного театра. Долго на могиле его не было ни креста, ни камня – только прямоугольник травы с незабудками да молодые деревца, посаженные по четырем углам надгробного холма. Елене Сергеевне хотелось, чтобы памятник Булгакову был скромен и долговечен, а ничего подходящего не находилось. В поисках плиты или камня Елена Сергеевна захаживала в сарай к гранильщикам и подружилась с ними. Однажды видит: среди обломков мрамора, старых памятников мрачно мерцает в глубокой яме огромный черный ноздреватый камень. «А это что?» «Да Голгофа!» Объяснили, что на могиле Гоголя в Даниловом монастыре стояла Голгофа с крестом, символический камень, напоминающий о месте казни Христа. Камень этот, черноморский гранит, нашел где-то в Крыму один из братьев Аксаковых, и долго везли его на лошадях в Москву, чтобы положить на могилу Гоголя. (Второй такой же Аксаковы привезут великому артисту Щепкину – его можно видеть на Пятницком кладбище.)
Прах Гоголя еще в 30-е годы был перенесен на Ново-Девичье кладбище, а к очередному юбилею скульптор Томский сделал слащавый гоголевский бюст с золотой надписью под ним: «От Советского правительства», заменивший последний дар Аксакова. Хорошо еще, что осталась в ограде надгробная плита из черного мрамора, с высеченной на ней эпитафией из пророка Иеремии, которую когда-то подыскал Хомяков: «Горьким словом моим посмеюся». Голгофа же с крестом, вытесненная колонной с беломраморным бюстом, нужна, понятно, не была. Ее сбросили в яму.
Вот этот-то многотонный камень извлекли с трудом с того места, где он лежал, по деревянным подмостьям переволокли к могиле Булгакова, и глубоко ушел он в землю. Гоголь уступил свой крестный камень Булгакову. Сбылось по слову: «…Укрой меня своей чугунной шинелью!»
Теперь на надгробии два имени. Под тем же камнем покоится и урна с прахом Елены Сергеевны.
В тот день, когда я видел ее в последний раз, она была взбудоражена, тревожно-весела. Мы ехали на киностудию смотреть рабочий материал ленты «Бег». На Киевском мосту нас застала гроза. Крупный дождь забарабанил по крыше, как град. Над Москвою-рекой вспыхнула молния и прокатился гром. Елена Сергеевна переменилась в лице: «Дурной знак». Забившись в угол на заднем сиденье «Волги», она твердила одно: когда у Булгакова что-то снимали, запрещали, надвигалась нежданная беда, всегда случалась гроза. Мы с женой пытались ее разуверить, она сердилась: «У Миши это была верная примета». Вспоминала: так было и с последней пьесой. Четыре обсуждения и, до смешного точно, четыре раза гремела гроза.
Мы вышли из машины под проливным дождем, три часа провели в просмотровом зале, а когда оказались снова на улице, сквозь быстро редевшие облака пробилось солнце, парок подымался над асфальтом. Елене Сергеевне картина понравилась. Вернее, ей заранее хотелось, чтобы картина ей понравилась, и она себя и нас убеждала: «Вы увидите, это даст дорогу Булгакову».
Мы разъехались по домам, но едва я вернулся к себе, как услышал ее голос в телефонной трубке: ей хотелось поделиться своими уже немного отстоявшимися впечатлениями, расспросить меня. Она собиралась подробно разговаривать с режиссерами. Простились до понедельника: я уезжал за город.
А гроза над Киевским мостом гремела не зря. Через день Елена Сергеевна умерла – внезапно и незаметно, будто отлетела.
Был вечер с маревом над Витеневским заливом, с багровым солнцем сквозь вечерний туман на исходе душного июльского дня, когда я узнал об этом. Для меня в этом просвеченном заходящим солнцем мареве и растаяла она навсегда.
А в девятый день на отпевании молодой, с умными внимательными глазами и негустой русой бородкой священник, мерно взмахивая кадилом, читал проникновенные слова прощальной молитвы. Мы стояли у самого входа в алтарь, за решетчатой его оградкой, в церкви Ново-Девичьего монастыря и держали тонкие церковные свечи. «Ныне отпущаеши… по глаголу твоему – с миром».
От платы священник отказался, пояснил, что хорошо знает, кого отпевал сегодня, и, смущаясь, попросил, если можно, подарить ему книгу Булгакова… Кажется, речь шла о синем томике «Избранной прозы». Известный в журнальном варианте «Мастер» еще не включался у нас тогда в книги.
«…Ваш роман вам принесет еще сюрпризы»Новый роскошный том с тремя романами Булгакова вышел уже после смерти Елены Сергеевны. События, разыгравшиеся вокруг него в учреждении, издававшем книгу, могут служить еще одним штрихом к моему рассказу. Ибо вновь, и в который уж раз, наглядно обнаружилось неискоренимое присутствие рядом с именем Булгакова неких иррациональных сил – по-видимому, неизбежное следствие его длительной предосудительной связи со всяческой мистикой и чертовщиной.
Поначалу ничто не предвещало беды. Попечительно предусмотрено было, что большая часть 30-тысячного тиража будет продана за границей, как водка или меха, и книгу не поскупились одеть в соблазнительный, под свиную кожу, светло-кофейный и красновато мерцающий балакрон. В таком балакроне, выписанном по контракту откуда-то из Голландии, выходили до той поры по преимуществу труды лиц особо значительных, но за Булгакова кто-то тайно поворожил, и роскошный переплет разрешили. (В скобках замечу, что Ахматова издавалась следом и, как обычно, была неудачницей. Некто приметил и сигнализировал по инстанциям, что в балакрон одевают, как нарочно, былых литературных отщепенцев. «Раздеть Ахматову!» – выдохнул в припадке суеверного ужаса оробевший издательский директор.)
Но настоящие чудеса начались чуть позднее.
Приметили в какой-то день навещавшие издательство литературные граждане подозрительную возню возле киоска в вестибюле. Стучали молотком, навешивали новую дверь с аршинными петлями на книжный чулан, вдевали в ушки полупудовый чугунный замок; по особому распоряжению готовились к приемке булгаковского тиража.
И не напрасно беспокоились. Уже шныряли по этажам уполномоченные профкома, тщательно выверяли списки сотрудников. Каждый редактор имел право приобрести за наличные один экземпляр: Булгакова выдавали как экспортную белорыбицу к празднику. Тоскуя, с искательными глазами ходили авторы, выспрашивая тщетно, не обломится ли им экземплярчик. «Этим вопросом занимается лично товарищ директор», – объясняли им доверительно. Бог мой, да никто и не предполагал, что Булгаков появится на книжном прилавке и что мужик понесет его с базара, как Кожевникова или Федина! Но коли уж его выдавали, распределяли, как было не попытаться достать?
В день появления книг в балакроне издательство не работало. Комнаты и коридоры жужжали, как потревоженный улей. Не возобновилась работа и на другой день. А на третий встали подсобные службы.
Был час обеда, когда буфетчица Люся захлопнула дверь перед возмущенной толпой, оставив сотрудников без шницелей и морковных котлет. Лицо ее было надутое, обиженное, как будто ее безбожно обсчитали. Пробовали навести мосты. Вступать в переговоры Люся долго отказывалась, но вдруг размякла и сморкнулась обиженно: «Булгакина распределяли? Вам нужен, а я что – пшено?»
Послали ходоков к директору за книгой для буфетчицы.
И в эту минуту встал лифт.
Начхоз буровил невнятное, высоко поднимая густые брови, и те, кто уже читал роман Булгакова, утверждали потом, что отчетливо слышали слова Алоизия Могарыча: «Купорос!.. Одна побелка чего стоила». Пристали к нему решительнее – он не сдавался: «Да что вы, товарищи? Пора на ремонт. Профилактику когда делали? Случись что, Пал Семеныч отвечай?» – «Да ведь годами ничего не было, и лифт ходил! Не пешком же на 6-й ползать?» – возмущались сотрудники.
Лифт не работал уже неделю, и все, не исключая и литературных корифеев, восходили пешком по крутой лестнице, задыхаясь от сердцебиения и пережидая на площадках, пока не догадались поговорить с Пал Семенычем душевно. «Книгу давали? Ну вот», – молвил он, застенчиво ковыряя пальцем в стене.
Принесли начхозу книгу в темно-красном балакроне. В ту же минуту лифт покорно дрогнул, зажужжал и стал ходить верх-вниз как ни в чем не бывало.
А в обширной приемной перед директорским кабинетом тем временем, что ни день, роилась и густела толпа. Это были люди солидные, с новенькими папками и чемоданами «дипломат». Они сидели по стенам в креслах в ожидании приема, терпеливо разглядывая портреты Горького и Сулеймана Стальского в большой мохнатой папахе. И лишь самые важные, подъезжая в казенных машинах, скользили мимо секретарши вне очереди за клеенчатую дверь.
В кармане у каждого лежала бумага – фирменный бланк с синим, черным или красным грифом наверху. Во всех бумагах было одно: ведомство, министерство, главк или комитет убедительно просили выделить им для неотложных производственных нужд… надцать экземпляров книги в балакроне. Несли и несли бумаги от треста Главрыба и журнала «Вопросы нумизматики», комитета по рационализации и управления Союзмехтехники – и каждая была подписана не меньше чем первым заместителем, а случалось, и самим.
Со лба директора не сходила испарина. Он встречал, жал руки, подписывал, выслушивал комплименты, благодарил и ждал на пороге следующего. Это был его звездный час. Но всякий раз что-то вздрагивало и отрывалось у него внутри, когда он брал красный карандаш, долго вертел его в руках, вглядываясь в размашистую руководящую подпись, и там, где просили 7, соглашался на 3, там, где молили о 4, – разрешал один. Толстый красный карандаш чертил в углу бумаги наискосок: «Выд. 2 (два) экз. для Мин. коммун. хоз. согласно отн. и личн. договорен.».
Добром это кончиться не могло. Лифт уже ходил и буфет работал, когда однажды к началу рабочего дня появились в издательстве двое аккуратных молодых людей в штатском, скромно представились, показав красные удостоверения, и приступили к тихим занятиям. Это грянул ОБХСС.
Инспектировали директорский книжный фонд, листали расписки рядовых сотрудников и важных получателей. Причина узналась позднее. На Кузнецком мосту и у памятника Первопечатнику, где гуляют, негромко переговариваясь, симпатичные граждане с огнем тайного вожделения в глазах и книгами, засунутыми за отворот пальто, случилась сенсация. Том Булгакова, шедший накануне за восемь червонцев, внезапно упал до 50 рэ. Встревожились книголюбы, и те, кто приглядывает за книголюбами, тоже обеспокоились. Кто-то наводнил рынок по меньшей мере тысячью новеньких экземпляров в балакроне. Чудилась крупненькая афера.
Сотрудники ходили потерянные, переговаривались вполголоса, жалели директора и в душе прощались с ним. К счастью, вскоре выяснилось, что издательство лихорадило напрасно: замок на киоске был надежен и криминальных упущений в распределении книг в балакроне не обнаружено.
Позднее следствию удалось установить, что сотни пачек книг таинственно исчезли из длинного, серебристого, наглухо запертого и опломбированного автофургона на перегоне из Ленинграда, где печатался тираж, в Москву. При этом, по слухам, не пострадали транспортируемые тем же рейсом пособия для занимающихся в сети политпросвещения, логарифмические таблицы Брадиса, а также новенькие поэтические сборники «Дрозды» и «Майское утро».
Вот и представьте: лунная ночь, сверкающая лента Ленинградского шоссе, новейший гигантский трейлер, мчащийся на предельной скорости с ослепительными желтыми фарами… И отчаянные русские мафиози в черных полумасках, останавливающие фургон посреди дороги, чтобы похитить из него… романы Булгакова. Это ли не дьяволиада?








