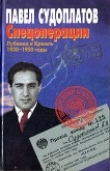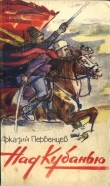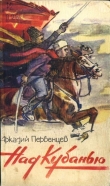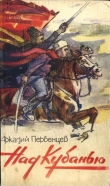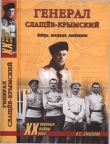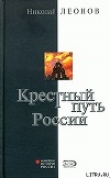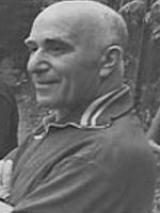
Текст книги "Сквозь годы войны и нищеты( роман-автобиография)"
Автор книги: Михаил Мильштейн
Жанры:
Прочая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
В конце 1938 года наступило временное затишье. Исполняющим обязанности начальника управления был назначен полковник Шалин, занимавший в то время пост начальника школы по подготовке кадров ГРУ. Помнится, в управлении очень часто проводились собрания, на которых клеймили очередного «врага народа», пробравшегося в наши ряды по заданию иностранной разведки. Тут же наказывали и тех его начальников, сослуживцев и друзей, которые не обратили должного внимания на преступную деятельность этого «врага».
Руководил собраниями, как правило, начальник политотдела управления полковой комиссар Ильичев, спустя несколько лет занявший пост начальника ГРУ.
На этих «мероприятиях» я старался занимать позицию стороннего наблюдателя. Я никого не знал и меня мало кто знал. Все мои предыдущие начальники бесследно исчезли. Я не выступал на собраниях, сидел обычно в заднем ряду и молча наблюдал за докладчиком, по-своему оценивая происходящее.
Но однажды, помню, я чуть не сорвался. Обсуждали поведение молодой сотрудницы. У нее несколько дней назад арестовали мужа, капитана советской армии, сотрудника ГРУ. От молодой женщины требовали осуждения собственного мужа. Она стояла белая как полотно и только нервно теребила в руках маленький носовой платок.
Мне не за что его осуждать, – тихо произнесла она. – Он многому меня научил и – главное – преданности нашей Родине. Нет, он не враг народа. Это какое-то недоразумение.
Может быть, стоит подождать окончания следствия? – робко попытался я остановить нараставшую волну гнева присутствовавших в зале.
Но никто уже не обращал внимания на слова несчастной женщины: все было решено заранее, и ее освободили от занимаемой должности, тем самым признав без суда и следствия пособницей «врага народа».
После этого собрания Ильичев вызвал меня в свой кабинет. Начал издалека: «Как дела, как семья?» Он задавал ни к чему не обязывающие вопросы, чтобы завязать разговор. Я отвечал спокойно, односложно, прекрасно понимая, как мало начальника политотдела волнует самочувствие моей жены...
– Ты недавно вернулся из зарубежной командировки, – приступил он наконец к серьезному разговору, – поэтому, может быть, во многом разобраться не успел. Вся наша страна сейчас охвачена энтузиазмом... Борьба с врагами народа будет вестись бескомпромиссно и до конца!
Я внимательно слушал, и он, заметив это, решил перейти к конкретным фактам.
Так вот, – продолжал Ильичев, – мне не нравится, что на собраниях, где разоблачают врагов народа, ты все время молчишь.
Но я же никого в управлении не знаю, – попытался я объяснить свое поведение.
– Это не имеет большого значения. Важно высказать свою принципиальную партийную позицию.
Я продолжал молчать.
– Ну что, например, ты можешь мне сказать о Шалине?
Я, признаюсь, опешил. Речь шла о новом исполняющем обязанности начальника ГРУ. Он еще не успел поработать, а под него уже, вероятно, велся подкоп.
Я повторил те же слова: «Я его совсем не знаю».
Ильичев засмеялся:
– Ну как же ты его не знаешь? Ты чуть ли не каждый день бываешь у него на докладе. Во всяком случае, когда я иду к Шалину, то всегда вижу тебя в его приемной.
– Это верно, – пробормотал я. – Но ведь наши сугубо деловые встречи, как правило, очень коротки.
Но Ильичев не отступал.
– И долго ожидаешь ты приема? – неожиданно спросил он меня.
– Действительно, иногда в ожидании приема проходит слишком много времени, – вяло, просто, чтобы поддержать разговор, отреагировал я.
– Вот видишь, – с радостью подхватил мою фразу Ильичев. – Скоро мы будем обсуждать на партийном собрании поведение Шалина, и тебе на нем надо будет выступить.
Последние слова полковой комиссар произнес безапелляционным тоном, всем своим видом показывая, что разговор окончен.
Итак, думал я, скоро с моей помощью разоблачат еще одного «врага народа» – несчастного полковника Шалина.
Я ушел от Ильичева в раздумье: «Что мне делать? Может, срочно заболеть и не прийти на собрание?..» Но внутренний голос запротестовал: «Трусите вы, Михаил Абрамович, это спасет вас только на время. А почему бы вам не выступить и не сказать правду?»
В общем, наступило время партийного собрания. Народу собралось много. Ильичев сидел на месте председательствующего.
Повестка дня: «Обсуждение неправильного поведения члена ВКП(б) Шалина М.И.»
Первым докладывал Ильичев.
Я сидел, как обычно, где-то позади всех, плохо понимая речь докладчика. После выступления Ильичева начались прения. Выступавшие клеймили Шалина, заявляя, что его работа и поведение на руку врагам народа. Все происходящее отдавало массовым психозом. Я, несмотря на беседу с Ильичевым и совет собственного внутреннего голоса, выступающим в прениях не записался.
И вдруг раздался голос Ильичева:
– Слово имеет капитан Мильштейн.
Я не сразу сообразил, что речь идет обо мне, но кто-то толкнул меня в бок, и я пошел к трибуне. С трибуны я хорошо видел Шалина. Он сидел бледный и, мне показалось, иронически улыбался, глядя на меня.
Страшно нервничая, я говорил довольно невнятно, но смысл сказанного был таков: приходится долго ждать приема, а это нехорошо, теряешь зря время...
– А вы сделайте из сказанного вами политический вывод, – направлял меня Ильичев.
Мой вывод состоял в том, что надо бы лучше организовать время приема. Словом, своим выступлением я и Ильичева не удовлетворил, и перед Шалиным выглядел не самым лучшим образом.
Днем позже в одном из коридоров управления мне пришлось лицом к лицу столкнуться с Шалиным. Я мгновенно залился краской и буквально окаменел от стыда. Но он был и старше меня, и умнее. Положив руку мне на плечо, он просто сказал:
– Не расстраивайтесь. Я все понимаю и на вас не в обиде.
С того дня прошло много времени. Шалин, к счастью, не пострадал, во время войны он ушел на фронт, успешно воевал, был начальником штаба армии, округа и долгое время после победы над фашистами возглавлял ГРУ. Мы много раз встречались, и он никогда об этом эпизоде не вспоминал. Он умер, и, стоя у его могилы, я с горечью вспоминал ту постыдную историю.
Мне, воспитанному на фанатичной вере в гений нашего великого кормчего, казалось, что все, что он делает, уже само по себе должно быть правильным. Если же совершаются ошибки, то он об этом просто не знает, и кровавые преступления лежат на совести недобросовестных людей из его команды. Я свято верил, что справедливость восторжествует, и Сталин непременно накажет всех виновников злодеяний.
А события тем временем развивались стремительно. В ГРУ пришел новый начальник – генерал-полковник авиации Проскуров, назначенный по личному указанию Сталина. Герой испанской войны. Молодой, способный, энергичный военачальник. Для повышения его личного авторитета и авторитета службы разведки Проскуров одновременно был назначен заместителем наркома обороны. Вакханалия с арестами понемногу улеглась. Обстановка стала более стабильной, все почувствовали себя хотя бы на время относительно спокойно.
Под руководством Проскурова было начато постепенное и успешное восстановление разведки.
В 1940 году была развязана советско-финская война, и Проскуров решил отправиться в Ленинград для выяснения обстановки на фронте и проверки работы службы разведки. Человека его ранга в Ленинграде должен был встречать командующий фронтом Тимошенко или его заместитель, но Проскурова встретили какие-то второстепенные офицеры штаба фронта. Начальник ГРУ был недоволен приемом. При личной встрече с Тимошенко Проскуров сделал ему замечание, которое, в свою очередь, явно не понравилось командующему фронтом. Как оказалось в дальнейшем, Тимошенко не забыл обиды и затаил на Проскурова злобу.
После окончания финской кампании маршал Тимошенко был назначен наркомом обороны. Своим первым же приказом Тимошенко снял Проскурова с должности начальника ГРУ. Дальнейшая судьба Проскурова сложилась трагично. Он получил назначение в дальнюю авиацию. Затем был арестован и погиб. На должность начальника ГРУ в 1940 году пришел генерал Голиков.
В советской исторической литературе существуют разные и довольно противоречивые описания его деятельности на этом посту. В некоторых работах можно даже найти мнение, якобы именно на этом генерале лежит вина за несвоевременность решения о приведении войск в боевую готовность накануне начала Великой Отечественной войны. Могу сказать лишь одно: как начальник военной разведки он делал все для того, чтобы наша служба в крайне сложных, чрезвычайных условиях того времени функционировала эффективно и могла успешно выполнять возложенные на нее задачи. В 1941 году Филипп Иванович Голиков ушел на фронт. В дальнейшем он возглавлял советскую военную миссию в Англии и в США. В 1961 году ему было присвоено звание Маршала Советского Союза.
Продолжая работать в ГРУ, я стал свидетелем того, как советская военная разведка, несмотря на понесенные потери, не только восстановила свои прежние связи, но превратилась в одну из самых сильных, если не сильнейшую военную разведку в мире.
Перед войной советская военная разведка своевременно и в полном объеме предоставила политическому и военному руководству страны все необходимые данные о сосредоточении немецких войск, их составе, планах и сроках возможного нападения фашистской Германии на Советский Союз. Военные разведчики работали в крайне тяжелых условиях. Приведу один пример.
Мне самому пришлось наблюдать, в какой сложной ситуации оказался один из крупнейших советских разведчиков – Шандор Радо, работавший в предвоенные годы в Швейцарии.
Радо родился в Венгрии в 1899 году и рано вступил в политическую борьбу на стороне компартии. В 1921 году он принимал участие в III Конгрессе Коминтерна в Москве. В 1929 году окончил Лейпцигский университет и получил специальность географа и картографа. Еще учась в университете, Радо в 1926 году организовал в Берлине картографическое агентство «Прессгеограф», а в 1933 году, после прихода Гитлера к власти, ему удалось перебраться в Париж, где он открыл агентство «Инкпресс». Радо неоднократно бывал в Советском Союзе, и даже некоторое время работал у нас. В военную разведку он был привлечен, находясь в Москве в 1935 году, С.Урицким, который в то время был начальником ГРУ. По заданию Главного разведывательного управления Радо перебрался в Швейцарию, где в августе 1936 года стал владельцем агентства «Геопресс», которое занималось изданием географических карт и книг, освещающих экономические, политические и физико-географические события в мире. С этого времени и начинается его разведывательная деятельность в Швейцарии.
Осенью 1940 года группа Радо, действовавшая под прикрытием «Геопресс», испытывала серьезные финансовые затруднения. Пересылка денег через банки или другим путем могла навлечь подозрения. К тому же Шандор Радо нуждался в новых средствах тайнописи для почтовой переписки, в микрофотоаппаратуре и в других необходимых для разведчика аксессуарах. Центр принял решение доставить Радо необходимый материал и провести инструктаж. Выбор посыльного пал на меня.
Путешествия подобного рода в то время и для таких целей были довольно рискованным занятием. В первую очередь учитывались интересы дела, безопасность Радо и его нужды. Первоначально предполагалось провести встречу в Виши. Но Шандор Радо отказался от этого предложения, посчитав рискованным получение виз и саму поездку в тот район Франции, который не был оккупирован фашистской Германией. Обсудив наши возможности, мы предложили Радо на выбор Белград или Софию. Он согласился на Белград.
И вот в октябре 1940 года кружным и запутанным путем я добрался до Белграда. В назначенный день встретиться с Шандором Радо не удалось. Мне показалось, что место нашей встречи находится под наблюдением спецслужб, и рандеву с ним я перенес на более поздний срок...
О Шандоре Радо – этом выдающемся разведчике и его швейцарской резидентуре – в мировой литературе, посвященной разведке, написано немало. Мне тоже хотелось бы сказать несколько слов о его организации, которая во время войны принесла огромную пользу советскому командованию, предоставляя в самые тяжелые годы сражений с фашистами ценнейшую информацию о вооруженных силах Германии и стратегических планах гитлеровского командования. При этом информация предоставлялась своевременно и была точной.
В облике Радо, его характере, поведении, взглядах не было ничего, что выдавало бы в нем крупного разведчика. Наоборот, на вид он был типичным ученым: невысокого роста, в очках, застенчивый, очень вежливый человек. Таким он навечно остался в моей памяти.
Как же ему удалось создать столь успешно действовавшую, эффективную разведывательную организацию, которой могла бы гордиться любая разведка в мире? Объясняется этот феномен несколькими причинами.
Во-первых, беспроигрышным выбором места расположения резидентуры. Женева находится в самом центре Европы, в нейтральной стране, которая давала приют многим эмигрантам и противникам гитлеровского режима. Во-вторых, было найдено прекрасное прикрытие для разведывательной работы: изготовление географических карт и справочников. В-третьих, очень удачной для разведчика стала и соответственная этому занятию специальность – картограф и географ. При этом Радо был действительно признанным во многих ученых кругах крупным специалистом в своей области. И, наконец, самое главное. Многие в Швейцарии, особенно политические эмигранты, стремились активно участвовать в борьбе против фашистской Германии, так что, когда Гитлер напал на Советский Союз, они сами стали искать пути применения своих связей и возможностей в интересах прежней демократической Германии. Поэтому не случайно, что пик успешной деятельности организации Радо пришелся именно на переломные годы войны на восточном фронте. Таковы некоторые причины, обусловившие успех резидентуры Шандора Радо.
До 1938 года Радо в основном занимался сбором информации самостоятельно, используя свои возможности и связи. В 1938 году ему в подчинение были переданы некоторые люди, в том числе югослав Габель, имевший хорошие связи в Италии, бывший чиновник Лиги Наций, немецкий социал-демократ, принявший швейцарское гражданство, известный под псевдонимом Пуассон. Связь с Центром в этот период осуществлялась на примитивном уровне, и лишь с января 1940 года была установлена устойчивая радиосвязь с Москвой.
Подпольная организация, возглавляемая Шандором Радо, постепенно расширялась. В группу привлекалось все больше новых людей, обладающих ценными источниками информации. Таким, например, был Лонг (псевдоним «Француз»), кавалер Ордена Почетного Легиона, опытный офицер второго бюро французского генштаба. «Француз» успешно сочетал свою разведывательную деятельность с журналистикой. Он еще до войны работал в Берлине корреспондентом ряда влиятельных французских газет. В 1940 году, после поражения Франции, Лонг, не желая сотрудничать с гестаповцами, эмигрировал в Швейцарию и примкнул к сторонникам Шарля де Голля. «Француз» работал в интересах национального комитета «Свободная Франция», который находился в то время в Лондоне. Лонг был также связан с филиалом военной разведки коллаборационистского правительства Петена в Лионе, откуда под разными предлогами получал важную информацию.
Группа Радо, интернациональная по своему составу, была охвачена одним благородным стремлением – помочь быстрейшему разгрому гитлеровской Германии и оказать помощь стране, которая в те годы взяла на себя основное бремя борьбы против Гитлера и его армии. Руководствуясь именно этими мотивами в ноябре 1942 года по рекомендации переводчика Международной организации труда Христиана Шнейдера (псевдоним «Тейлор») к активной разведывательной работе был привлечен его приятель Рудольф Рёсслер, которому дали псевдоним «Люци», по-видимому, потому, что он долгие годы проживал в Люцерне (Швейцария). Рёсслер выразил готовность давать информацию при условии, что он никогда и ни при каких условиях не раскроет своих источников. А, судя по содержанию информации, получаемой от «Люци», он имел свою группу осведомителей среди людей, которые работали во всех важнейших звеньях политического и военного аппарата фашистской Германии. Надо сказать, что подлинное имя «Люци» стало известно и Шандору Радо, и нам в Центре лишь в 1944 году, когда в результате провала группы Радо в Швейцарии началось следствие.
Группа Рёсслера оказалась в буквальном смысле золотой жилой для нашей разведки. Его деятельность продолжалась сравнительно недолго – с 1942 по 1944 год, но «Люци» снабжал Москву информацией, которая существенно способствовала многим важным победам на советско-германском фронте. Речь идет, прежде всего, о Курской битве.
Во многом благодаря именно этому разведчику был раскрыт замысел всей операции фашистов под Курском, получившей кодовое наименование «Цитадель», выявлены состав ударных группировок сухопутных войск и ВВС противника и направление главных ударов. Он же предупредил о появлении новой боевой техники вермахта – танков «тигр», самоходок «пантера» и усовершенствованных моделей самолетов.
Рёсслер своих источников информации так и не выдал, не сумело их раскрыть и гестапо. Это не удалось сделать ни англичанам, ни американцам, несмотря на все их усилия. Надо иметь в виду, что разведчик передавал свои данные и швейцарской разведке, связь с которой он установил еще до Второй мировой войны, благодаря чему «Люци» долгие годы оставался в живых. И все же по настоянию немцев он был арестован швейцарской полицией в апреле 1944 года и погиб, унеся с собой в могилу имена тех безвестных помощников, которые, рискуя жизнью, так много сделали для победы над фашистской Германией.
Радиосвязь Центра с группой Радо была прервана в связи с арестом радистов в ноябре 1943 года. С этого же времени была прекращена всякая активность группы. Многие ее участники, и, прежде всего радисты, были арестованы. Сам Шандор Радо оказался в затруднительном положении. Вопреки возражениям Центра, он обратился за помощью к англичанам, рассказав им о деятельности своей группы. В Москве ему этого не простили, так что по приезде в столицу он был арестован, правда, только на недолгое время.
До этого Радо, спасаясь от ареста в Швейцарии, перебрался в Париж, который к тому времени был уже освобожден от фашистов. Там и произошла его первая встреча с Львом (Леопольдом) Треппером.
В этой связи следует сказать несколько слов и о так называемой «Красной Капелле» – группе Треппера, действовавшей перед войной и короткое время уже в период войны на территории Франции, Бельгии и частично Германии. Об этой группе также написано немало книг и брошюр, в том числе и книга самого Треппера, изданная во многих странах под названием «Большая игра».
Часто группу Треппера сравнивают по своей значимости со швейцарской подпольной организацией Радо, а самого Льва Треппера с Шандором Радо. Это сравнение, на мой взгляд, требует уточнения.
Радо начал свою разведывательную деятельность без особой подготовки, не имея опыта ни нелегальной, ни разведывательной работы. В то же время у Радо было естественное и как бы легальное прикрытие («крыша») для своей деятельности, отвечающее его образованию, специальности и опыту. Как уже говорилось, он был высококлассным специалистом – картографом, широко известным в научных кругах.
Радо жил и работал в Швейцарии, занимаясь разведывательной деятельностью под своей настоящей фамилией и имея на руках официальный паспорт. Деятельность Радо, если судить по рассекреченным материалам, была более эффективной, длительной и ценной, чем группы Треппера.
Что же касается Льва Треппера , то тот, прежде чем приступить к разведывательной работе, прошел большую школу нелегальной партийной деятельности. К разведке он был привлечен через партийные круги в 1937-1938 годы, в пору, когда та переживала смутное время.
В Европе Треппер в роли резидента ГРУ оказался лишь в середине 1938 года. Он имел канадский паспорт на имя промышленника Адама Миллера.
В начале Второй мировой войны организация Треппера находилась лишь в стадии становления. Основная информация от Льва Треппера начала поступать только с января 1941 года. Это, конечно, ни в коем случае не умаляет ее значимости для Центра. Речь идет лишь о сравнении этой информации с той, которая поступала от Радо.
Разгром организации Треппера начался в декабре 1941 года с ареста его радистов. А к ноябрю 1942 года гестапо уже располагало достаточными данными о всей группе Треппера. После этого гитлеровцы приступили к ее ликвидации. Сам Лев Треппер был арестован 24 ноября 1942 года.
Выдержав тяжелейшие испытания и сумев во многом перехитрить и переиграть опытных следователей гестапо, он остался жив.
Необходимо отметить, что Лев (Леопольд) Треппер, Шандор Радо и их организации были во время войны, пожалуй, одними из основных источников информации для советской военной разведки. Между тем Радо и Треппер не знали о существовании друг друга и ни разу не общались во время войны.
Лишь 5 января 1945 года они встретились в Париже при посадке на советский самолет. Два великих разведчика, внесших весомый вклад в победу над заклятым врагом, летели в Москву с надеждой и радостью, измученные и усталые, но довольные тем, что все тяжелые испытания остались позади. Начиналась новая жизнь. Отчетливо обозначилась победа над врагом, ради которой они рисковали своей жизнью и судьбами своих друзей. Этих мужественных людей нельзя было назвать шпионами в обычном смысле этого слова. Да, для гитлеровской Германии они были шпионами, но для стран антигитлеровской коалиции эти выдающиеся разведчики были бойцами невидимого фронта, героически сражавшимися против фашистов. Они вели тайную войну -более сложную и более опасную, чем борьба в открытом бою.
Разведчики летели в Москву через Каир. В Москве Треппера ждала семья – жена и два сына. У Радо в Москве никого не было. В египетской столице самолет совершил посадку.
К отлету авиалайнера из Каира Шандор Радо не явился. Он исчез, судя по всему, опасаясь, и не без основания, возвращения в Москву. Он понимал, как отреагирует Центр на его обращение к англичанам за помощью.
Лев (Леопольд) Треппер, между тем, прилетел в Москву один, и вскоре его арестовали. В 1947 году так называемым «особым совещанием» (в просторечии – «тройкой») он был приговорен к пятнадцати годам тюремного заключения и лишь в 1954 году выпущен из тюрьмы и реабилитирован.
Шандора Радо ГРУ отыскало в Каире в одном из английских лагерей для перемещенных лиц и насильно вывезло в Москву. Ему не удалось избежать преследования (о чем, кстати, разведчик не решился написать в своей книге). Правда, в сталинских застенках он просидел не так долго, как Треппер. Впоследствии он также был реабилитирован.
Дать логическое или хотя бы какое-нибудь разумное объяснение преследованиям КГБ этих двух разведчиков, имевших большие заслуги перед Советским Союзом, невозможно. Их не просто арестовали, но и полностью изолировали от ГРУ, лишив нас возможности с ними встретиться для того, чтобы хоть что-то выяснить, получить необходимые объяснения.
Что же касается многочисленных утверждений гестапо о том, что якобы в результате арестов радистов Треппера и захвата их шифров он успешно вел двойную игру с ГРУ, систематически вводя в заблуждение советское командование и разведку как в отношении военных планов, так и в отношении отдельных источников информации, то это, по меньшей мере, явное преувеличение. Надо сказать, что Главное разведывательное управление вовремя установило провалы радистов и если и продолжало радиосвязь с ними, то лишь для осуществления игры по своим правилам. Но, судя по всему, обе стороны эти игры вели не очень удачно. И Радо, и Треппер в своих книгах много пишут об ошибках Центра. Думаю, это тоже не случайно и связано с попытками оправдать собственные просчеты в работе.
Следует иметь в виду, что перед войной советская военная разведка имела широко разветвленную организацию и использовала самые разнообразные виды и средства связи. Помимо Генерального штаба все штабы приграничных военных округов располагали своими разведотделами. Они использовали не только технические средства связи, но имели и свою агентуру за рубежом. Имелись также соответствующие разведывательные структуры и в штабах всех видов Вооруженных Сил. Данные, поступавшие от различных разведорганов, в том числе зарубежных, в конце концов сосредотачивались в Генштабе. Они обобщались в виде разведсводок, составляемых в сроки, утвержденные начальником Генштаба, и рассыпались по утвержденному им списку.
Так или иначе, но, основываясь на документах и архивных материалах, можно прийти к выводу, что наша военная разведка успешно выполняла свои задачи и вовремя обеспечивала политическое и военное руководство страны необходимыми сведениями о надвигающейся опасности. Добавлю, что информация шла как по каналам военной, так и других видов разведки.
Соглашусь, что не всегда данные были точными и своевременными, поступали сообщения противоречивые, а иногда и ложные. Но нет и не было еще в мире такой разведки, которая всегда и при любых обстоятельствах предоставляла бы только точные сведения! Главная трудность для нашей (и не только нашей) разведки состояла не в том, чтобы добывать информацию, а в том, чтобы в нее поверило политическое и военное руководство – особенно если собранные сведения не укладывались в схему, в плену которой находилось само это руководство.
О чем и когда сообщала военная разведка? Вот лишь некоторые примеры.
21 февраля 1941 года от Радо было получено следующее сообщение: «Германия сейчас располагает на Востоке 150 дивизиями. Наступление Гитлера начнется в конце мая». (Замечу, что, по состоянию дел на февраль, эта дата была указана правильно. Однако в связи с ранее намеченным нападением на Югославию и Грецию начало военных действий против СССР было отложено на 4-5 недель).
От Рихарда Зорге в начале марта 1941 года были получены фотокопии телеграмм министра иностранных дел Риббентропа, в которых тот информировал германского посла в Токио Отта о запланированном нападении Германии на Советский Союз во второй половине июня 1941 года.
20 марта 1941 года начальник Главного разведывательного управления генерал Ф. И. Голиков представил руководству страны доклад, содержавший сведения исключительной важности. В этом документе назывались возможные направления ударов немецко-фашистских войск при нападении на Советский Союз. Как потом выяснилось, эти данные последовательно отражали этапы разработки гитлеровским командованием плана «Барбаросса», а в одном из вариантов практически была изложена суть этого плана.
Правда, в конце доклада говорилось о том, что слухи и документы, говорящие о неизбежности войны Германии против СССР весной этого года, необходимо расценивать как дезинформацию. Как понимать этот вывод? Думаю, что, если бы Голиков в конце доклада не сделал такого вывода, этот документ никогда не дошел бы до Сталина. Такие были времена. Но текст доклада говорил сам за себя, и он полностью снимает обвинения с военной разведки. В дальнейшем стал известен еще один подписанный Филиппом Ивановичем Голиковым подробный доклад о сосредоточении немецких войск на советской границе. Он датирован 5 мая 1941 года и был адресован Сталину, Молотову и другим руководителям ВКП(б) и советского государства. В выводах говорилось о том, что «необходимо считаться с дальнейшим усилением немецкого сосредоточения против СССР».
Много важных данных было получено от работника германского посольства в Москве Герхарда Кегеля, который начал сотрудничать с нашей военной разведкой еще в 1939 году. Так, 11 июня 1941 года он сообщил, что немецкое посольство в Москве 9 июня получило из Берлина приказ подготовиться к эвакуации в течение семи дней, и в связи с этим в подвальном помещении посольства сжигаются секретные документы.
12 июня Шандор Радо известил Центр: «Общее наступление на СССР начнется на рассвете, в воскресенье, 22 июня».
А вот сообщение от Рихарда Зорге , датированное 15 июня: «Нападение на СССР произойдет по широкому фронту на рассвете 22 июня».
Со своей стороны 20 июня Кегель проинформировал ГРУ о приближении начала войны и о том, что, по его данным, нападение произойдет в субботу, 21-го или в воскресенье, 22 июня. В тот же день он сообщил, что по уточненным данным война начнется на рассвете 22 июня!
Это только фрагменты общей картины. Все эти данные приведены, в частности, для того, чтобы показать, как эффективно работала агентурная разведка перед началом войны, то есть в то самое время, когда я был заместителем начальника управления. Естественно, что в организации работы разведки я, наряду с другими сотрудниками ГРУ, принимал непосредственное и активное участие.
Итак, на мой взгляд, бесспорно одно: политическое и военное руководство Советского Союза своевременно располагало достаточными данными о подготовке и сроках нападения фашистской Германии на СССР. Почему же не были приняты обязательные в таком случае широкомасштабные меры для отражения агрессии? Почему страна не предстала во всеоружии перед лицом врага? Ведь сил и средств для этого, по общему признанию, было достаточно. Кто в первую очередь виноват в преступном бездействии?
Не столь трудно отыскать главную фигуру, по вине которой германскому командованию удалось осуществить внезапное на падение, нанести нам в первые дни войны колоссальные и неоправданные потери и поставить нашу страну и Вооруженные Силы в тяжелое положение. Учитывая, что Сталин в то время единолично принимал все без исключения важнейшие решения по государственным и военным вопросам, его, без сомнения, следует назвать главным виновником. Дело в том, что Сталин с упорством маньяка не доверял данным военной разведки. Он решительно отвергал их, считал все сведения о подготовке Гитлером нападения на Советский Союз обычной западной, главным образом английской, дезинформацией, а то и просто провокацией. Сталин не верил не только разведчикам, но и нашим послам, которые из разных стран слали тревожные депеши. Он не поверил британскому премьеру Уинстону Черчиллю, лично передавшему через английского посла в СССР Крипса информацию о готовности нацистов напасть на Советский Союз. Он, наконец, не послушал даже немецкого посла в СССР Шуленбурга, который, рискуя жизнью, отважился предупредить наше руководство о решении Гитлера начать войну 22 июня. Сталин лишь резюмировал: «Будем считать, что дезинформация пошла на уровне послов». И даже, когда неизвестный немецкий перебежчик буквально за несколько часов до нападения пересек границу и сообщил, что в войсках уже зачитан приказ о наступлении, «вождь всех народов» все еще считал, что это провокация. Парадоксально, но факт: вплоть до первых минут кровавой бойни Сталин доверял лишь одному человеку – Гитлеру.