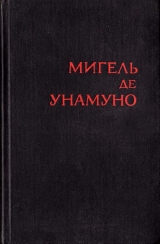
Текст книги "Авель Санчес"
Автор книги: Мигель де Унамуно
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
XIII
Антония родила Хоакину дочь. «Дочь, – сказал он себе, – а у него – сын!» Но тут же отогнал от себя дурные мысли, которые принялся нашептывать ему злокозненный дух. И Хоакин. возлюбил свою дочь со всей силой присущей ему страсти, а с дочерью вместе и мать. «Она отомстит за меня», – решил он, вначале даже не зная, кому, собственно, должна она будет мстить, но затем передумал: «Нет, поможет духовному моему обновлению».
«Впоследствии я начал записывать все это, – рассказано в «Исповеди», – для моей дочери, чтобы после моей смерти она могла узнать правду о несчастном своем отце, могла пожалеть его и полюбить его. Глядя, как она спит в колыбели, такая невинная и безгрешная, я размышлял о том, чтобы вырастить ее незапятнанно чистой. А для этого мне надо самому очиститься от своей скверны, излечить зачумленную свою душу. И вот я решил сделать так, чтобы она любила всех и прежде всего их. Тут-то, над безгрешною ее колыбелью, я поклялся освободиться от адских своих цепей… Я должен был стать глашатаем славы Авеля».
Закончив свою картину, Авель Санчес отнес ее на выставку, где она завоевала всеобщее признание и где ею восторгались как великим произведением. Авелю была присуждена медаль.
Хоакин ходил на выставку и подолгу простаивал перед картиной. Он смотрел на нее, словно гляделся в зеркало, стремясь перехватить пытливые взоры посетителей, которые, как ему казалось, злорадно смаковали сходство между ним, Хоакином, и тем Каином, что был изображен на холсте.
«Меня мучило подозрение, – записал он в своей «Исповеди», – что, создавая своего Каина, Авель Санчес думал обо мне, припоминал самые неуловимые оттенки давнего нашего разговора, состоявшегося в его мастерской, когда он поведал мне о своем желании писать эту, картину и когда он прочел мне отрывки из книги Бытие, а я, забыв про библейского Каина, настолько погрузился в себя, что обнажил перед ним свою больную душу. Но нет! Не было в Авелевом Каине даже малейшего сходства со мной, он вовсе не думал обо мне, когда работал! А значит, он вовсе и не презирал меня, не писал его, презирая меня, и Елена тоже ничего не говорила ему обо мне. G них довольно было и того, что они заранее предвкушали триумф. Они и думать-то не думали обо мне!
И мысль о том, что они даже не думали обо мне, даже не ненавидели меня, всего более заставляла меня страдать. Я бы предпочел, чтобы он ненавидел меня с той же силой, с какой ненавидел его я. Это уже было бы что-то. И это «что-то» даже могло стать моим спасением».
После мучительных раздумий Хоакин измыслил наконец хитроумный план. Он предложил почтить триумф Авеля банкетом. На правах стариннейшего друга все хлопоты по его устройству Хоакин взял на себя.
Как оратор Хоакин пользовался некоторой славой. В медицинской академии он превосходил всех своих коллег острым, рассудочным словом, точным и, как правило, саркастическим. Его выступления нередко бывали для увлекающихся неофитов холодным душем, запоминающимся уроком пессимистического скептицизма. Обычно он развивал ту мысль, что в медицине нет ничего точного, что все в ней построено на одних лишь гипотезах, более или менее остроумных догадках, что единственно серьезный подход – это сомнение. И потому, когда разнесся слух, что устроителем банкета будет Хоакин, большинство ожидало услышать язвительную, двусмысленную речь, саркастическое восхваление сухой, рассудочной живописи, заранее предвкушая удовольствие от того, какому безжалостному, хотя и облеченному в лестную форму, анатомированию эта живопись подвергнется. И какая-то ехидная ухмылка появлялась на лицах тех, кто хоть однажды слышал отзыв Хоакина о живописи Авеля. О возможной опасности дали понять Авелю.
– Вы ошибаетесь, – ответил Авель. – Я знаю Хоакина и не верю, что он способен на гадость. Знаю некоторые его чудачества, но у него настоящее художественное чутье, и он скажет такое, что стоит послушать. Кстати, я собираюсь написать его портрет.
– Портрет?
– Да, да, вы ведь не знаете его так, как я. У Хоакина огненная, мятущаяся душа.
– Более холодного человека…
– Так только кажется. И под холодным покровом может полыхать такой внутренний огонь, который сжигает…
Суждение Авеля дошло до ушей Хоакина и внесло в его душу еще больше сомнений и колебаний. «Действительно, каково его мнение обо мне? – рассуждал Хоакин. – Неужто и вправду он принимает меня за человека с огненной, мятущейся душой? Быть может, он и впрямь считает меня жертвой капризов судьбы?»
И тут он совершил то, что заставило его впоследствии глубоко устыдиться. Произошло это так: к ним в дом поступила прислуга, ранее служившая у Авеля. Хоакин стал обхаживать ее, делать какие-то двусмысленные намеки – впрочем, не компрометирующие его, – и все это только для того, чтобы выведать у нее, что говорили о нем, Хоакине, в доме Авеля.
– Ну не стесняйся, скажи: разве ты не слышала, что они там говорили обо мне?
– Ничего не слышала, хозяин.
– Неужели они никогда обо мне не говорили?
– Да нет, упоминать-то, кажется, упоминали, но ничего особенного не говорили.
– Так-таки ничего и не говорили?
– Я по крайней мере ничего не слыхала. За столом они разговаривают мало, а если и говорят, так все обыкновенное… Да еще про картины хозяина…
– Понятно. Так, значит, обо мне ни слова?
– Я по крайней мере не вспоминаю.
Расставшись со служанкой, Хоакин почувствовал к себе непреодолимое отвращение. «Должно быть, я выгляжу совершенным идиотом, – решил он. – Что подумает обо мне эта девчонка?» И так стала его угнетать эта мысль, что он настоял на том, чтобы под первым же благовидным предлогом служанка была уволена. «А что, если, – спохватился Хоакин вскоре после того, как ее уволили, – она вернется к Авелю и все расскажет?» И он уже готов был просить жену, чтобы она вернула служанку. Но так и не решился. И теперь он с опаской выходил на улицу, боясь ее повстречать.
XIV
Наступил день банкета. Накануне Хоакин не спал всю ночь.
– Иду давать бой, Антония, – сказал он жене, прощаясь.
– Да просветит тебя господь, и да не оставит он тебя советом, Хоакин.
– Только взгляну на дочку, на бедную мою Хоакиниту…
– Да, да, пойди взгляни на нее. Она спит…
– Бедняжка! Она еще не знает, что значит быть одержимым! Но я клянусь тебе, Антония, что сумею изгнать беса, вселившегося в меня. Я его вырву, задушу и брошу к ногам Авеля… С какой радостью я поцеловал бы ее если б не боялся разбудить…
– Не бойся, Хоакин! Поцелуй ee!
Отец наклонился и поцеловал спящую дочь, а она ответила ему во сне сладкой улыбкой.
– Видишь, Хоакин, она тоже благословляет тебя.
– До свидания, жена! – И он поцеловал ее долгим-долгим поцелуем.
А когда он ушел, Антония опустилась на колени перед изображением богоматери.
За обычной банкетной болтовней угадывалось злорадное ожидание. Хоакин, сидевший по правую руку от Авеля, был очень бледен. Он почти не ел и все время молчал. Сам Авель начал мало-помалу чего-то опасаться.
После десерта послышалось шиканье, и начала устанавливаться тишина. Кто-то сказал: «Пусть скажет речь!» Хоакин поднялся. Он начал дрожащим, глухим голосом, но постепенно голосокреп и зазвучал с какой-то совершенно новой, неожиданной интонацией. В тишине, заполнившей зал, был слышен только его голос. Удивление было всеобщим. Еще никогда не произносилась хвала столь зажигательная, столь пылкая, преисполненная такой восторженности и тепла к произведению и его автору. Когда же Хоакин стал вспоминать о годах детства, проведенных вместе с Авелем, о годах, когда еще ни тот, ни другой не подозревали, что им сулит грядущее, многие почувствовали, как на глаза у них навертываются слезы…
– Никто не знает его лучше, чем я, – говорил Хоакин. – Мне кажется, что тебя, Авель, я постиг глубже, чем самого себя, во всяком случае – объективнее, а тем самым и чище, ибо, копаясь в себе, мы замечаем лишь грязь, прах, из которого мы сотворены. Только в других мы способны заметить то лучшее, что заключено в нас самих, способны полюбить его. И способность эта выражается в преклонении и восторге. В своем искусстве он достиг того, чего я хотел достигнуть в своем. Уже по одному этому он для меня великий образец; его слава служит мне стимулом в работе и утешает меня, когда я думаю о той славе, которой сам я добиться не смог. Он принадлежит нам всем; но мне – больше других, и я, восторгаясь его картиной, тем самым присваиваю ее себе, делаю ее настолько же своей, насколько она принадлежит ему, ее создателю. И в этом я нахожу утешение для своей посредственности.
Его голос временами звучал как стон. Присутствующие были подавлены, смутно прозревая гигантскую драму этой души, пребывающей в борении с демоном.
– Взгляните на фигуру Каина, – продолжал Хоакин, как бы по капле роняя рдеющие от жара слова, – трагического Каина, странствующего землепашца, первого градостроителя, отца всякого ремесла, прародителя зависти и гражданского общежития! Взгляните на эту фигуру! Взгляните, с какой нежностью, с каким состраданием с какой любовью к несчастному написана эта картина. Бедный Каин! Наш Авель Санчес любуется Каином, подобно тому как Мильтон любовался Сатаной, он влюблен в своего Каина, как Мильтон был влюблен в своего Сатану, ибо любование означает любовь, а любовь означает сострадание. Наш Авель проникся пониманием катастрофы, незаслуженного несчастья того, кто убил первого Авеля. А ведь, согласно библейской легенде, с убийством Авеля на землю ступила смерть. Наш Авель дает нам понять вину Каина – ибо он был виновен, – но в то же время он вызывает сочувствие к нему, заставляет его полюбить… Эта картина – акт великой любви!
Когда Хоакин кончил, в зале воцарилось молчание, которое сменилось шквалом аплодисментов. И тогда поднялся Авель и, бледный, смущенный, взволнованный, со слезами на глазах, сказал своему другу:
– Хоакин, то, что ты сейчас сказал, куда выше моей картины, всех картин, которые я написал, всех, которые я напишу… Твоя речь – вот, вот подлинное произведение искусства, творение великой души. А ведь до сих пор я и сам не подозревал, что у меня вышло. Не я, а ты истинный создатель этой картины, только ты!
Закадычные друзья, зарыдав, обнялись под грохот аплодисментов и приветственные возгласы собравшихся, которые от избытка чувств повскакали со своих мест. И пока они обнимались, дьявол шептал Хоакину: «Если бы ты мог задушить его в своих объятиях…»
– Изумительно! – раздавалось со всех сторон. – Какой оратор! Какая речь! Кто бы мог ожидать? Как жаль, что никто не догадался пригласить стенографов.
– Это необыкновенно! – восклицал один из гостей. – Наверное, мне уже никогда не доведется услышать ничего подобного.
– У меня, – восклицал другой, – по телу, мурашки бегали!
– Но смотрите, смотрите, как он, однако, побледнел!
И это была правда. Хоакин почувствовал себя после победы побежденным, почувствовал, как погружается в бездну грусти. Нет, дьявол его не покинул. Эта речь была таким успехом, какого он никогда не испытывал и какого он никогда не испытает. Успех пробудил в нем искушение целиком отдаться ораторскому искусству, чтобы на этом поприще снискать славу, которая бы затмила славу Авеля-живописца.
– Ты видел, как плакал Авель? – спрашивал уже при выходе один из присутствовавших.
– Это оттого, что речь Хоакина стоит всех его картин. Своей речью он создал эту картину. Надо будет так и назвать ее: «Картина на мотив речи…» Отбрось речь – и что останется от картины? Ровнехонько ничего, за исключением первойпремии!
Когда Хоакин вернулся домой, Антония поспешила ему навстречу и обняла его.
– Мне уже все известно, мне рассказали. Вот видишь! Теперь ты убедился, кто стоит большего! Пусть знает, что если его картина чего-нибудь да стоит, то только благодаря твоей речи.
– Верно, Антония, верно, но…
– Какое же «но»? И ты все еще…
– Да, я все еще… Не хочурассказывать вещи, которые злой демон нашептывал мне, пока мы обнимались…
– Нет, нет, лучше не рассказывай, молчи!
– Так закрой мне рот.
И Антония закрыла ему рот долгим, жадным, влажным поцелуем; глаза ее были затуманены слезами.
– Что же, может быть, так тебе и удастся изгнать злого демона, выпить его из меня поцелуями…
– Чтобы он вселился в меня, не так ли? – попыталась отшутиться бедняжка.
– Да, попробуй высосать его из меня, тебе он не принесет. – вреда, в тебе он наверняка умрет – утонет в твоей крови, как в святой воде.
Когда же Авель, вернувшись домой, остался наедине с Еленой, она сказала:
– Ко мне заходили и рассказывали о речи Хоакина. Он чуть было не испортил твое торжество… чуть было не затмил тебя!..
– Не говори так, жена, раз ты сама не слышала.
– Какая разница? Мне же все рассказали.
– Он говорил от чистого сердца. Он потряс меня.
Даю слово, что я сам не подозревал, что я пишу, пока не услышал его объяснений.
– Не верь Хоакину… Не верь ему… Если он хвалит, значит, он что-то задумал…
– А почему он не мог сказать то, что чувствует?
– Ты сам знаешь, что он просто лопается от зависти к тебе…
– Замолчи!
– Да, да, лопается, подыхает от зависти…
– Замолчи, немедленно замолчи, Елена!
– И это вовсе не из ревности – он меня уже не любит, если только он вообще когда-нибудь меня любил… а из простой зависти… зависти…
– Замолчи! Немедленно замолчи! – прорычал Авель.
– Хорошо, я замолчу, но ты сам увидишь…
– Я уже видел, слышал, и хватит с меня. Замолчи, говорю я тебе!
XV
Но увы! Героическое усилие на банкете не излечило несчастного Хоакина.
«Я начал раскаиваться в своей речи, – записал он в «Исповеди», – сожалеть о том, что не дал выхода затаенной своей страсти и не попытался таким образом от нее избавиться, – сожалеть, что не решился покончить с ним как художником, обнажив всю фальшивую нарочитость его искусства, его подражательность, его холодную, рассудочную технику, отсутствие в нем подлинной души и человеческого тепла. Одним словом, я раскаивался в том, что не убил его славу художника. Сказав правду, определив его заслуги по справедливой цене, я бы мог избавиться от снедающей меня ненависти. Кто знает, быть может, Каин – тот, библейский, убивший другого Авеля, – быть может, он даже возлюбил своего брата, когда увидел его поверженным. Но, так или иначе, речь на банкете послужила причиной моего обращения. С того времени я обрел веру».
То, что Хоакин назвал в своей «Исповеди» обращением, было вот чем: Антония, его супруга, видя, что речь на банкете, исцеления не принесла, и опасаясь, что исцеление тут вообще невозможно, стала склонять Хоакина к религии предков, к собственной ее религии, к религии его дочери, к молитве.
– Ты должен сходить на исповедь…
– Ты же знаешь, что вот уже много лет я не бывал в церкви…
– Тем более.
– Но если я не верю во все это…
– Так тебе кажется. Святой отец говорил мне, что все вы, люди науки, воображаете, будто не верите, а на самом деле верите. Я знаю, что вера, которой тебя обучала мать, которой я обучу нашу дочь…
– Хорошо, хорошо, оставь меня!
– Нет, не оставлю. Сходи на исповедь, прошу тебя.
– А что скажут те, кто знает мой образ мыслей?
– Ах, вот в чем дело! Давно ли ты стал считаться с чужим мнением?
Разговор этот, однако, запал Хоакину в душу, и он стал вопрошать себя, действительно ли он не верит, а если и не верит, то не попробовать ли все же обратиться за исцелением к церкви. И он начал посещать храм, подчас даже демонстративно, как бы бравируя перед теми, кто знал его далеко не религиозные настроения. Так в конце концов отправился он к исповеднику. И там, в исповедальне, он обнажил свою душу.
– Я ненавижу его, отец, ненавижу всей душой, и, не верь я, как верю, не желай я верить, как хочу верить, я убил бы его…
– Но согласитесь, сын мой, это не есть ненависть: это же зависть…
– Всякая ненависть есть зависть, отец; всякая ненависть есть зависть.
– Вот и надо вместо нее воспитать в себе дух благородного соревнования, попытаться достичь совершенства в своей профессии и, служа господу, служить ей как можно лучше…
– Не могу, не могу я работать! Его слава не дает мне покоя.
– Надо сделать над собой усилие… Для этого-то и дарована человеку свобода…
– Я не. верю в свободу воли, отец. Я врач.
– Однако…
– В чем провинился я, что бог создал меня таким злобным, завистливым, скверным? Что за отравленную кровь передал мне отец!
– Сын мой… сын мой…
– Нет, не верю я в человеческую свободу, а тот, кто не верит в свободу, не бывает свободен. Нет, я не свободен! Быть свободным – значит верить в то, что ты свободен!
– Вы злой, потому что не верите в бога.
– А разве неверие в бога есть злоба, отец?
– Я не хочу этого сказать, но то, что ваша злобная страсть проистекает от неверия в бога…
– Но тогда я снова могу спросить: разве неверие в бога есть злоба?
– Да, злоба.
– Но я ведь разочаровался в боге потом, оттого что ов сотворил меня злым, подобно тому как он сотворил злым и Каина. Сам бог сотворил меня неверующим…
– Он сотворил вас свободным…
– Да, свободным для зла.
– Но и для добра!
– Зачем я родился, отец?
– Спросите-ка лучше, для чего вы живете…
XVI
Авель написал деву Марию с ребенком. Это был точный портрет Елены с маленьким Авелем на руках. Картина имела успех, с нее были сделаны фоторепродукции, и вот перед одной из таких роскошных фоторепродукций стоял на коленях Хоакин и восклицал, обращаясь к богородице:
– Спаси и помилуй мя!
Но в то время как он так молился, бормоча вполголоса какие-то слова, словно прислушиваясь к ним, другой голос, более глубокий, шедший откуда-то изнутри, нашептывал ему: «Если бы он умер! Если бы он оставил ее свободной!» И слова молитвы не могли заглушить этот голос.
– Ты что, решил заделаться мракобесом? – однажды спросил Хоакина Авель.
– Я?
– Да, да, ты! Я слышал, будто ты бросился в объятия церкви, ходишь ежедневно к обедне… Ну, а поскольку ты никогда не верил ни в бога, ни в черта, да и вообще так просто обращения не совершаются, то вот я и решил, что ты заделался мракобесом!
– А тебе что?
– Ничего, я вовсе не требую отчета, но… скажи, ты действительно веришь?
– Мне необходимо верить.
– Тогда другое дело. Но веришь ли ты в самом деле?
– Я тебе ответил, что мне необходимо верить, а потому лучше не спрашивай.
– А вот мне так хватает своего искусства; в нем и заключается моя вера.
– То-то ты пишешь пречистых дев…
– Да, я написал Елену.
– Ну, такой, пожалуй, ее не назовешь…
– Для меня она именно такая. Она мать моего сына…
– И только?
– Всякая мать – пречистая дева, поскольку она мать.
– Ты, кажется, ударился в теологию?
– Черт его знает, но я ненавижу мракобесие и ханжество. Мне сдается, что все это – порождение зависти, и меня, признаться, очень удивляет, что и ты вырядился в общий мундир, ты, которым так отличаешься от толпы жалких посредственностей.
– Интересно, интересно, объясни-ка это получше Авель!
– Все очень просто. Умы примитивные, вульгарные, не могущие возвыситься над посредственностью, не переносят успеха других и стремятся поэтому напялить и на них мундир общепринятой догмы, скроенный по единому образцу, лишь бы те ничем не выделялись. В основе всякой ортодоксии – поверь, будь то в религии, будь то в искусстве – лежит зависть. Все мы имеем возможность одеваться как нам заблагорассудится, но один шьет себе наряд, оттеняющий природное изящество фигуры его владельца, и таким образом привлекает к себе внимание женщин, другому же человеку, вульгарному и безвкусному, вздумай он подражать, тот же костюм пошел бы как корове седло. Потому-то люди вульгарные, бездарные и безвкусные – а это все завистники – и измыслили некое подобие мундира, некую единообразную моду, а мода – один из видов ортодоксии. Не обманывайся, Хоакин, то, что именуют опасными, безбожными, неправедными идеями, это лишь те идеи, которые не подходят для нищих разумом, для тех, кто не имеет ничего своего, ни капли оригинальности, а разве только обычный так называемый здравый смысл да запас общепринятых суждений. Всего больше ненавидят они воображение, ибо сами отродясь его не имели.
– А даже если бы так оно и было на самом деле, – воскликнул Хоакин, – разве те, кого презрительно называют вульгарными, примитивными посредственностями, разве не имеют они права на самозащиту?
– А ты помнишь, как в прошлый раз ты защищал в моем доме Каина, этого великого завистника, а потом еще в своей незабываемой речи, которую я и умирая буду помнить, в той речи, которой я так обязан своей репутацией, разве ты не учил нас, не учил меня понимать душу Каина? Но ведь Каин уж ни в коем случае не был примитивным, не был вульгарным, не был посредственностью…
– Зато он был отцом всех завистников…
– Да, но это была совсем иная зависть, ничего не имеющая общего с завистью этих людишек… В зависти Каина было величие; зависть же фанатичного инквизитора – нечто ублюдочно жалкое, ничтожное. И мне грустно видеть тебя среди подобных инквизиторов.
«А ведь он, – размышлял по его уходе Хоакин, – просто читает в моей душе! И притом, кажется, вовсе не подозревает того, что происходит во мне. Он размышляет и говорит, как рисует, не зная, что говорит и что рисует. Он весь – интуиция, хоть я и пытаюсь усмотреть в нем рассудочного ремесленника…»








