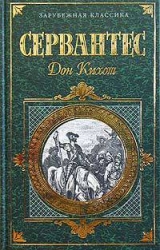
Текст книги "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Часть 1"
Автор книги: Мигель де Сервантес Сааведра
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Этого-то я и добиваюсь, скажу вам по чистой совести, – заговорил Санчо, – на это я и возлагаю надежды, потому оно как по писаному и выйдет, коли за это возьмется ваша милость, сиречь Рыцарь Печального Образа.
– Можешь не сомневаться, Санчо, – заметил Дон Кихот, – ибо таким путем и по тем же самым ступеням странствующие рыцари и восходили на королевский и императорский престолы. Теперь нам остается только узнать, кто из христианских или языческих королей ведет войну и у кого из них есть красавица дочь. Но об этом у нас еще будет время подумать, ибо, как я уже сказал, прежде чем являться ко двору, необходимо прославиться где-нибудь в другом месте. Притом мне еще кое-чего недостает: положим даже, есть на свете такой воюющий король с красавицей дочкой, а невероятная моя слава прогремела во всей вселенной, но я себе не представляю, может ли так получиться, что я окажусь принцем крови или, по крайней мере, троюродным братом императора. Ведь король, не получив достоверных сведений, не пожелает выдать за меня свою дочь, хотя бы славные мои деяния заслуживали большего. И вот через этот изъян я рискую потерять то, что я вполне заслужил своею доблестью. Правда, я происхожу из старинного дворянского рода, я – помещик и землевладелец, за нанесенные мне обиды я имею право взыскивать пятьсот суэльдо,[163]163
…за нанесенные мне обиды… пятьсот суэльдо… – К числу преимуществ дворянства относилось право требовать за обиду, причиненную лицом «низкого» сословия, денежный штраф.
[Закрыть] и весьма возможно, что тот ученый муж, который возьмется написать мою историю, до такой степени точно установит мое родство и происхождение, что я окажусь внуком короля в пятом или шестом колене. Надобно тебе знать, Санчо, что родословные бывают двух видов: иные ведут свое происхождение от владетельных князей и монархов, однако род их с течением времени постепенно оскудевает и суживается, подобно перевернутой вниз острием пирамиде, иные вышли из простонародья, но мало-помалу поднимаются со ступени на ступень и наконец становятся знатными господами. Таким образом, разница между ними та, что одни были когда-то тем, чем они уже не являются ныне, а другие ныне являются тем, чем они не были прежде. И может статься, что я принадлежу к первым, то есть выяснится наконец, что предки у меня были великие и славные, и король, мой тесть, каковым ему надлежит стать, вне всякого сомнения этим удовольствуется, а если и не удовольствуется, то все равно инфанта воспылает ко мне столь страстной любовью, что, наперекор родительской воле и хотя бы она знала наверное, что я сын водовоза, наречет меня своим повелителем и супругом. Если же нет, то самый верный способ – похитить ее и увезти, куда мне заблагорассудится, а гнев родителей укротят время и смерть.
– Стало быть, верно говорят иные негодники: «Не проси честью того, что можно взять силой», – заметил Санчо. – Впрочем, сюда еще больше подходит другая поговорка: «Лихой наскок лучше молитвы добрых людей». Говорю я это к тому, что если сеньор король, тесть вашей милости, не соизволит выдать за вас сеньору инфанту, то придется, как говорит ваша милость, похитить ее и куда-нибудь отправить. Да вот беда: пока вы не помиритесь и пока не начнется ваше мирное царствование, бедный оруженосец в ожидании милостей будет, поди, щелкать зубами. Разве только служанка-наперсница, будущая его супруга, последует за инфантой, и он, пока небо не распорядится иначе, станет делить с ней горе пополам, – ведь его господину, думается мне, ничего не стоит сделать так, чтобы служанка тут же сочеталась с ним законным браком.
– Никаких препятствий к тому я не вижу, – заметил Дон Кихот.
– А коли так, – подхватил Санчо, – то нам остается лишь поручить себя воле божьей и положиться на судьбу, а уж она сама приведет нас к лучшему.
– Да исполнит господь мое желание, – молвил Дон Кихот, – и да пошлет он и тебе, Санчо, то, в чем ты нуждаешься, а ничтожество да будет уделом того, кто за ничтожество себя почитает.
– Дай-то бог, – сказал Санчо. – Ведь я чистокровный христианин, а для того, чтобы стать графом, этого достаточно.
– Более чем достаточно, – возразил Дон Кихот. – Даже если б ты и не был таковым, то это ничему бы не помешало: когда я воссяду на королевский престол, ты у меня сей же час получишь дворянство, и тебе не придется ни покупать, ни выслуживать его. Стоит мне пожаловать тебя графом – и вот ты уже и дворянин, а там пусть говорят, что хотят; честью клянусь, что каждый волей-неволей станет величать тебя ваше сиятельство.
– А уж я графского устроинства не посрамлю, можете быть уверены! – сказал Санчо.
– Достоинство должно говорить, а не устроинство, – поправил его Дон Кихот.
– Пусть будет так, – согласился Санчо Панса. – Я хочу сказать, что отлично сумею к нему приноровиться: мне одно время, – ей-богу, не вру, – довелось прислуживать в одном братстве, и платье служителя мне очень даже шло, и все говорили, что с моей внушительной осанкой мне впору быть в том же самом братстве за главного. А если я накину себе на плечи герцогскую мантию, стану ходить в золоте да в жемчуге, что твой иностранный граф? Головой ручаюсь, что со всех концов начнут стекаться, только чтобы на меня поглазеть.
– Вид у тебя будет благопристойный, – сказал Дон Кихот. – Однако тебе придется чаще брить бороду, а то она у тебя густая, всклокоченная и растрепанная, и если ты не возьмешь себе за правило бриться, по крайней мере, через день, то на расстоянии мушкетного выстрела будет видно, кто ты есть на самом деле.
– Да на что проще – нанять брадобрея и держать его при себе на жалованье? – сказал Санчо. – В случае нужды он за мной по пятам будет ходить, как все равно конюший за грандом.
– А почем ты знаешь, что конюшие ходят за грандами? – спросил Дон Кихот.
– Сейчас вам скажу, – отвечал Санчо. – Назад тому несколько лет я прожил месяц в столице, и мне довелось видеть, как прогуливался один очень низенький господин, хотя про него говорили, что это особа весьма высокопоставленная, и куда бы он ни свернул – всюду за ним хвостом какой-то человек верхом на коне. Я спросил, отчего этот человек никогда не поравняется с ним, а все держится позади. Мне ответили, что это его конюший и что у грандов такой обычай – всюду таскать конюшего за собой. И так я тогда крепко запомнил эти слова, что они у меня и по сию пору сохранились в памяти.
– Должен сказать, что ты прав и что у тебя есть основания к тому, чтобы за тобой ходил брадобрей, – заметил Дон Кихот. – Обычаи устанавливаются и вводятся не вдруг, но постепенно, и ты смело можешь быть первым графом, за которым ходил брадобрей. К тому же бреющий бороду – лицо более доверенное, нежели седлающий коня.
– Что касается брадобрея, то это уж моя забота, – сказал Санчо, – а забота вашей милости – постараться стать королем и произвести меня в графы.
– Так оно и будет, – подтвердил Дон Кихот.
Тут он поднял глаза и увидел нечто такое, о чем пойдет речь в следующей главе.

Глава XXII
о том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых насильно вели туда, куда они не имели ни малейшего желания идти

Сид Ахмет Бен-инхали, писатель арабский и ламанчский, в своей глубокомысленной, возвышенной, безыскусственной, усладительной и занятной истории рассказывает, что славный Дон Кихот Ламанчский, обменявшись со своим оруженосцем Санчо Пансой мнениями, которые приводятся в конце главы XXI, поднял глаза и увидел, что навстречу ему по той же самой дороге идут пешком человек двенадцать, нанизанных, словно четки, на длинную железную цепь, обмотанную вокруг их шеи, все до одного в наручниках. Цепь эту сопровождали двое верховых и двое пеших, верховые – с самопалами, пешие же – с копьями и мечами; и Санчо Панса, едва завидев их, молвил:
– Это каторжники, королевские невольники, их угоняют на галеры.[164]164
Галера – гребное судно. Здесь имеется в виду наказание, к которому приговаривались преступники: их приковывали к бортам галеры, и им приходилось грести до полного изнеможения.
[Закрыть]
– Как невольники? – переспросил Дон Кихот. – Разве король насилует чью-либо волю?
– Я не то хотел сказать, – заметил Санчо. – Я говорю, что эти люди приговорены за свои преступления к принудительной службе королю на галерах.
– Словом, как бы то ни было, – возразил Дон Кихот, – эти люди идут на галеры по принуждению, а не по своей доброй воле.
– Вот-вот, – подтвердил Санчо.
– В таком случае, – заключил его господин, – мне надлежит исполнить свой долг: искоренить насилие и оказать помощь и покровительство несчастным.
– Примите в соображение, ваша милость, – сказал Санчо, – что правосудие, то есть сам король, не чинит над этими людьми насилия и не делает им зла, а лишь карает их за преступления.
В это время приблизилась цепь каторжников, и Дон Кихот с отменною учтивостью попросил конвойных об одном одолжении, а именно – сказать и объяснить ему, что за причина или, вернее, что за причины, заставляющие их вести этих людей таким образом. Один из верховых ответил, что это каторжники, люди, находящиеся в распоряжении его величества, и что отправляются они на галеры, – это, дескать, все, что он может ему сообщить, а больше ему и знать не положено.
– Со всем тем, – возразил Дон Кихот, – я бы хотел знать, какая беда стряслась с каждым из них в отдельности?
Засим он наговорил конвойным столько любезностей и привел столько разумных доводов, чтобы побудить их исполнить его просьбу, что второй всадник наконец сказал:
– Хотя мы и везем с собой дела всех этих горемык, однако нам некогда останавливаться, доставать их и читать. Расспросите их сами, ваша милость, они вам расскажут, если пожелают, а они, уж верно, пожелают, ибо любимое занятие этих молодцов – плутовать и рассказывать о своих плутнях.
Получив позволение, – впрочем, не получи его Дон Кихот, так он бы сам себе это позволил, – рыцарь наш приблизился к цепи и спросил первого каторжника, за какие грехи он вынужден был избрать столь неудобный способ путешествия. Тот ответил, что путешествует он таким образом потому, что был влюблен.
– Только поэтому? – воскликнул Дон Кихот. – Да если бы всех влюбленных ссылали на галеры, так я уже давным-давно должен был бы взяться за весла.
– Ваша милость совсем про другую любовь толкует, – заметил каторжник. – Мое увлечение было особого рода: мне так приглянулась корзина, полная белья, и я так крепко прижал ее к груди, что не отними ее у меня правосудие силой, то по своей доброй воле я до сих пор не выпустил бы ее из рук. Я был пойман на месте преступления, пытка оказалась не нужна, и мне тут же вынесли приговор: спину мою разукрасили с помощью сотен розог, в придачу я получил ровнехонько три галочки, и крышка делу.
– Что значит три галочки? – осведомился Дон Кихот.
– Это значит три года галер, – пояснил каторжник.
Это был парень лет двадцати четырех, уроженец, по его словам, Пьедраиты. С тем же вопросом Дон Кихот обратился ко второму каторжнику, но тот, печальный и унылый, ничего ему не ответил; однако ж за него ответил первый, – он сказал:
– Этого, сеньор, угоняют за то, что он был канарейкой, то есть за музыку и пение.
– Что такое? – продолжал допытываться Дон Кихот. – Разве музыкантов и певцов тоже ссылают на галеры?
– Да, сеньор, – отвечал каторжник. – Хуже нет, когда кто запоет с горя.
– Я слышал, наоборот, – возразил наш рыцарь. – Кто песни распевает, тот грусть-тоску разгоняет.
– Ну, а тут по-другому, – сказал каторжник. – Кто хоть раз запоет, тот потом всю жизнь плакать будет.
– Ничего не понимаю, – сказал Дон Кихот.
Но тут к нему обратился один из конвойных:
– Сеньор кавальеро! Петь с горя на языке этих нечестивцев означает признаться под пыткой. Этого грешника пытали, и он сознался в своем преступлении, а именно в том, что занимался конокрадством, сиречь крал коней, и как скоро он признался, то его приговорили к шести годам галер и сверх того к двум сотням розог, каковые его спина уже восчувствовала. Задумчив же он и грустен оттого, что другие мошенники, как те, что остались в тюрьме, так и его спутники, обижают и презирают его, издеваются над ним и в грош его не ставят, оттого что он во всем сознался и не имел духу отпереться. Ибо, рассуждают они, в слове не столько же букв, сколько в да, и преступник имеет то важное преимущество, что жизнь его и смерть зависят не от свидетелей и улик, а от его собственного языка. Я же, со своей стороны, полагаю, что они недалеки от истины.
– И мне так кажется, – сказал Дон Кихот.
Приблизившись к третьему, он спросил его о том же, о чем спрашивал других, и тот живо и без всякого стеснения ему ответил:
– Я отправляюсь на пять лет к сеньорам галочкам за то, что у меня не оказалось десяти дукатов.
– Да я с величайшим удовольствием дам двадцать, лишь бы выручить вас из беды, – сказал Дон Кихот.
– Это все равно, – возразил каторжник, – как если бы кто-нибудь очутился в открытом море, будучи при деньгах, и умирал с голоду, оттого что ему негде купить съестного. Говорю я это к тому, что если б ваша милость вовремя предложила мне эти самые двадцать дукатов, то я смазал бы ими перо стряпчего и вдохновил на выдумки моего поверенного, так что гулял бы я теперь в Толедо, по площади Сокодовер, а не по этой дороге, будто взятая на свору борзая. Ну да бог не без милости. Терпение, а там видно будет.
Дон Кихот приблизился к четвертому, – человеку с благородным лицом, с седой, до пояса, бородою, и спросил, за что его ведут на галеры, но тот заплакал и ничего ему не ответил; однако ж пятый осужденный принял на себя обязанности толмача и сказал:
– Этот почтенный человек на четыре года отправляется на галеры, а предварительно его, разряженного, торжественно прокатили верхом по многолюдным улицам.
– Стало быть, – сказал Санчо Панса, – сколько я понимаю, его выставили на позорище.
– Именно, – подтвердил каторжник, – и наказание свое он несет за то, что, помимо разного другого товара, поставлял и живой. То есть, я хочу сказать, что этого кавальеро ссылают, во-первых, за сводничество, а во-вторых, за то, что он грешил по части колдовства.
– Вся беда именно в этом грехе и состоит, – заметил Дон Кихот, – а само по себе сводничество дает ему право не грести на галерах, но предводительствовать и командовать ими. В сводники годятся далеко не все: это дело тонкое и в государстве благоустроенном совершенно необходимое, и заниматься им подобает людям весьма родовитым. А над ними, по образцу других ремесел, должно быть положенное и определенное число надзирателей и ревизоров, все равно как торговых посредников, и таким образом можно будет избежать множества злоупотреблений, которые имеют место единственно потому, что это ремесло и занятие взяли себе на откуп люди слабоумные и непросвещенные: всякие никудышные бабенки либо мальчишки на побегушках и шуты – всё молокососы да несмышленыши, так что в трудную минуту, когда надобно выказать расторопность, они неукоснительно попадают впросак и садятся в лужу. Я мог бы еще многое сказать по поводу того, какой строгий отбор надлежит производить при назначении людей на эту столь необходимую для государства должность, но место здесь для этого неподходящее, – как-нибудь я изложу свой взгляд тем, в чьей власти все это уладить и привести в порядок. А теперь скажу лишь, что от тяжелого чувства, какое я испытал при виде этого убеленного сединами человека с благородным лицом, попавшего в столь бедственное положение из-за того, что он занимался сводничеством, не осталось и следа, как скоро мне сообщили дополнительный пункт касательно колдовства. Впрочем, я отлично знаю, что нет таких чар, которые могли бы поколебать или же сломить нашу волю, как полагают иные простаки, ибо воля наша свободна, и ни колдовские травы, ни чародейство над нею не властны. Простые бабы и отъявленные мошенники составляют обыкновенно разные смеси и яды, от которых у людей мутится рассудок, и при этом внушают им, что они обладают способностью привораживать, но, повторяю, сломить человеческую волю – это вещь невозможная.
– Справедливо, – заметил маститый старец. – И даю вам слово, сеньор, что в колдовстве я не повинен. Вот насчет сводничества нечего греха таить. Но мне в голову не могло прийти, что я поступаю дурно. У меня была одна забота: чтобы все люди на свете веселились и жили тихо и мирно, не ведая ни вражды, ни кручины. Однако ж благие мои намерения не спасли меня от похода в такие места, откуда я не надеюсь возвратиться: ведь я уже на склоне лет, а боль в мочевом пузыре не дает мне ни минуты покоя.
Тут он снова заплакал, и Санчо проникся к старцу таким состраданием, что вынул из-за пазухи монету и подал ему милостыню.
Дон Кихот подъехал к следующему и спросил, в чем состоит его преступление, на что тот ответил тоном не менее, а еще гораздо более развязным, нежели предыдущий:
– Меня ссылают на галеры за то, что уж очень я баловался с двумя моими двоюродными сестрами и с другими двумя сестрами, но уже не с моими. И добаловался я с ними со всеми до того, что из этого баловства возникло крайне запутанное родство, так что теперь его сам черт не разберет. Меня приперли к стене, покровителей не нашлось, денег – ни гроша, и я уже был уверен, что по мне плачет веревка, но мне дали шесть лет галер, и я согласился: поделом! К тому же я еще молод, вся жизнь у меня впереди, а живой человек всего добьется. Если же ваша милость, сеньор кавальеро, может чем-нибудь помочь нам, горемычным, то господь воздаст вам за это на небе, а мы здесь, на земле, будем вечно бога молить о долгоденствии и добром здравии вашей милости, дабы нашими молитвами вы здравствовали много лет, чего такой добрый, судя по всему, человек, как вы, вполне заслуживает.
Этот был в студенческом одеянии, а один из конвойных отозвался о нем, как об изрядном краснобае и весьма недурном латинисте.
Сзади всех шел мужчина лет тридцати, весьма приятной наружности, если не считать того, что один его глаз все поглядывал в сторону другого. Скован он был не так, как его спутники: на ноге у него была цепь, столь длинная, что ее доставало на то, чтобы обвить все его тело, а шею облегали два кольца, – одно припаянное к цепи, и другое, так называемое стереги друга, или же дружеское объятие, при помощи двух железных прутьев соединявшееся у пояса с наручниками, которые были замкнуты тяжелыми замками, так что он не мог ни рук поднести ко рту, ни опустить голову на руки. Дон Кихот спросил, почему на этом человеке больше оков, нежели на других. В ответ конвойный ему сказал, что он один совершил больше преступлений, нежели все остальные, вместе взятые, и что хотя он и скован по рукам и ногам, однако стража, зная его дерзость и необычайную пронырливость, не может за него поручиться и все еще опасается, как бы он от нее не сбежал.
– Какие же такие за ним преступления, если его приговорили всего лишь к ссылке на галеры? – спросил Дон Кихот.
– Да, но к десяти годам, – возразил конвойный, – а это все равно, что гражданская казнь. Довольно сказать, что этот душа-человек есть не кто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте, а еще его зовут Хинесильо де Ограбильо.
– Сеньор комиссар! Прикусите язык, – вмешался каторжник, – не будем перебирать чужие имена и прозвища. Меня зовут Хинес, а не Хинесильо, и я из рода Пасамонте, а не Ограбильо, как уверяет ваше благородие. Не мешает кое-кому оглянуться на себя, – это было бы куда полезнее.
– Сбавьте-ка тон, сеньор первостатейный разбойник, – прикрикнул на него комиссар, – если не хотите, чтоб я силой заставил вас замолчать!
– Конечно, человек предполагает, а бог располагает, – заметил каторжник, – но все-таки спустя некоторое время некоторым станет известно, прозываюсь я Хинесильо де Ограбильо или нет.
– Да разве тебя не так зовут, мошенник? – вскричал конвойный.
– Зовут-зовут, да и перестанут, – отвечал Хинес, – иначе я им всем повыщиплю волосы в местах неудобь сказуемых. Сеньор кавальеро! Если вы намерены что-нибудь нам пожертвовать, то жертвуйте и поезжайте с богом, – вы нам уже опостылели своим назойливым любопытством к чужой жизни. Если же вам любопытно узнать мою жизнь, то знайте, что я Хинес де Пасамонте и что я ее описал собственноручно.
– То правда, – подтвердил комиссар, – он и в самом деле написал свою биографию, да так, что лучше нельзя, только книга эта за двести реалов заложена в тюрьме.
– Но я не премину выкупить ее, хотя бы с меня потребовали двести дукатов, – объявил Хинес.
– До того она хороша? – осведомился Дон Кихот.
– Она до того хороша, – отвечал Хинес, – что по сравнению с ней Ласарильо с берегов Тормеса и другие книги, которые в этом роде были или еще когда-либо будут написаны, ни черта не стоят. Смею вас уверить, ваше высокородие, что все в ней правда, но до того увлекательная и забавная, что никакой выдумке за ней не угнаться.
– А как называется книга? – спросил Дон Кихот.
– Жизнь Хинеса де Пасамонте, – отвечал каторжник.
– И она закончена? – спросил Дон Кихот.
– Как же она может быть закончена, коли еще не кончена моя жизнь? – возразил Хинес. – Я начал прямо со дня рождения и успел довести мои записки до той самой минуты, когда меня последний раз отправили на галеры.
– Значит, вы уже там разок побывали? – спросил Дон Кихот.
– Прошлый раз я прослужил там богу и королю четыре года и отведал и сухарей и плетей, – отвечал Хинес. – И я не очень жалею, что меня снова отправляют туда же, – там у меня будет время закончить книгу. Ведь мне еще о многом предстоит рассказать, а у тех, кто попадает на испанские галеры, досуга более чем достаточно, хотя, впрочем, для моих писаний особо длительного досуга и не требуется: все это еще свежо в моей памяти.
– Ловок же ты, как я посмотрю, – сказал Дон Кихот.
– И несчастен, – примолвил Хинес. – Людей даровитых несчастья преследуют неотступно.
– Несчастья преследуют мерзавцев, – поправил его комиссар.
– Я уже вам сказал, сеньор комиссар, чтобы вы прикусили язык, – снова заговорил Пасамонте. – Начальство вручило вам этот жезл не для того, чтобы вы обижали нас, горемычных, а для того, чтобы вы привели и доставили нас к месту, назначенному королем. Иначе даю голову на отсечение… ну да ладно, может статься, в один прекрасный день отольются кошке мышкины слезки. А пока молчок, будем относиться друг к другу с почтением, выражаться еще почтительнее, и пора в путь: полно, в самом деле, дурачиться.
В ответ на эти угрозы комиссар замахнулся жезлом, но Дон Кихот, загородив Пасамонте, попросил не обижать его на том основании, что не велика беда, если у человека со связанными накрепко руками слегка развязался язык. И, обращаясь ко всей цепи, молвил:
– Из всего, что вы мне поведали, любезнейшие братья, я делаю вывод, что хотя вы пострадали не безвинно, однако ж предстоящее наказание вам не очень-то улыбается, и вы идете отбывать его весьма неохотно и отнюдь не по доброй воле. И может статься, что малодушие, выказанное одним под пыткой, безденежье в другом случае, отсутствие покровителей у кого-то еще и, наконец, неправильное решение судьи послужили причиной вашей гибели и того, что вы не сумели оправдаться. Все это живо представляется мысленному моему взору и словно уговаривает, убеждает, более того: подстрекает меня доказать вам, что небо даровало мне жизнь, дабы я принял обет рыцарства и дал клятву защищать обиженных и утесняемых власть имущими. Однако ж, зная, что один из признаков мудрости – не брать силой того, что можно взять добром, я хочу попросить сеньоров караульных и комиссара об одном одолжении, а именно: расковать вас и отпустить с миром, ибо всегда найдутся другие, которые послужат королю при более благоприятных обстоятельствах, – превращать же в рабов тех, кого господь и природа создали свободными, представляется мне крайне жестоким. Тем более, сеньоры конвойные, – продолжал Дон Кихот, – что эти несчастные лично вам ничего дурного не сделали. Пусть каждый сам даст ответ за свои грехи. На небе есть бог, и он неустанно карает зло и награждает добро, а людям порядочным не пристало быть палачами своих ближних, до которых, кстати сказать, им и нужды нет. Я говорю об этом с вами мягким и спокойным тоном, дабы, если вы исполните мою просьбу, мне было за что вас благодарить. Если же вы не исполните ее по своему хотению, то это копье и меч купно с сильною моею мышцею принудят вас к тому силой.
– Что за глупая шутка! – воскликнул комиссар. – До хорошеньких же вещей договорился этот забавник! Он, видите ли, желает, чтобы мы выпустили королевских невольников, как будто мы вправе освобождать их, а он – отдавать надлежащие распоряжения! Час добрый, ваша милость, поправьте на голове таз, поезжайте своей дорогой и перестаньте, сеньор, лезть на стену.
– Я вас самого заставлю на стену лезть, подлец! – вскричал Дон Кихот.
И, недолго думая, он столь решительно напал на комиссара, что тот, не успев изготовиться к обороне, сраженный копьем своего недруга, грянулся оземь; и то была необычайная для Дон Кихота удача, ибо только комиссар и был вооружен мушкетом. Других конвойных это неожиданное происшествие ошеломило и озадачило; однако, опамятовавшись, верховые взялись за мечи, пешие за копья, и все вместе напали на Дон Кихота, – Дон Кихот же с превеликим спокойствием их поджидал; и ему бы, уж верно, несдобровать, когда бы каторжники, смекнув, что им представляется случай обрести свободу, не предприняли попытку им воспользоваться и не попытались порвать цепь, на которую они были нанизаны. Поднялась невероятная кутерьма: конвойные то бросались к каторжникам, которые уже распутывали цепь, то отбивались от наседавшего на них Дон Кихота – и все без толку. Санчо, со своей стороны, способствовал освобождению Хинеса де Пасамонте, и тот, – первый, кто сбросил с себя оковы и вырвался на свободу, – подскочил к поверженному комиссару, выхватил у него из рук шпагу и мушкет и стал целиться в конвойных и делать выпады, но огня так и не открыл, ибо в то же мгновение на поле брани не осталось ни одного конвойного: все они дали тягу, устрашенные мушкетом Пасамонте, равно как и градом камней, коими другие каторжники, тоже вырвавшиеся на свободу, их осыпали. Происшествие это повергло Санчо Панса в немалое уныние, ибо он полагал, что бежавшие явятся с донесением в Святое братство, и оно сей же час ударит в набат и отправится на розыски преступников. Своими опасениями он поделился с Дон Кихотом и посоветовал ему как можно скорее отсюда уехать и скрыться в ближних горах.
– Хорошо, хорошо, – сказал Дон Кихот, – я сам знаю, как мне надлежит поступить.
Затем он созвал каторжников, которые уже успели до нитки обчистить комиссара и разбрелись по полю, и они обступили его, ожидая, что он им скажет, – он же повел с ними такую речь:
– Люди благовоспитанные почитают за должное отблагодарить того, кто сослужил им службу, ибо из всех грехов наиболее гневящий господа – это неблагодарность. Говорю я это к тому, что вы, сеньоры, на собственном опыте воочию убедились, что я сослужил вам службу. И вот я бы хотел, – и такова моя воля, – чтобы в благодарность за это вы, отягченные цепью, от которой я вас избавил, сей же час тронулись в путь и, прибыв в город Тобосо, явились к сеньоре Дульсинее Тобосской, передали ей привет от ее рыцаря, то есть от Рыцаря Печального Образа, и во всех подробностях рассказали ей об этом славном приключении вплоть до того, как вы обрели желанную свободу. А засим вы можете отправляться куда вам угодно, на все четыре стороны.
Хинес де Пасамонте ответил за всех.
– Ваша милость, государь и спаситель наш, требует от нас невозможного, – сказал он, – ибо не гурьбою надлежит нам ходить по дорогам, но обособленно и порознь, причем все мы будем рады сквозь землю провалиться, лишь бы нас не обнаружило Святое братство, которое, вне всякого сомнения, уже снарядило за нами погоню. Пусть лучше ваша милость – и это будет самое правильное – велит нам, вместо хождения на поклон к сеньоре Дульсинее Тобосской, прочитать столько-то раз «Богородицу» и «Верую», и мы их прочтем с мыслью о вас, – вот это поручение можно исполнять и днем и ночью, и убегая и отдыхая, как в состоянии мира, так и в состоянии войны. Но воображать, будто мы снова захотим вкусить райское блаженство, то есть снова наденем цепи, а потом зашагаем по дороге в Тобосо, – это все равно, что воображать, будто сейчас ночь, тогда как на самом деле еще и десяти утра нет, и обращаться к нам с подобной просьбой – это все равно, что на вязе искать груш.
– В таком случае я клянусь, – в сердцах воскликнул Дон Кихот, – что вы, дон Хинесильо де Награбильо, или как вас там, мерзавец вы этакий, отправитесь туда один, с поджатым хвостом и влача на себе всю цепь!
Пасамонте отнюдь не отличался долготерпением, а кроме того, он живо смекнул, что Дон Кихот поврежден в уме, иначе он не сделал бы такой глупости и не освободил бы их; и вот, видя, что с ним так обходятся, он подмигнул товарищам, после чего все они отошли в сторону, и тут на Дон Кихота посыпалось столько камней, что он не успевал закрываться щитом, а бедняга Росинант не обращал ни малейшего внимания на шпоры, точно он был деревянный. Санчо спрятался за своего осла и загородился им от градовой тучи камней, коей суждено было над ними обоими пролиться. Дон Кихот был не столь уже хорошо защищен: несколько булыжников стукнулось об него, да еще с такой силой, что он свалился с коня; и только он упал, как на него насел студент, сорвал с головы таз, три или четыре раза огрел им Дон Кихота по спине, столько же раз хватил его оземь и чуть не разбил. Вслед за тем каторжники стащили с Дон Кихота полукафтанье, которое он носил поверх доспехов, и хотели было снять и чулки, но этому помешали наколенники. С Санчо они стащили пыльник и, обобрав его дочиста и поделив между собой остальную добычу, озабоченные не столько тем, как бы снова надеть на себя цепь и отправиться к сеньоре Дульсинее Тобосской, сколько тем, как бы не попасться в лапы Братства, разбрелись кто куда.
Остались только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел, задумчивый и понурый, полагая, что ураган камней, еще преследовавший его слух, все не прекращается, время от времени прядал ушами; Росинант, сбитый с ног одним из камней, растянулся подле своего хозяина; Санчо, в чем мать родила, дрожал от страха в ожидании Святого братства, Дон Кихот же был крайне удручен тем, что люди, которым он сделал так много хорошего, столь дурно с ним обошлись.









