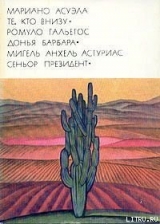
Текст книги "Синьор президент"
Автор книги: Мигель Анхель Астуриас
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
XV. Дяди и тетки
Фаворит вышел из дворца вместе с министром юстиции, старикашкой в сюртуке и цилиндре, похожим на мышь с детских рисунков, и народным представителем, облезлым, как древний святой, облупившийся от старости. Их чрезвычайно напугал тот идиот с барабаном, которого они без зазрения совести послали бы на батареи, в преисподнюю или еще подальше, и теперь они пылко обсуждали, куда зайти выпить – в «Гранд-отель» или в ближайший трактир. Представитель народа, сторонник отеля, говорил четко и ясно, словно излагая обязательные правила посещения общественных мест (что, несомненно, подлежало ведению государства). Юрист говорил с подъемом, словно вынося приговор: «Приверженность к показной роскоши не совсем прилична, и потому, мой друг, великолепному отелю я предпочитаю скромный трактир, где чувствуешь себя свободно. Не все то золото, что блестит».
Кара де Анхель покинул их на углу – когда спорят представители власти, лучше всего устраниться, – и направился в квартал Инсьенсо, где жил Хуан Каналес. Он должен как можно скорей забрать свою племянницу из «Тустепа». «Сам пойдет или пошлет – мне что за дело! – думал фаворит. – Пускай уходит, меньше ответственности. Пускай живет, как раньше. Как до вчерашнего дня, когда я ее не знал, понятия не имел, когда она ничего не значила для меня…» Человека три почтительно уступили ему дорогу. Он ответил на приветствия, не замечая, с кем здоровается.
Дон Хуан, один из братьев генерала, жил в квартале Инсьенсо, неподалеку от Монетного двора, здания темного и отвратительно величественного. Облупленные бастионы возвышались по углам, из камней сочилась вода, а через окна, защищенные железной решеткой, смутно виднелись залы, похожие на клетки для хищных зверей. Здесь хранились миллионы дьявола.
Фаворит постучал. Залаяла собака. Можно было определить на слух, что она на цепи и очень свирепа.
Со шляпой в руке Кара де Анхель переступил порог (он был красив и коварен, как сатана). Ему было приятно войти в дом, где поселится дочь генерала; но лай собаки и «прошу вас!», «прошу вас!» плотного, улыбающегося человека, – несомненно, дона Хуана Каналеса, – оглушили его.
– Прошу вас, входите, будьте добры, прошу, вот сюда, сеньор, вот сюда, пожалуйста!… Чему я обязан?… – Дон Хуан говорил автоматически, и голос его не выдавал страха, который он испытывал при виде президентского любимца.
Кара де Анхель обвел глазами комнату. Как лает на гостя этот нахальный пес! В ряду портретов братьев Каналес не хватало генерала. Зеркало на противоположной стене отражало квадрат обоев – желтоватый, цвета телеграммы.
«Собака и теперь – душа дома, – заметил про себя Кара де Анхель, пока дон Хуан демонстрировал свой набор формул вежливости. – Душа дома, как в первобытные времена. Защитница племени. Сеньора Президента тоже охраняет свора собак».
В зеркале появился хозяин. Он отчаянно жестикулировал. Дон Хуан Каналес произнес все положенные фразы и, как хороший пловец, решительно бросился в воду.
– Сеньора Каналес, – начал он, – сеньора Каналес и ваш покорный слуга с негодованием осудили поведение брата. Какой кошмар! Убийство всегда отталкивает, но это!… Убить такого человека, такого уважаемого, безупречного человека, совесть и честь армии, личного друга Сеньора Президента!…
Кара де Анхель молчал. Так молчат, когда видят утопающего и не могут ему помочь. Так молчат в гостях, когда боятся ответить невпопад.
Чувствуя, что слова падают в пустоту, дон Хуан перестал владеть собой и, хватая руками воздух, тщетно пытался нащупать ногою дно. В голове у него так и бурлило. Ему казалось, что теперь и он запутался в деле об убийстве у Портала Господня и во всей этой политической паутине. Он не виноват. Но это ничего не значит, совершенно ничего. Замешан, и все. Лотерея, друзья мои, лотерея! Символ страны. Так кричит дядюшка Фульхенсио, уличный продавец лотерейных билетов, ревностный католик и старьевщик. Внезапно вместо Кара де Анхеля он увидел скелет дядюшки Фульхенсио; кости, суставы и челюсти держались на ниточках нервов. Придерживая костями черный кожаный портфель, дядюшка хлопал себя по задней части брюк, гримасничал, странно двигал челюстью, гнусавил и шамкал:
«Друзья бои, друзья бои, лотерея в этой штраде – едидстведый закод. Вытядешь билет – тюрьма. Вытядешь другой – рашштрел. Вытядешь третий – депутат, диплобат, президед, гедерал, бидистр. К чебу штаратца, ешли все – лотерея? Лотерея бой друг, лотерея, купите лотерейдый билетец!» Узловатый скелет, искривленный, как виноградная лоза, корчился от хохота, и смех вылетал у него изо рта билетами беспроигрышной лотереи.
А Кара де Анхель, весьма далекий от подобных мыслей, молча наблюдал и спрашивал себя, что общего у Камилы с этим отвратительным трусом.
– Поговаривают… Точнее – говорили моей супруге, что меня хотят замешать в дело об убийстве полковника!… – продолжал Каналес, отирая носовым платком, который он с большим трудом вытянул из кармана, крупные капли пота.
– Я ничего не знаю, – сухо ответил фаворит.
– Но это было бы несправедливо! Признаюсь, мы с женой давно не одобряли поведения Эусебио. Кроме того, не знаю – известно ли вам, что мы в последнее время очень редко виделись. Почти не виделись. Точнее – совсем не виделись. Как чужие. Добрый день, добрый вечер, здравствуй и прощай. Прощай, прощай, и больше ничего.
Голос дона Хуана звучал не совсем уверенно. Жена, наблюдавшая из-за ширмы, сочла благоразумным прийти ему на помощь.
– Что ж ты меня не познакомишь? – воскликнула она, приветливо кивая и улыбаясь фавориту.
– И правда! – растерянно отвечал муж, вскакивая одновременно с гостем. – Разрешите представить вам мою супругу!
– Худит де Каналес…
Кара де Анхель слышал имя супруги дона Хуана, но никак не мог вспомнить, назвал ли он свое.
Во время этого странного, затянувшегося визита, под влиянием неведомой силы, рушившей его жизнь, слова, не имеющие отношения к Камиле, не достигали его сознания.
«Почему эти люди не говорят о своей племяннице? – думал он. – Если бы говорили, я бы их слушал. Если б они о ней говорили, я б им сказал, что беспокоиться нечего, никто их не подозревает. Если бы они говорили со мной о ней… Господи, какой я дурак! Они – о ней, чтобы она перестала быть Камилой и ушла к ним, и я бы не мог о ней думать!… Я, она, они… Какой дурак, господи! Она и они, а я – ни при чем, один, далеко, без нее…»
Дама, назвавшая себя доньей Худит, сидела на тахте и терла нос кружевным платочком в такт ожиданию.
– Так вы говорили… Я вам помешала… Простите…
– Мы…
– Да…
– Вы…
Все трое заговорили сразу, и после серии чрезвычайно вежливых – «Говорите, прошу вас!» – «Нет, вы, пожалуйста!» – слово по неизвестной причине осталось за доном Хуаном («Идиот!» – кричали глаза жены).
– Я рассказывал нашему другу, как мы с тобой были возмущены, когда узнали (приватным образом, совершенно приватным), что Эусебио участвовал в убийстве полковника Парралеса Сонриенте…
– О, как же, как же! – подхватила донья Худит, высоко вздымая холмы бюста. – Мы с Хуаном говорили, что генерал, мой зять, не имел никакого права позорить мундир таким невероятным преступлением! И представьте себе, в довершение всего теперь мужа замешивают в это дело!
– Я как раз объяснял дону Мигелю, что мы с братом давно разошлись, можно сказать – враждовали… да, мы были смертельными врагами. Он меня даже на портрете видеть не мог, а я – тем более!…
– Знаете, семейные дела, ссоры, размолвки… – прибавила донья Худит, пуская в плаванье по комнате глубокий вздох.
– Я так и думал, – сказал Кара де Анхель. – Но не забывайте, дон Хуан, что братьев связывают крепкие узы…
– Что я слышу, дон Мигель? Вы подозреваете меня в соучастии…
– Позвольте!…
– Вы не правы… – вмешалась донья Худит, потупив взор. – Любые узы рвутся, когда речь идет о деньгах. Грустно, по это так. Деньги сильнее уз крови!
– Разрешите мне кончить!… Я говорил, что братьев связывают нерушимые узы, потому что, несмотря на серьезные разногласия между вами, генерал, оказавшись в безвыходном положении, сказал…
– Негодяй! Хочет меня замешать в свои преступления! Это клевета!
– Но речь совсем не об этом!
– Хуан, Хуан, дай же сеньору сказать!
– Он сказал, что поручает вам свою дочь, и просил меня переговорить с вами, чтобы здесь, в вашем доме…
На этот раз Кара де Анхель почувствовал, что его слова падают в пустоту. Ему на секунду показалось, что эти люди не понимают по-испански. Слова пропадали в зеркале, не задевая пузатого, чисто выбритого дона Хуана и донью Худит, возвышавшуюся над тачкой бюста.
– Именно вы должны решить, что ей делать…
– Ну, конечно… – Как только дон Хуан понял, что Кара де Анхель не собирается его арестовывать, к нему вернулся прежний апломб человека с положением. – Не знаю, что вам и сказать… все так неожиданно… О моем доме, разумеется, речи быть не может. Что поделаешь, нельзя играть с огнем! Здесь! у нас, этой несчастной было бы лучше всего… но мы не можем рисковать дружбой некоторых лиц… Вы понимаете, их бы чрезвычайно удивило, если б мы открыли двери незапятнанного дома перед дочерью того, кто враг Сеньору Президенту… И потом… известно, что мой знаменитый братец предложил… как бы сказать… да, предложил свою дочь личному другу Вождя Hapoда, чтобы тот, в свою очередь…
– Он шел на все, только бы шкуру спасти! Еще бы! – вставила донья Худит, обрушивая холмы бюста в глубокий овраг! нового вздоха. – Представьте, предложил дочь другу Сеньора Президента, чтобы тот ее предложил самому Президенту… Конечно, это гнусное предложение было отвергнуто. Тогда наш! «Князь Армии» – знаете, его так прозвали после той речи – увидел, что делать нечего, и сбежал, а дочку, видите ли, решил! нам подсунуть! Конечно, чего же и ждать, если он не постеснялся запятнать честь мундира и навлечь подозрение на родных!! Поверьте, нам это все нелегко. Бог свидетель, немало седых! волос…
Молния гнева прорезала черную ночь, которую носил в| своих глазах Кара де Анхель.
– Итак, говорить больше не о чем…
– Нам очень жаль, что вам пришлось беспокоиться… Если бы вы позвонили…
– Ради вас, – прибавила донья Худит, – мы бы с огромным удовольствием… поверьте… но, понимаете…
Он вышел молча, не глядя на них, под яростный лай собака и грохот цепи.
– Я пойду к вашим братьям, – сказал он в передней.
– Не советую, – поспешно ответил дон Хуан. – Я, знаете, слыву консерватором, и то… А они – либералы!… Подумают, что вы с ума сошли или просто шутите…
Он вышел на улицу вслед за гостем. Потом вернулся, тихонько запер дверь, потер толстые ручки… Ему захотелось кого-нибудь приласкать (только не жену!), и он погладил собаку, которая все еще лаяла.
– Если думаешь выйти, оставь собаку! – крикнула донья Худит из патио, где она подрезала розы, пользуясь предвечерней прохладой.
– Да, я сейчас…
– Тогда собирайся, а то мне еще надо помолиться. После шести часов нехорошо выходить на улицу.
XVI. В «Новом доме»
В восемь часов утра (хорошо было раньше, в дни водяных часов, когда не прыгали стрелки, не прыгало время!), в восемь часов Федицу заперли в камере, сырой и темной, как могила, изогнутой, как гитара, предварительно записав ее особые приметы и произведя обыск. Обыскали с головы до ног, от подмышек до ногтей, как следует; особенно тщательно после того, как нашли за пазухой письмо генерала Каналеса, собственноручно им написанное, которое она подняла с полу в одной из комнат генеральского дома.
Она устала стоять, и ходить было трудно – два шага туда, два сюда; решила присесть, все ж легче. Но с полу шел холод, сразу замерзли ноги, руки, даже уши (долго ли простыть!) – и снова она встала, постояла, села, поднялась, села, встала…
В тюремном дворе пели арестантки, которых вывели из камер на солнышко. От песен несло почему-то сырыми овощами, хотя пели они с большим чувством. Они сонно тянули однообразную мелодию, и эту тяжелую цепь вдруг прорывали резкие, отчаянные крики… Брань… богохульства… проклятья.
Федину сразу напугал дребезжащий голос, тянувший на манер псалма:
От каталажки
и до борделя,
о прелесть неба,
подать рукою;
раз мы теперь один с тобою,
о прелесть неба,
то поцелуйся же со мною.
Ай-яй-яй-яй!
Побудь со мною.
Отсюда до
домов публичных,
о прелесть неба,
подать рукою.
Не все строки совпадали с ритмом песни; однако от этого только ясней становилось, как близко каталажка «Новый дом» от борделя. Правда важнее ритма. И нескладные эти строки подчеркивали страшную правду, а Федина дрожала от страха, потому что испугалась. Она и раньше дрожала, но еще не понимала, как страшно, как ужасно, немыслимо страшно; это она потом поняла, когда тот голос, вроде старой пластинки, хранивший больше тайн, чем самое жуткое убийство, пронзил ее до костей. Нельзя с самого утра петь такую песню! Она корчилась как будто с нее сдирали кожу, а те арестантки, манерное, и не думали, что кровать проститутки холоднее тюрьмы, и для них эта песня звучала последней надеждой на освобожденье и тепло.
Федина вспомнила о сыне, и ей стало легче. Она думала о нем все так же, как раньше, когда носила. Дети навсегда остаются в материнской утробе. Как освободят, первым делом надо его окрестить. Давно пора. Юбка у нее хорошая, и чепец тоже – подарки доньи Камилы! Потом гостей позвать; к зав-траку – шоколад с пирогами, на обед – рис по-валенсиански и свинина с миндалем, а на ужин – лимонад, мороженое и вафли. Она уже заказала тому типографщику со стеклянным глазом такие карточки, пошлет их своим знакомым. Еще хорошо бы заказать у этих Шуманов две кареты, побольше, и чтобы лошади, вроде паровозов, и цепи серебряные позвякивали, и кучер
в сюртуке, в цилиндре. Тут она спохватилась – нельзя про это думать, как бы с ней не случилось, как с тем парнем, который за день до свадьбы все твердил: «Вот завтра, в это самое время!…» – а перед самой свадьбой ему возьми и упади кирпич на голову.
Снова принялась она думать о сыне, и ей стало так хорошо, что она обо всем забыла и сидела, уставясь в стенку, прямо в паутину неприличных рисунков. Вдруг она очнулась и поняла, на что смотрит. Кресты, фразы из Писания, мужские имена, даты, кабалистические числа и, поверх всего этого, непристойные изображения всех размеров. Вот написано «Бог», а рядом мужской член, вот – число 13 и черти, перекрученные, как подсвечники, и цветы с пальцами вместо лепестков, и карикатуры на судей и на чиновников, и лодки, и якоря, и солнца, и бутылки, и сплетенные руки, и глаза, и сердца, пронзенные стрелой, и снова солнца с длинными жандармскими усами, и луны со старушечьими лицами, и звезды, и часы, и русалки, и крылатые гитары, и кинжалы…
Ей стало жутко. Скорей бежать из этого непотребного мира! И тут же наткнулась на другую стену, в таких же точно рисунках. Она онемела от ужаса и зажмурилась, словно летела вниз по скользкому склону, горы – не окна – открывались по сторонам, и небо по-волчьи скалилось звездами.
На полу целое племя муравьев тащило дохлого таракана. Федина насмотрелась тех рисунков, и ей чудилось в этом что-то чудовищное, непристойное…
От каталажки
и до борделя,
о прелесть неба… —
впивались в живую плоть острые осколки песни.
В городе продолжалось чествование Президента Республики. На Центральной площади каждый вечер ставили экран, вроде эшафота, показывали преданной толпе мутные обрывки фильмов, и все это весьма походило на публичную казнь. Иллюминированные здания выделялись на темном фоне неба. Толпа обвивалась тюрбаном вокруг парка, за острыми копьями решетки. Сливки общества собирались там праздничными вечерами, а простой народ собирался на площади и в благоговейном молчании смотрел обрывки фильмов. Старики и старухи, калеки, осточертевшие друг другу супруги сидели, плотно прижавшись, как сардины в банке, на скамейках парка и, зевая, глядели на гуляющих, а те на ходу подмигивали барышням и здоровались с приятелями. Время от времени и богачи и бедняки поднимали очи к небу: треск разноцветного фейерверка, и – радуга шелковистых нитей.
Ужасна первая ночь в тюрьме. Заключенный остается в темноте, словно вне жизни, в мире кошмара. Исчезают степы, расплывается потолок, уходит куда-то пол. и все-таки никак не чувствуешь себя на свободе! Скорей – в могиле.
Федина быстро бормотала: «Вспомни обо мне, пресвятая дева, ты ведь никогда не оставляешь тех, кто просит у тебя защиты! Уповаю на тебя, матерь божья, в слезах припадаю К твоим стопам! Внемли моим молитвам, дева Мария! Выслушай меня, недостойную грешницу! Аминь». Темнота душила ее. Она не могла молиться. Она упала на пол и длинными своими руками – длинными – все длинней и длинней – охватила холодную землю, все холодные земли, земли всех заключенных, земли невинно осужденных, страждущих и путешествующих… И читала литанию…
Понемногу она пришла в себя. Хотелось есть. Кто покормит маленького? Она подползла к двери. Никто не откликнулся на ее стук.
Ora pro nobis…
Ora pro nobis…
Ora pro nobis…
Ora pro nobis…
Далеко, далеко, двенадцать раз ударил колокол…
Ora pro nobis…
Ora pro nobis…
Ora pro nobis…
Там, в мире ее сына…
Ora pro nobis…
Двенадцать раз, она хорошо считала… Стало легче. Она попыталась представить себе, что ее уже выпустили. Вот она дома, вот ее вещи, друзья, она говорит Хуаните: «Рада тебя видеть!» – стучится к Габриелите, приседает перед доном Тимотео. Там, в городе, продолжался праздник, экран, поставленный вместо эшафота, украшал Центральную площадь, а в парке гуляющие ходили по кругу, словно рабы, вращающие ворот.
Когда она перестала ждать, открылась дверь камеры. При звоне ключей она подобрала ноги, как будто внезапно, увидела, что сидит на краю пропасти. Два человека отыскали се в темноте и, не говоря ни слова, потащили по узкому коридору, где пел ночной ветер, через две темные комнаты, в освещенное помещение. Когда они вошли, военный прокурор вполголоса беседовал с писарем…
«Этот сеньор играет на органе у божьей матери Кармильской, – подумала Федина. – То-то мне показалось, что я его знаю. В церкви видела. Не может быть, чтобы он был плохой!…»
Прокурор внимательно посмотрел на нее. Потом задал обязательные вопросы: имя, возраст, сословие, профессия, вероисповедание, адрес. Жена Родаса ясно ответила на все и, пока писарь записывал последний ее ответ, сама задала вопрос, но его заглушил телефонный звонок, и в тишине соседней комнаты резко прозвучал хриплый женский голос: «Да! Ну, и как? Очень рада!… Я утром посылала туда Кандучу… Платье?… Прекрасно сидит, да, дивно скроено!… Что?… Нет, нет, совсем без пятен… да нет же, я говорю, совсем без пятен… Да, только не опоздайте. Да, да… Да… не опоздайте… До свиданья… Доброй ночи… Да свиданья…»
Тем временем прокурор отвечал Федине издевательским, шутовским тоном:
– Можете не беспокоиться! Для того мы и здесь, чтобы отвечать таким, как вы, которые не знают, за что их задержали…
Жабьи его глаза внезапно вылезли из орбит. Он повысил голос:
– Только сперва вы скажете мне, что вы делали утром в доме генерала Эусебио Каналеса.
– Я… Я зашла к генералу по одному делу…
– Нельзя ли узнать, по какому именно?…
– Да по личному, по моему! Хотела передать… я… Вы… Ну, скажу вам все, как есть: я хотела ему сказать, что его вечером собираются арестовать за убийство того полковника…
– И вы осмеливаетесь спрашивать, за что вас задержали! Ну и нахальство! Этого мало, по-вашему? Мало, а? Мало? Мало?
С каждым «мало» рос гнев прокурора.
– Постойте, дайте сказать! Вы послушайте, вы же совсем не то думаете! Послушайте, ради бога, я когда пришла, его уже не было. Я его не видела, никого я не видела, все ушли! Только нянька была!
– Мало, по-вашему? Мало, да? А когда вы туда пришли?
– На соборных часах как раз шесть пробило!
– Какая память! А как же вы узнали, что генерала собираются арестовать?
– Я?
– Да, вы!
– Я от мужа узнала.
– А ваш муж… Как его зовут, вашего мужа?
– Хенаро Родас.
– Откуда он узнал? Как он узнал? Кто ему сказал?
– Один его приятель, такой Лусио Васкес, из тайной полиции. Он сказал мужу, а муж…
– А вы генералу! – поспешил вставить прокурор. Федина замотала головой:
– Да нет, же, господи, не говорила я никому!
– Куда уехал генерал?
– Ах ты, господи, я его не видела, сколько вам говорить! Слышите? Не видела, не видела, не видела! Чего мне врать? Пускай он там лишнего не пишет!… – ткнула она пальцем в сторону писаря.
Тот обернул к ней бледное, веснушчатое лицо, похожее на промокашку, которая впитала немало многоточий.
– Не ваше дело, что он пишет! Отвечайте на вопросы! Куда уехал генерал?
Долгое молчание. И снова, как удар молота, жестокий голос прокурора:
– Куда уехал генерал?
– Не знаю! Чего вы от меня хотите? Не знаю, не видела я его!… Ох ты, господи!…
– Я бы на вашем месте не запирался, властям все известно. Мы знаем, что вы беседовали с генералом!
– Смешно, честное слово!
– Вы лучше слушайте! Смеяться вам не советую. Власти! все известно! Все! Все! – при каждом «все» он ударял кулаком но столу. – Если вы не видели генерала, откуда же у вас это письмо?… Прилетело по воздуху и прямо угодило вам за пазуху?
– Оно там брошено валялось, я с полу подобрала, у самой выхода! Только что вам говорить, все равно не верите, будто врунья какая!
– «Брошено валялось»! Необразованность! – фыркну; писарь.
– Ну, ладно, хватит сказки рассказывать! Скажите лучше правду. Вы своим враньем такое на себя накличете – всю жизнь меня не забудете!
– Да я правду говорю. Не хотите – не верьте. Как вам втолкуешь? Вы мне не сын, палкой вас не побьешь.
– Это вам дорого обойдется, помяните мое слово! Теперь отвечайте на другой вопрос. Что у вас общего с генералом? Кто вы ему? Сестра? Или, может?… Что вам от него нужно было?
– Мне… от генерала… ничего, я его раза два всего и видела… Только тут так получилось… мы сговорились с его дочкой, что она будет крестить у меня сына…
– Это не довод!
– Она мне почти что кума была!
Писарь вставил сбоку:
– Все врет.
– Перепугалась я, голову совсем потеряла и давай к ним, потому что этот Лусио сказал моему мужу, что, мол, один там хочет ее украсть…
– Прекратите вранье! Будет лучше, если вы чистосердечно мне сообщите, где находится генерал. Все равно я знаю, что вам это известно, более того – что это известно вам одной и что вы нам сейчас все откроете, нам одним, мне одному… Ну, перестаньте реветь, говорите, я слушаю!
И тихо, почти как исповедник:
– Если вы мне скажете, где генерал… слушайте, я ведь знаю, что вы знаете и все мне скажете… если вы мне укажете место, где укрылся генерал, я вас прощу. Я прикажу вас освободить, и отсюда вы пойдете прямо к себе домой… Подумайте… подумайте хорошенько!
– Ох, господи, да я бы сказала, если б знала! Только я не знаю! Ну, прямо беда! Не знаю, и все! Вот вам истинный крест!…
– Зачем вы запираетесь? Разве не видите, вам же от этого хуже?
Во время пауз между фразами прокурора писарь со свистом высасывал что-то из зубов.
– Ну, вижу, добром от вас ничего не добьешься! Паршивый народ! – Прокурор клокотал, как извергающийся вулкан. – Придется заставить силой. Итак, да будет вам известно, вы совершили тягчайшее государственное преступление. Вы находитесь в руках закона и несете ответственность за побег предателя, мятежника, бунтовщика, убийцы и личного врага Сеньора Президента… Да что с вами говорить!…
Жена Хенаро Родаса совсем растерялась. Этот одержимый чем-то ей угрожал, они сейчас с ней сделают что-то очень страшное, вроде смерти. У нее задрожали пальцы, подкосились ноги, застучали зубы… Пальцы дрожат – как будто вынули кости и вместо рук болтаются пустые перчатки. Зубы стучат – как будто телеграфируют о беде. Колени подгибаются – будто скачешь в тележке, запряженной бешеными конями.
– Сеньор! – умоляла она.
– Увидите, как со мной шутить! А ну, быстро! Где генерал?
Где-то далеко открылась дверь, ворвался детский крик. Раскаленный, отчаянный, бесконечный крик…
– Подумайте о своем сыне!
И не успел он кончить фразу, Федина подняла голову. Она тревожно озиралась – откуда же этот крик?
– Он орет уже два часа. Не ищите – все равно не найдете. Он орет от голода и подохнет от голода, если вы мне и не скажете, где укрылся генерал!
Она кинулась к двери, но три человека преградили ей путь, три черных дьявола, и без особого труда справились с ней. Расплелась коса, выбилась кофта, развязались юбки – все равно, черт с ними, с тряпками. Почти обнаженная, она ползла на коленях к прокурору и умоляла об одном: чтобы он разрешил покормить маленького.
– Все, что хотите, если вы скажете, где генерал.
– Христом-богом прошу, сеньор, – молила она, припадая к его сапогу, – Христом-богом, дайте покормить маленького, видите, как надрывается! Вы потом меня убейте, только пустите к нему!
– При чем тут бог! Пока не скажете, где генерал, мы с места не сдвинемся. А ваш сын пускай хоть лопнет!
Она кинулась на колени перед теми, кто стоял у двери. Потом замахнулась на них. Потом снова упала перед прокурором, пыталась целовать его сапоги.
– Сеньор, ради моего сына!
– Итак, ради вашего сына, скажите – где генерал? Нечего стоять на коленях! Не ломайте комедии. Пока не ответите на вопрос – не покормите сына.
Прокурор встал – ему надоело сидеть. Писарь ковырял в зубах пером, готовый немедленно приступить к делу, как только начнет говорить эта несчастная мать.
– Где генерал?
В зимние ночи плачет вода в водостоках. Так плакал ребенок, захлебывался, заходился.
– Где генерал?
Федина молчала, словно раненое животное, кусала губы и не знала, что же ей делать.
– Где генерал?
Так прошло пять минут… десять… пятнадцать. Наконец, обтерев губы платком с черной каемкой, прокурор перешел к угрозам:
– Но скажете – придется вам помешать немного негашеной извести. Может, тогда вспомните, по какой дороге ушел генерал!
– Да я все сделаю, что хотите!… Только дайте мне… дайте… дайте маленького покормить! Сеньор, не надо со мной так, вы же видите, несправедливо это! Сеньор, он же не виноват! Вы лучше меня накажите как угодно!
Один из людей, охранявших двери, швырнул ее на пол. Другой пнул ее ногой, она покатилась по иолу. Она не видела плит, ничего не видела, не чувствовала, только крик и отчаяние. Она чувствовала только крик своего сына.
Был час ночи, когда она начала мешать известь, чтобы ее больше не били. Сыночек плакал…
Время от времени прокурор спрашивал:
– Где генерал? Где генерал?
Час… Два…
Три, наконец… Сыночек плакал.
Три, а должно бы уж быть часов пять…
Четырех еще нет… А сыночек плачет…
Четыре… Плачет…
– Где генерал? Где генерал?
Руки потрескались, кожа слезает с пальцев, кровь идет из-под ногтей. Федина выла от боли, перетирая изъеденными руками комки извести. И когда она останавливалась – не от боли, чтоб попросить за сына, – ее били.
Она не слышала голоса прокурора. Только крик сына – все слабей и слабей…
Без двадцати пять они ушли, оставив ее на полу. Она была без сознания. Липкая слюна капала с ее губ; из сосков, изъеденных крохотными язвочками, сочилось молоко, белое, как известь. А из воспаленных глаз текли редкие слезы.
Позже, на рассвете, ее перетащили в камеру. Там она очнулась. Рядом лежал умирающий сын, холодный и неподвижный, как тряпичная кукла. У материнской груди он немного ожил и жадно схватил сосок; но от острого запаха извести выпустил, закричал – тщетно пыталась она его покормить. Не выпуская его из рук, она била в дверь, звала… А он коченел… Он коченел… Коченел… Не может быть, чтоб они ему дали умереть, он же ни в чем не виноват, и снова била в дверь, и звала…
– Ой, сынок умирает! Сынок умирает! Ой, родненький, ой, сладенький, ой, хорошенький! Идите сюда! Откройте! Откройте! Бога ради, откройте! У меня сынок умирает! Пресвятая богородица! Он, святой Антоний! Святая Катерина!
За стенами продолжался праздник. Второй день – как первый. Экран – вроде эшафота; в парке – ходят по кругу рабы, вращают ворот.








