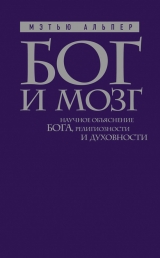
Текст книги "Бог и мозг"
Автор книги: Мэтью Альпер
Жанры:
Религиоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Означает ли это, что наш вид генетически предрасположен выказывать явно абстрактное поведение применительно к математике, языку, музыке и даже религии? Неужели такое поведение может существовать как следствие генетически унаследованного импульса или инстинкта? Рассмотрим, к примеру, язык. Специалисты по культурной антропологии и лингвисты соглашаются с тем, что все человеческие культуры общаются посредством устной речи. Поскольку все мы наделены лингвистической способностью, можно предположить, что она представляет собой генетически наследуемую характеристику нашего вида. При этом подразумевается, что в нас должны существовать физиологические области, порождающие лингвистические способности, которыми мы обладаем. Более того, то же самое указывает, что мы должны обладать генами, которые можно называть «языковыми»: они отвечают за возникновение любых подобных языковых областей в мозге.
Так где же берут начало лингвистические способности? Неужели произрастают из нашего сердца, почек или печени? Конечно, нет. Как и все когнитивные функции, наши языковые способности возникают из мозга. Откуда мы знаем? Мы знаем об этом благодаря тому, что есть вещественное свидетельство, подтверждающее нашу правоту.
В человеческом (и только человеческом) мозге есть особые структуры, отвечающие за развитие наших языковых способностей. К таким способствующим языку участкам мозга относятся центр Брока, центр, или область, Вернике и угловая извилина. Последняя – часть нашего мозга, которая получает такую сенсорную информацию, как аромат цветка, вкус лимона, звон колокола, а затем ассоциирует входящие сенсорные данные с их вербальными аналогами, или словами. Например, когда мы чувствуем аромат розы, наша угловая извилина, простимулированная запахом, вспоминает слово «роза». Следовательно, угловая извилина выполняет роль лингвистической картотеки нашего мозга, места, где хранятся все известные нам слова, определяющие наши чувственные ощущения.
Центр Вернике, расположенный в височной доле мозга, играет важную роль в лингвистическом понимании, получает вспоминаемое слово от угловой извилины и обрабатывает его таким образом, чтобы мы могли уловить смысл этого слова. Затем центр Брока, управляющий мышцами лица, челюсти, нёба и гортани, позволяет нам совершить физический акт произнесения слов.
Как мы узнали, что у нас есть все эти органы? Благодаря случаям, в которых какому-либо из них был нанесен физический ущерб: установлено, что он оказывает непосредственное влияние на некоторые специфические языковые способности человека. Такие лингвистические нарушения называются афазиями. К примеру, ущерб, нанесенный центру Вернике, от которого зависит понимание, может повлиять на способность человека постигать смысл слов, прежде понятных ему. В некоторых случаях нанесенный ущерб может оказаться настолько специфическим, что человек не в состоянии понять услышанное слово, но понимает его в написанном виде. В других случаях повреждения центра Вернике делают речь бессмысленной, несмотря на ее беглость.
Ущерб, нанесенный центру Брока, управляющему артикуляцией, вызывает нарушения речи, при которых артикуляция может стать замедленной, затрудненной или полностью отсутствующей, в зависимости от степени поражения. В некоторых случаях ущерб оказывается настолько специфическим, что человек может, к примеру, произнести слово «прыгун», но не в состоянии произнести слово «прыг». Как мы видим, от того, какая из частей нашего речевого центра повреждена, зависит наличие у пострадавшего тех или иных языковых нарушений.
Аналогично тому, как удаление определенной части ганглия планарии влияет на ее фототаксическую реакцию, повреждение или удаление определенной части речевого центра в мозге человека влияет на его языковую реакцию. Если поведение планарии можно свести к электрохимическим процессам, это, вероятно, справедливо и для человека как вида.
Все вышеизложенное доказывает, что в нашем мозге есть особенные физиологические участки, отвечающие за наши языковые и речевые способности. Все мы наделены двумя глазами, десятью пальцами на ногах и сердцем и точно так же все мы наделены угловой извилиной. И снова возникает вопрос: каким образом у нас формируются эти физиологические участки? Благодаря информации, хранящейся в наших генах. Мы обладаем не только генами, приказывающими нашему развивающемуся организму создать внутри грудной клетки сердце: у нас есть гены, которые отдают развивающемуся организму приказ создать в нашем мозге угловую извилину.
Более того, способность говорить и понимать язык мы не только получаем вместе с генами наших родителей, но и передаем ту же способность своему потомству. Другими словами, когнитивные характеристики, подобно всем прочим физическим чертам, переходят от поколения к поколению при передаче генетического материала. Основные физические свойства, например, цвет глаз или кожи, предопределены генетической наследственностью, и то же самое справедливо для наследуемых нами языковых способностей. А поскольку языковые способности мы приобретаем вместе с генами, то же самое скорее всего справедливо для всех наших кросскультурных особенностей.
Рассмотрим музыку как еще один пример кросскультурного поведения нашего вида. Ни одно растение, насекомое, рыба, кошка, собака и даже шимпанзе не пользуется частями своего тела и различными материалами, чтобы создавать ритмичные комбинации звуков. А людям это под силу. Все когда-либо существовавшие человеческие культуры демонстрировали способность к музыке. Означает ли это, что столь вдохновенное занятие, как создание музыки, может существовать благодаря генетически наследуемому рефлексу? Неужели талант Моцарта – физическое следствие того, что ему от рождения достались усовершенствованные «музыкальные» гены? Возможно, ибо если музыка действительно представляет собой кросскультурную особенность нашего вида, значит, должна существовать и «музыкальная» часть мозга, порождающая эту способность. Чем можно подкрепить это предположение? По мнению музыковеда Джона Блэкинга,
…в мире так много музыки, что разумным будет предположить, что музыка, подобно языку и, возможно, религии, – видоспецифическая черта человека. Неотъемлемые физиологические и когнитивные процессы, которыми сопровождается сочинение и исполнение музыки, могут даже наследоваться генетически, следовательно, быть присущими почти каждому человеку9.
Принято считать, что в каждой человеческой культуре с тех пор, как возник наш вид, создавалась музыка в той или иной форме. «Культура, которая характеризовалась бы отсутствием музыки, пока не обнаружена»10. Значит, если я ритмично захлопаю в ладоши, находясь в обществе представителей почти любой другой культуры, вполне вероятно, что у них возникнет желание поддержать меня. Как нам известно, подобной реакции от растения, насекомого, рыбы, кошки или любого другого животного мне не добиться. Следовательно, способность к самовыражению с помощью музыки присуща исключительно человеку.
Какие еще доказательства, помимо того факта, что музыка возникла в каждой культуре, можно привести в поддержку предположения, что в нашем мозге есть «музыкальная» часть? Рассмотрим такой пример, как абсолютный слух. Так называется присущая некоторым людям способность точно определять высоту любого услышанного звука. Абсолютному слуху нельзя научиться – им надо обладать от рождения. Значит, способность к абсолютному слуху внутренне присуща нам.
А что можно сказать об «ученых идиотах» (idiot savant) в области музыки – людях, от рождения обладающих невероятными музыкальными способностями, но интеллектуально отсталых почти во всех прочих отношениях? Например, о людях, которые, впервые услышав сонату Бетховена, могут сесть за фортепиано и сыграть ее, не упустив ни единой ноты и паузы, но при этом не в состоянии самостоятельно завязать шнурки? Мы высоко ценим талант музыканта как отличительный знак человеческого гения и вдохновения. Но если речь идет об «ученых идиотах», действительно ли мы имеем дело с вдохновением гения или же с чем-то более механическим по характеру, возможно, со следствием генетически унаследованного инстинкта, изощренного рефлекса? Если мы умеем создавать машины, играющие музыку, почему нам так трудно поверить в то, что природа могла заложить в нас такую же способность?
А как быть с тем фактом, что у людей возникает музыкальная афазия? Подобно лингвистической, музыкальная афазия представляет собой потерю некоторых специфических музыкальных способностей ввиду физического повреждения мозга. К примеру, после инсульта композитор может утратить способность писать музыку, музыкант – играть на инструменте. Как и языковая, музыкальная афазия свидетельствует о том, что наши способности к музыке должны быть неразрывно связаны с нашими нейрофизиологическими структурами.
А способность музыки оказывать на нас физиологическое воздействие? «Музыка может вызывать острое, неподдельное эмоциональное возбуждение – от восторга до потока слез»11.
Показателен и тот факт, что, независимо от культурных корней, всем людям свойственно интерпретировать определенные музыкальные мотивы одинаковым образом. Представитель какой культуры назовет марш Джона Филипа Суза безмятежным или спокойным, а не воинственным, торжествующим или бодрящим? Разве то, что представители разных культур воспринимают и интерпретируют одни и те же музыкальные раздражители сходным образом, не указывает на то, что понимание музыки должно представлять собой неотъемлемую составляющую физиологии нашего вида?
Еще одно явление, которое, возможно, доказывает, что наши музыкальные способности имеют физиологическую основу, – способность некоторых сочетаний звуков провоцировать эпилептические припадки. «Эпилепсия, порожденная музыкой, убедительно свидетельствует о том, что музыка оказывает прямое воздействие на мозг»12.
Не будем углубляться в доводы, говорящие в поддержку существования «музыкальной» части мозга: по-видимому, есть убедительные свидетельства, позволяющие предположить, что наша способность к музыке напрямую связана с физиологией нашего мозга. Это значит, что музыка и язык – два способа обработки информации, которыми человеческий мозг наделен от природы, два из множества способов, которыми наши физиологические структуры определяют, как именно мы как вид интерпретируем действительность.
Mузыка и язык – два способа обработки информации, которыми человеческий мозг наделен от природы, два из множества способов, которыми наши физиологические структуры определяют, как именно мы как вид интерпретируем действительность
Когда я счел достаточными собранные доказательства тому, что кросскультурное поведение представляет собой следствие генетически унаследованных импульсов, пришло время применить те же принципы к кросскультурной способности человека верить в духовную реальность. Точно так же, как все культуры с самого начала истории нашего вида воспринимали мир сквозь призму музыки и языка, им было свойственно духовное восприятие мира.
Значит, вполне возможно, что люди на самом деле наследуют свои кросскультурные склонности к восприятию духовной реальности? Неужели наша кросскультурная вера в такие универсальные понятия, как божество, душа и загробная жизнь, – следствие генетически унаследованного инстинкта, рефлекса? Более того, если мы наделены таким инстинктом, значит, он должен исходить из какого-то особого физиологического участка в нашем организме, который мы могли бы называть «духовной», или «Божьей», частью нашего мозга?
Книга 2. Основы биотеологии
«У сердца свои резоны, неизвестные разуму. Мы ощущаем это в тысяче вещей. Я утверждаю, что сердце по своей природе любит всеобщую сущность».
Блез Паскаль
«По-видимому, существование Бога не требует доказательств. Если мы считаем что-либо не требующим доказательств, значит, соответствующие знания внушаются нам естественным образом».
Фома Аквинский
«Предрасположенность к религиозной вере – самая сложная и действенная сила в человеческом разуме и, по всей вероятности, неистребимая составляющая натуры человека».
Э. О. Уилсон
7. «Духовная» функция, или А при чем здесь гены?
«Все когда-либо существовавшие цивилизации человечества уходили корнями в религию и поиски Бога».
Ивар Лисснер
Каждое поколение каждой[6]6
Мне хотелось бы сделать оговорку насчет слова «каждый», которым я пользуюсь, делая огульные заявления, к примеру, о «каждой мировой культуре». Точнее, я имею в виду все мировые культуры, наблюдения за которыми вели, фиксируя результаты, самые видные культурные антропологи мира. Тем не менее необходимо указать, что существовали мириады ныне исчезнувших культур, которые так и остались неизвестными сторонним наблюдателям, а если за ними и наблюдали, то результаты этого процесса так и не были надлежащим образом задокументированы, следовательно, полагаться на них нельзя. Это не значит, что, несмотря на соответствие перечисленным допущениям подавляющего большинства человеческих сообществ, в нашей истории не могло быть культурных аномалий, противоречащих видимым правилам человеческой натуры.
[Закрыть] человеческой культуры, какой бы изолированной она ни была, обладает способностью говорить на том или ином языке и понимать его. Это указывает, что в наших хромосомах должны существовать гены, благодаря которым развиваются наши лингвистические способности. В процессе внутриутробного развития задача этих «языковых» генов – отдавать распоряжения нашему формирующемуся организму, чтобы он создавал специализированные нейрофизиологические связи, которые когда-нибудь будут представлять собой участки организма, порождающие наши языковые способности. В сущности, для каждого типа поведения, универсального для какого-либо вида, должны существовать специализированные гены, способствующие развитию особых нейрофизиологических участков, которыми обусловлены эти типы поведения.
А если применить тот же принцип к человеческой духовности? Точно так же, как к развитию языка, все человеческие культуры демонстрируют склонность к развитию религии и веры в духовную реальность. По мнению лауреата Пулитцеровской премии Э. О. Уилсона,
…религиозная вера является одной из всеобщих характеристик человеческого поведения, принимающих узнаваемую форму при любом общественном строе – от групп охотников-собирателей до социалистических республик. Первичные элементы этой веры восходят как минимум к жертвенникам из костей и погребальным обрядам неандертальцев14.
По утверждению таких мыслителей, как Карл Юнг, Джозеф Кэмпбелл и Мирча Элиаде, все мировые культуры с самого появления человека как вида придерживались дуалистической интерпретации действительности: представители каждой культуры воспринимали реальность как состоящую из двух отдельных субстанций или сфер – физической и духовной. Соответственно, объекты, принадлежащие к физической сфере, считались осязаемыми, материальными, поддающимися эмпирическому восприятию и подтверждению (к примеру, их можно увидеть, пощупать, попробовать на вкус, понюхать или услышать). Объекты, существующие как часть этой сферы, подвержены изменяющему воздействию физических сил (то есть рождению, смерти, разложению), поэтому считаются постоянно меняющимися, преходящими, бренными.
С другой стороны, наш вид в той же мере признает существование духовной сферы. Поскольку эта сфера находится за пределами физической или материальной вселенной, то, что образовано духом, невосприимчиво к законам физической природы (то есть к изменениям, смерти и разложению). Следовательно, то, что существует как часть духовной сферы, считается перманентным, постоянным, неизменным, вечным.
Кросскультурный характер свойственной человеку дуалистической интерпретации действительности подтверждается также и тем, что представители каждой культуры с тех пор, как возник наш вид, придерживались веры в существование незримых духовных защитников, которых мы называем божествами. Согласно доктору Герберту Бенсону «нам не известно ни одной цивилизации, в которой не было бы веры в Бога или в богов»15. Человек не только музыкальное, математическое и языковое животное, но и духовное животное. Но если любые формы кросскультурного поведения свидетельствуют о генетически наследуемых чертах, значит, можно предположить, что то же самое справедливо и для склонности нашего вида верить в духовную реальность? Разве сам факт, что все человеческие культуры, какими бы обособленными они ни были, верят в существование некой духовной сферы, не свидетельствует о том, что подобное восприятие должно представлять собой неотъемлемую характеристику человека как вида, рефлекс?
Человек не только музыкальное, математическое и языковое животное, но и духовное животное
Если мы наследуем свои духовные наклонности и убеждения, разве не подразумевает это, что мы должны обладать генами, вместе с которыми данный инстинкт передается от одного поколения следующему? Более того, если мы наследуем свою склонность к вере в духовную реальность, разве не должно существовать у нас некое физиологическое место, из которого исходят все эти «духовные» восприятия, ощущения и знания? Поскольку все восприятие, ощущения и знания берут начало в мозге, отсюда следует, что «духовное» сознание должен порождать тот же орган. Следовательно, если вера в духовную действительность является кросскультурной характеристикой человека как вида, значит, мы наделены опирающейся на нейрофизиологию «духовной» функцией или тем, чему я дал неофициальное название «Божьей» части мозга.
Теория Карла Густава ЮнгаПриступая к изучению вероятного наследования нами духовных склонностей, я обнаружил, что подобными поисками занимались и другие: к их исследованиям и трудам я мог обратиться. Из всех, кто занимался подобными вопросами, труды основоположника аналитической психологии Карла Юнга я счел наиболее дельными и уместными. Но применение мне удалось найти в первую очередь теории «коллективного бессознательного», развитой Юнгом.
Наставник Юнга, Зигмунд Фрейд, дал миру понятия личного сознания и подсознания. По Фрейду, личное сознание представляет собой те мысли, чувства, воспоминания и стремления, которые мы осознаем. Под личным сознанием скрыт более глубинный слой сознания – подсознание индивида. Согласно Фрейду в подсознании содержатся первичные потребности, инстинкты, компоненты личности, воспоминания о впечатлениях раннего детства, вытесненные воспоминания и прочие внутренние конфликты. Хотя мы не осознаем, что все перечисленное есть в нас, тем не менее эти элементы играют существенную роль во всем, что мы делаем, говорим и осмысливаем. С точки зрения Фрейда, сознание и подсознание – два главных компонента, обуславливающих все человеческое поведение.
Юнг продолжил исследования с того места, на котором остановился Фрейд (чего Фрейд так и не простил ему), предположив, что существует еще более глубинный и основательный слой сознания человека, чем личное подсознание. Юнг утверждал, что под личным подсознанием располагается и действует как его фундамент так называемое коллективное бессознательное.
Согласно Юнгу, если личное сознание и личное подсознание проистекают из личного опыта, то коллективное бессознательное представляет собой компоненты, осознания и внутренние импульсы, которые мы наследуем и, следовательно, является неотъемлемой частью сознательного опыта, которым совместно пользуются все представители нашего вида. Если содержимое личного подсознания возникает из личного опыта в процессе развития, то содержимое коллективного бессознательного – та часть нашего существа, которая сформировалась в процессе развития человека как вида, следовательно, является общей для всего человечества. Значит, коллективное бессознательное существует как часть наших врожденных свойств и «обладает содержимым, более-менее одинаковым повсюду и для всех. Другими словами, оно идентично для всех людей и образует общую психическую основу надличностных свойств, имеющихся у каждого из нас… существовавшую с древнейших времен»16.
Если философ Джон Локк считал, что мы рождаемся как «tabula rasa», чистая доска, в ожидании, когда один только наш опыт как определяющий фактор сформирует нас, Юнг, подобно Канту, утверждал, что мы рождаемся с набором предварительно запрограммированных режимов восприятия. Как и Кант, Юнг, по всей видимости, направил свои поиски внутрь, в природу человеческого сознания.
Юнг сделал немало выводов на основании сравнительного анализа различных мифов народов мира. Он обнаружил, что мифологии – схожие между собой собрания преданий, легенд, притч, поучительных историй, существующие во всех культурах с тех пор, как появился наш вид. Каждая человеческая культура зашифровывала в своей мифологии собственные социальные и духовные нормы, обряды, обычаи, нравственные устои и убеждения. Юнг пришел к выводу не только о том, что мифология есть у каждой культуры: он обнаружил поразительное сходство различных мифологий. Он изучал иудео-христианские Ветхий и Новый Завет, зороастрийскую Авесту, скандинавские Эдды, исландские саги, исламский Коран, египетскую и тибетскую «Книги мертвых», «Теогонию» Гесиода, «Илиаду» и «Одиссею» Гомера, «Энеиду» Вергилия, кельтские саги, клинопись армянского Урарту, японские «Кодзики» («Записи о деяниях древности») и «Нихонги» («Анналы Японии»), вавилонские предания, угаритские мифы Палестины и Сирии, китайскую «Шицзин» («Книгу песен»), индуистскую «Ригведу», «Махабхарату» и «Рамаяну», каноны буддизма тхеравада, мифы различных культур Африки, Полинезии, Южной и Центральной Америки, манускрипты средневековых алхимиков – и повсюду в этих письменных источниках встречал общие темы.
Сходство между мифами разных культур мира было настолько значительным, что Юнг заключил: содержание этих мифов наверняка порождено одной и той же неотъемлемой психической основой, общей для нашего вида в целом. Эту основу он назвал нашим коллективным бессознательным. По-видимому, человек как вид наделен неким импульсом, не только побуждающим каждую культуру творить собственную мифологию, но и придерживаться при этом одних и тех же всеобщих тем. Эти общие темы Юнг называл архетипами. Ввиду их всеобщего характера, Юнг выдвинул предположение, что человек как вид обладает неотъемлемой религиозной функцией:
На протяжении исследования архетипов коллективного бессознательного мы убедились, что человек обладает религиозной функцией и что она оказывает на него столь же значительное влияние, как половой инстинкт или инстинкт агрессии. Первобытный человек занят осуществлением этой функции, формированием символов и строительством религии так же, как земледелием, охотой, рыболовством и удовлетворением своих прочих основных потребностей17.
Сходство между мифами разных культур мира настолько значительное, что можно сделать вывод: содержание этих мифов порождено одной и той же неотъемлемой психической основой, общей для нашего вида в целом
Вдохновленный теориями Юнга, в частности, его гипотезой о наличии у людей того, что он назвал «естественной религиозной функцией», я в большей мере, чем когда-либо, убедился, что духовная восприимчивость действительно передается людям по наследству. Однако моя интерпретация отличалась от юнгианской в первую очередь тем, что если Юнг считал человеческое сознание функцией разума, то я воспринимал его как функцию мозга. Разум подразумевает возможность существования в нас некоего неосязаемого, трансцендентального компонента, а мозг – нет. Если сторонники «разума» считают когнитивную деятельность функцией души, «призраком из машины», то сторонники «мозга» называют когнитивную деятельность функцией нейрофизиологии, механическим рефлексом.
Опираясь на знания в области нейрофизиологии (науки, которой во времена Юнга просто не существовало), я взял на вооружение более рациональный, механистический, научный подход к человеческим ощущениям, восприятию, эмоциям и когнитивной деятельности, то есть к содержимому человеческого сознания.
А если применить эту новую передовую науку, нейрофизиологию, не только к сознанию, но и конкретно к идее коллективного бессознательного, выдвинутой Юнгом? Что, если можно рассмотреть коллективное бессознательное с биологической точки зрения, свести его к нейрохимическим процессам? Если то, о чем Юнг говорил как о естественной религиозной функции, можно объяснить как генетически наследуемую предрасположенность? Применяя нейрофизиологию к изучению человеческой духовности, я счел, что вполне возможно построить исключительно механистическую и научную интерпретацию не только духовности, но и Бога.








