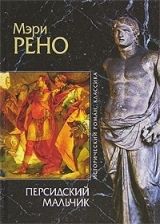
Текст книги "Персидский мальчик"
Автор книги: Мэри Рено
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 36 страниц)
6
Мы карабкались в горы, оставив страну холмов позади. Дорога вела в Экбатану, и никто не преследовал нас.
В пути наш скорбный караван догоняли остатки войска: и целые отряды, и спасшиеся в одиночку. Вскоре нас можно было вновь называть «великой силой», ежели не знать, конечно, какие потери мы понесли в бою. Бактрийцы Бесса присоединились к нам по дороге; разумеется, они решили держаться нас, ибо мы направлялись в их родные места. Бессмертных, царскую гвардию и всех мидян и персов – и пеших, и конных – вел теперь Набарзан.
С нами были также и греческие наёмники, всего около двух тысяч. Меня поразило тогда, что ни один не сбежал, хоть и сражались они только за плату.
Самой прискорбной потерей были Мазайя, сатрап Вавилона, и все его люди. Они держали свои позиции еще долго после того, как центр был сломлен бегством царя, – вполне вероятно, именно они спасли ему жизнь; жаждавшему погони Александру пришлось повернуть строй и рассчитаться с ними. Никого из этих бравых воинов не было с нами сейчас; должно быть, все они погибли.
Лишь около трети повозок с женщинами удалось вырваться из Арбелы; из них лишь две занимали царские наложницы, остальные везли девушек из гаремов властителей, оставшихся позади, дабы прикрыть бегство. Ни один из евнухов не убежал, бросив хозяек на произвол судьбы. Какая судьба постигла их, мне неведомо и по сей день.
Все сокровища были утеряны, но в Экбатане ими все еще были набиты подвалы. При всей спешке дворцовые распорядители догадались захватить с собой столько продовольствия, сколько могли унести; что и говорить, в нем мы нуждались теперь куда более, чем в деньгах. Бубакис, как я обнаружил, еще с утра держал наготове повозку с поклажей Дария. В своей мудрости он сунул туда же лишний шатер и кое-какие предметы роскоши для царских евнухов.
Стоит ли говорить, путешествие оказалось не из легких. Осень потихоньку выгоняла лето; в равнинах все еще стояла жара, но холмы уже овевались прохладой. В горах было попросту холодно.
У нас с Бубакисом были кони; в повозках ехало еще трое евнухов. Более никого из нас не осталось – не считая тех, что прислуживали женщинам.
Каждая новая тропа поднималась все выше и круче. Все чаще мы утыкались в глубокие скалистые трещины и провалы. С утесов нас разглядывали дикие козы – легкая добыча бактрийских лучников, старавшихся разнообразить наши скудные трапезы. Ночью мы впятером жались друг к дружке, подобно птенцам в гнезде, – наши тонкие покрывала, которых и так не хватало на всех, едва спасали от холода. Бубакис, проявлявший ко мне всяческую благосклонность и обращавшийся со мной как отец, делил со мною покрывало. Тело свое он умащал каким-то снадобьем с мускусным запахом, но я все равно был признателен ему за заботу. Нам повезло, что у нас вообще оказался шатер; почти все воины, в спешке бросив нажитое, спали под открытым небом.
Из их рассказов я собрал воедино картину всей битвы – так хорошо, как сумел. Позже я слышал эту историю из уст людей, действительно знавших все детали: каждую хитрость, каждый приказ, каждый удар. Я знал ее наизусть, но сейчас не могу заставить себя повторить все сначала. Говоря вкратце, наши люди устали после ночного бдения, когда царь ожидал неожиданной атаки. Александр же, как раз рассчитывая на это, дал своим воинам хорошенько выспаться и отдохнуть, да и сам уснул сразу, как только закончил составлять план сражения. Спал он как убитый; на рассвете его пришлось расталкивать – настолько он был уверен в победе.
Многие ждали, что Александр, выступивший справа, с самого начала начнет пробиваться к Дарию, сражавшемуся в центре. Вместо этого, однако, македонец бросился через всю линию войск, стараясь взять в клещи наш левый фланг. Дарий посылал туда все новые и новые отряды, пытаясь предотвратить это; Александр же снова и снова перекидывал людей налево, совсем истончив наши центральные ряды. И только тогда он, во главе маленького отряда, молнией метнулся навстречу нашему царю, сопровождаемый оглушительным ревом воинов.
Царь бежал рано, но, в конце концов, далеко не первым. Его возница был сражен брошенным копьем, и, когда тот упал, многие приняли его за Дария. С этой минуты началось бегство.
Дарий мог бы сразиться с македонцем один на один, как некогда в Кардосии. Схватись он за поводья, да испусти боевой клич, да врежься в ряды неприятеля! Конечно, его ждала верная гибель, но имя Дария жило бы в веках, не запятнав своей чести. Как часто, ближе к концу, должен он был презирать свою слабость… Но, подхваченный общей паникой, как лист – осенним ветром, он поворотил колесницу и бежал, едва только завидев Александра, стремительно пробивавшегося к нему на своем черном коне. С этой минуты гавгамельское поле превратилось в бойню.
Еще одну вещь я узнал от воинов. Дарий устроил вылазку в стан врага, за линию македонцев: крохотному отряду он поручил освободить свою плененную семью. Они действительно прорвались к лагерю Александра, и неразбериха боя помогла им до поры остаться не узнанными. Освободив немногих пленных персов, они достигли и шатра женщин, призывая тех бежать с ними. Все вскочили на ноги, кроме матери царя Сисигамбис. Она не двинулась с места, не произнесла ни слова, не дала даже знака, что слышала просьбу воинов. Никого не удалось освободить – македонцы опомнились и отогнали отряд прочь… Последнее, что они видели, – то, как прямо она сидела в своем кресле, сложив ладони на коленях и глядя перед собой.
Я спросил одного из сотников, почему мы движемся к Экбатане вместо того, чтобы вернуться в Вавилон. «Не город, а уличная девка, – возразил тот. – Едва завидев Александра, она постелет чистую простыню и ляжет, раздвинув ноги. Будь там наш царь, она выдала бы его врагу». Другой кисло прибавил: «Когда за твоей колесницей бегут волки, надо либо остановить коней и сражаться, либо бросить им что-нибудь, выигрывая время. Царь бросил Вавилон волкам. И Сузы – вместе с ним».
Я отстал, чтобы поравняться с Бубакисом, который не считал для меня возможным подолгу говорить с мужчинами. И, будто прочитав мои мысли, он спросил меня:
– Ты говорил когда-то, что не бывая в Персеполе?
– С тех пор, как я служу царю, он не ездил туда ни разу. Что, там лучше, чем в Сузах?
Вздохнув, Бубакис отвечал:
– Во всем мире не отыскать царского дворца прекраснее… Если только Сузы падут, Персеполь удержать не удастся.
Мы проходили одно ущелье за другим. Дорога за нами оставалась чиста, ибо Александр предпочел Вавилон и Сузы. Когда спокойный шаг нашей колонны прискучивал мне, я практиковался в стрельбе из лука. Не так давно я подобрал лук, принадлежавший скифу, бежавшему в холмы и умершему там от ран. Луки всадников легки, и я свободно мог натянуть его. Первой пораженной мною мишенью стал сидевший на месте заяц – незавидная добыча, но царь был рад получить его на ужин вместо надоевшей козлятины.
Вечерами он бывал задумчив и тих; многие ночи он даже спал в одиночестве, пока холод не заставил его брать в постель девушку из гарема. За мною Дарий не посылал. Возможно, он вспоминал песню воинов моего отца, которую я пел ему, бывало. Не могу сказать.
Вершины самых высоких гор окрасились белым, когда в конце последнего ущелья нашим взорам предстала Экбатана.
Это, если хотите, сразу и дворец, и крепкостенный город. Мне он больше напомнил причудливый рельеф, изваянный в горном склоне каким-то резчиком-великаном. Клонившееся к западу солнце оживило выгоревшие краски, поднимавшиеся ввысь строгими рядами огромных колонн: белый ярус, черный, алый, синий и желтый. Два верхних, вмещавшие сам дворец и его сокровищницу, горели живым огнем: внешний ряд колонн был обшит серебром, а внутренний – золотом.
Для меня, росшего в холмах, Экбатана была стократ прекраснее Суз. Я едва не плакал, подъезжая к этой каменной сказке. Глаза Бубакиса тоже покраснели, но его огорчало, что царь вынужден прятаться в своем летнем дворце сейчас, когда приближается зима, и ему более некуда бежать.
Мы въехали в городские врата сквозь камень стен и поднялись к дворцу на самый верх, к выложенным золотом зубцам последнего яруса. Сам дворец оказался цепью просторных залов-балконов, с которых открывался чарующий вид на окрестные горы. Заполонившие город воины спешно строили себе деревянные хижины с кровлями из хвороста; наступала зима.
Снег, вначале окрасивший горные вершины, постепенно сползал ниже по склонам. Моя комната (столь малому двору еще можно было сыскать отдельные покои) находилась высоко, в одной из башен. Каждый день я следил за тем, как в горах удлиняются ослепительно белые языки снега, пока однажды – совсем как в детстве – не проснулся от яркого света, бившего в окно. Снег укрыл город: он лежал на балконах и башнях, на солдатских хижинах и на каменных стенах дворца. На перила балкона уселся ворон, сбивший с них снежную шапку, и под его когтями заискрился золотой лоскут… Я вечно мог бы наслаждаться этой чистой красотой, если бы не холод. Мне пришлось разбить ледок в кувшине с водой – а зима только начиналась.
Теплых вещей у меня не было, и я испросил у Буба-киса разрешения посетить городской базар. «Не стоит, мой мальчик, – отвечал он. – Я разбирал недавно гардероб… Многие одежды лежат тут со дней царя Оха. Для тебя я уже нашел кое-что, в чем ты будешь неотразим».
Так я получил великолепную меховую накидку из рысьей шкуры с алой каймой; вероятно, некогда она принадлежала кому-то из принцев. Бубакис рад был помочь: похоже, он заметил, что Дарий в последнее время не посылал за мной, и хотел сделать меня желанным.
Горный воздух был для меня как здоровье после долгой болезни. Скажу даже, что он благоприятнее отразился на моей внешности, чем даже накидка. Так или иначе, царь призвал меня к себе, не медля более. Надо сказать, последняя битва сильно изменила его. Дарий постоянно был встревожен чем-то, и мне стоило немалого труда доставить ему удовольствие. Ежеминутно я чувствовал раздражение царя. Ранее такого не бывало, и теперь я всякий раз старался закончить побыстрее, дабы не ввергнуть себя в нечаянную немилость.
Как бы то ни было, я отлично понимал, что творится сейчас в царской душе, и не держал на него обиды. Он только что получил известие о том, как город-шлюха принял Александра на своем ложе.
Я сказал бы, что даже его натиск эти великие стены могли бы выдерживать не менее года. Увы, Царские врата Вавилона распахнулись. Улицу выстилали цветы, и на каждом перекрестке стояли треножники и алтари, дымившиеся драгоценными благовониями. Александра встретила процессия, поднесшая ему дары, достойные царя: чистопородных нисайянских лошадей, стадо волов с цветочными венками на рогах, украшенные золотом повозки с леопардами и тиграми в клетках. Маги и халдеи пели ему хвалы под сладостную музыку арф. Кавалерия городского гарнизона прошла перед ним парадом, без оружия… По сравнению с этим Дария те же люди встречали как какого-то малозначимого правителя.
Но я не успел сказать о худшем. Посланцем, встретившим Александра у городских стен и передавшим ему ключи от Вавилона, был сам сатрап Ма-зайя, коего мы столь горестно оплакивали по дороге в Экбатану.
Он исполнил свой долг в сражении. Нет сомнения, что из-за пыли и шума он не сразу прознал о бегстве Дария и еще надеялся на поддержку, на победу… Узнав же, сделал выбор. Мазайя быстро отозвал своих людей с поля битвы, чтобы успеть в союзники к Александру, – и сделал это вовремя. Македонец подтвердил его полномочия: Мазайя так и остался сатрапом Вавилона.
Несмотря на весь прием, оказанный ему Мазайей, Александр вступил в город осторожно, в боевом строю, самолично правя колесницей. Впрочем, повода для злорадства не было: Александр приказал выкатить золоченую колесницу Дария и въехал во дворец, как и подобает правителю.
Я старался представить себе этого странного молодого варвара, дикаря – во дворце, который был мне столь хорошо знаком. Отчего-то – быть может, из-за того, что, очутившись в захваченном шатре Дария, он первым делом принял ванну (по всем свидетельствам, Александр не уступил бы в чистоплотности любому персу) – я воображал его в царской купальне, с ее лазурными плитками и золотыми рыбками, плещущимся в нагретой солнцем воде. Завистливая мысль – здесь, в Экбатане.
Для слуг во дворце были устроены удобные помещения; их комнаты не менялись веками, с тех пор как мидийские цари жили в этих горах круглый год. Преображались с течением лет лишь царские покои: империя росла, и верхние балконы стали просторнее, они были открыты для прохлады, легкими ветерками спускавшейся с гор, чтобы принести царю свежесть отдохновения в жаркие летние дни. Сейчас они были заметены снегом.
Пятьдесят плотников смастерили ставни, закрывшие от нас горы; слуги принесли десятки жаровен, но ничто не могло по-настоящему согреть летнюю резиденцию персидских царей. Мне была понятна горечь Дария при мысли об Александре, нежащемся сейчас под теплым солнцем Вавилона.
Бактрийцы, привыкшие к суровым зимам в родных краях, чувствовали бы себя неплохо, если б не спешное бегство, заставившее их бросить пожитки на гав-гамельской равнине. Персам и грекам приходилось не слаще. Люди из горных сатрапий отправлялись на охоту, дабы самим раздобыть себе меховую одежду; иные покупали ее на базаре или же грабили селян, делая набеги в поля.
Принц Оксатр, как и прочая знать, жил во дворце. Бесс смеялся над лютым холодом сквозь свою черную бороду; Набарзан же заметил, что мы стараемся предоставить ему весь комфорт, который только можем позволить, и поблагодарил со всей учтивостью. Бесспорно, он принадлежал к старой античной школе.
Воинам неплохо платили из царской сокровищницы. Они оживили городскую торговлю, но, сильно нуждаясь в ласках редких здесь шлюх, причиняли немало бед честным женщинам. Да и сам я, совершая конные прогулки, быстро научился сторониться греческих поселений. Надо признать, греки вполне заслуживают свою славу мужеложцев. Должно быть, все они знали, кто я и кому служу, но все равно они громогласно подзывали меня свистом и криками, забыв о всякой пристойности. В любом случае я уважал их обычаи; кроме того, я отдавал должное нерушимости их слова. Греки не оставили царя в его черный час.
Последние листья опали с чахлых, убогих деревьев: их унесли ветра, срывавшие с ветвей даже снег. Дороги перекрыли заносы. Каждый новый день был похож на прошлый, и моим единственным развлечением оставались стрельба из лука да танец, хотя мне тяжело бывало разогреться, не растянув при этом связки. Для царя каждый день тянулся как целая неделя. Его брату Оксатру едва ли исполнилось тридцать, он отличался от Дария ликом и образом мыслей, на целые дни покидал дворец для охоты с другими молодыми властителями. Царь занимал сатрапов и благородных гостей дворца приглашениями на обеды, но, погрузившись в мрачные думы, мог забыть о них и не подать знака к беседе. Благодаря моим танцам, я думаю, он избавлялся от необходимости говорить. Гости же, не имевшие иных развлечений, делали мне щедрые подарки и превозносили мое мастерство в изысканных похвалах.
Мне не показалось бы странным, если Дарий пригласил бы на подобный обед Патрона, командовавшего греками. Но подобная мысль ни разу не посетила царя: он не желал впускать в покои людей, рангом подобных этому наемнику.
Наконец случилась оттепель и посланнику удалось прорваться к нам заснеженными горными тропами. То был торговец лошадьми из Суз, явившийся в надежде на награду. Теперь мы зависели от подобных ему людей и платили им сполна, сколь бы ни были печальны принесенные вести.
Александр был уже в Сузах. Город открыл перед ним свои ворота, пускай без ложного радушия Вавилона. Македонец завладел всей сокровищницей, накапливавшейся многими династиями; то была настолько внушительная сумма, что, услышав о ней, я не мог поверить в то, что весь мир способен вместить подобное богатство. Воистину, достаточно сочный кусок, чтобы удержать волков от преследования колесницы. Когда зима наверстала упущенное, вновь перекрыв дороги и заперев нас всех вместе на многие недели в окружении голых скал, люди все больше замыка-лись в себе, озлоблялись или тупели. Воины разделились на мелкие группки, возобновив старую вражду, принесенную ими из родных краев. Жители грязного городка у подножия дворца все чаще приходили с жалобами на бесчестье, постигшее их жен, дочерей или же сыновей. Подобные пустяки не досягали царских ушей; уже скоро все жалобщики разыскивали Бесса или Набарзана. Безделье, однако, не пощадило и самого Дария; он набрасывался то на одного, то на другого слугу, упрекая их за нерадивость; выбор его зачастую бывал случаен, так что все мы ходили по краю пропасти, имя которой – царская немилость. В том, что вскоре произошло со мною, виноваты те долгие, белые, пустые дни без малейшего проблеска радости. И поныне я думаю так же.
Однажды вечером он послал за мною, впервые за долгое-долгое время. Пятясь из опочивальни, Бубакис сделал мне знак и еле заметным кивком поздравил меня, но с самого начала я был не уверен ни в себе, ни в расположении царя. Мне вспомнился тогда мальчик, служивший до меня, и то, как он был отослан с обвинением в нехватке фантазии. Потому я рискнул вновь испробовать нечто, немало изумившее царя в Сузах. Все шло хорошо, пока внезапно он не оттолкнул меня и, сильно ударив по лицу, не приказал убираться с глаз, обозвав напоследок «отвратительным наглецом».
У меня так тряслись руки, что я едва смог одеться. Спотыкаясь, я брел нескончаемыми коридорами дворца, почти ослепленный слезами боли, обиды и растерянности. Закрыв лицо рукавом, чтобы вытереть их, я налетел на кого-то.
Одежды пострадавшего на ощупь показались мне богатыми, и я забормотал извинения. Он же положил ладони мне на плечи и заглянул в лицо, разглядывая меня в неровном свете укрепленного на стене факела. То был Набарзан. Стыд заставил меня проглотить слезы; Набарзан имел на удивление острый язык и при желании мог высмеять кого угодно.
– Что случилось, Багоас? – спросил он с величайшей нежностью в голосе. – Неужели кто-то решился ударить тебя? Твое милое лицо завтра испортит синяк.
Набарзан говорил со мной, словно обращаясь к женщине. Вполне естественно, но в ту минуту я был настолько унижен, что его тон оказался последней каплей. Даже не понизив голоса, я буркнул:
– Он ударил меня, просто так, ни за что. И если это сделано мужчиной, то я также могу носить это имя.
В полной тишине Набарзан взирал на меня сверху вниз. Это быстро отрезвило меня; по неосторожности я вложил свою жизнь в его руки.
– На это мне нечего ответить, – сказал он наконец. И, пока я стоял как вкопанный, осознавая страшную тяжесть вырвавшихся слов, Набарзан тронул мою пылавшую щеку кончиками пальцев. – Забыто. Но помни: мы оба отныне станем держать язык за зубами.
Я согнулся, намереваясь пасть ниц, но он удержал меня за плечи:
– Отправляйся спать, Багоас. И пусть твой сон не оставит тебя, что бы ни было сказано. Он забудет обо всем завтра же, не сомневайся.
Всю ночь я не мог сомкнуть глаз, но не из-за страха за свою жизнь. Набарзан не предаст. В Сузах я привык к мелким дворцовым интрижкам: взаимной слежке, клевете соперников, бесконечной игре во имя царского расположения. Теперь же я знал, что провалился куда-то неизмеримо глубже. Набарзан не скрывал от меня презрения – презрения вовсе не ко мне.
Когда синяк сошел, царь послал за мной и попросил танцевать, после чего подарил десять золотых да-риков. Но нет, вовсе не из-за случайного синяка саднила моя память.
7
Когда стужа пошла на убыль, с севера до нас долетели добрые вести. Скифы – из тех, что были в союзе с Бессом, – собирались прислать нам десять тысяч лучников, как только весна расчистит заносы на дорогах. Кардосцы, жившие у Гирканского моря, ответили на царский призыв обещанием подмоги в пять тысяч пеших воинов.
Управитель Персиды, Ариобарзан, также передал весточку. Он воздвиг стену, перекрывшую от края до края всю громаду ущелья Персидских Врат, единственного прохода к Персеполю. Отныне город можно было удерживать вечно; любая армия, которая осмелится войти в ущелье, будет уничтожена сверху градом камней и валунов. Александр и его люди погибнут, так и не дойдя до стены, если, конечно, нам хотя бы немного повезет.
Я слышал, как Бесс говорил своему приятелю, проходя мимо: «О, мы должны быть сейчас там, а не здесь». К счастью для самого Бесса, боги остались глухи к его желанию.
Между Персидой и Экбатаной лежит долгий и трудный путь, особенно если в резерве один лишь конь. Не успели новости достичь нас, как Александр взял Персеполь. Если бы мы только знали!
Поначалу он пытался пройти сквозь Персидские Врата, но, скоро убедившись в смертельной опасности ловушки, отозвал войско. Защитники было решили, что Александр не вернется, но македонец прознал от пастуха (коего весьма щедро наградил впоследствии) о существовании какой-то смертельно опасной козьей тропки. По ней – если только не свернешь шею – можно обойти ущелье и выбраться к городу. Той тропою Александр и провел своих воинов, сквозь тьму и снега. Он напал на персов с тыла, в то время как оставшееся войско вновь штурмовало Врата, лишенные защитников. Наши люди оказались зерном меж двух жерновов; мы же тем временем радовались новостям в Экбатане.
Текли дни; снега покрылись хрусткой корочкой наста, небо оставалось чистым и холодным, без малейшего дуновения ветра. Из окон дворца, меж оранжевых и голубых колонн, я наблюдал, как городские мальчишки играют в снежки.
Давно привыкнув к обществу мужчин, я едва мог вообразить, что это значит – быть мальчиком среди себе подобных. Мне только что исполнилось шестнадцать; мне уже не было дано познать радостей детства. Я понял вдруг, что у меня нет друзей – в том смысле, в каком это слово понимают дети, – одни лишь покровители.
Что же, думал я, нет смысла грустить понапрасну; грусть не вернет того, что отнял у меня нож торговца рабами. Есть свет и есть тьма, как говорят нам маги, и все живое на земле может выбирать между ними.
Итак, свои конные прогулки я совершал в полном одиночестве; иногда мне снова хотелось взглянуть на город-рельеф, на сияние красок и металла его стен, обрамленных белизною снега. В холмах меня коснулось дыхание свежего ветра – поразительный аромат, еле заметно пробивающийся сквозь прозрачную чистоту горного воздуха. То был первый поцелуй весны. С водосточных желобов стаяли сосульки. Из снега показалась бурая, жухлая трава; все во дворце начали выезжать на прогулки. Царь созвал военный совет, чтобы решить, что делать, когда дороги откроются и подоспеют свежие силы. Я достал свой лук и в ближней лощине подстрелил лисицу. У нее была чудесная шкурка с серебристым отливом, и я отнес ее городскому скорняку, попросив его сделать мне шапку. Вернувшись, я побежал к Бубакису рассказать о своей удаче: кто-то из слуг шепнул мне, что евнух у себя в комнате и что он «принял новости близко к сердцу».
Еще из коридора я услышал его безутешные рыдания. Не так давно я не решился бы войти, но эти времена уже минули. Бубакис лежал, распростершись на своей кровати, и плакал так, что, казалось, сердце его вот-вот разорвется от горя. Присев рядышком, я тронул его за плечо – и Бубакис обернул ко мне залитое слезами лицо.
– Александр сжег его! Сжег дотла. Все, все исчезло – там теперь одно пепелище…
– Что он сжег? – переспросил я.
– Дворец в Персеполе.
Сев на кровати, Бубакис уткнулся в полотенце, но новые слезы пролились сразу, едва только он утерся.
– Царь посылал за мной? Я не могу лежать здесь, пока…
– Ничего страшного, – отвечал я, – кто-нибудь заменит тебя.
И он рассказал мне, всхлипывая и вздыхая, о колоннах в форме лотоса, о прекрасной резьбе, о драгоценных занавесях, о золоченых сводах. На мой взгляд, все это очень напоминало Сузы, но я скорбел вместе с Бубакисом над его великой утратой.
– Что за варвар! – сказал я. – И дурак к тому же, сжечь собственный дворец! – Весть о падении Пер-сеполя уже дошла до нас.
– Говорят, он был пьян… Тебе не стоит выезжать надолго, Багоас, только потому, что царь занят на совете. Он может счесть твою свободу излишней, и это не принесет тебе добра.
– Я прошу прощения. Ну же, дай мне полотенце, тебе потребуется холодная вода.
Выжав для Бубакиса его полотенце, я сошел в зал прислуги. Мне хотелось услышать прибывшего посланника собственными ушами, пока ему еще не успела приесться история. Я едва не опоздал: те, кто уже слышал ее, все еще шушукались, рассказчика же столь усердно попотчевали вином, что он едва был способен открыть рот и тихонько подремывал на груде одеял. Зал наводняли дворцовые слуги и некоторые из воинов, отстоявшие ночную стражу.
– Был большой пир, и все они напились, – пояснил мне управляющий. – Какая-то шлюха из Афин умоляла Александра поджечь дворец, потому что Ксеркс некогда сжег греческие храмы. Первый факел Александр бросил сам.
– Но он же жил в нем!
– Где ж еще? Он разграбил весь город, едва взяв его.
Об этом я уже слышал.
– Но почему? Он ведь не грабил Вавилон. Или Сузы. – Признаться, я вспомнил о нескольких домах, которые был бы рад увидеть в пламени.
Седой воин, сотник, пояснил мне:
– А чего ж тут непонятного? Вавилон сдался. И Сузы. А в Персеполе гарнизон спасался бегством – вместо того, чтобы принести Александру ключи от города. Да они сами начали грабить собственный дворец, чтобы поменьше оставить врагу. Ни у кого не было времени прийти и сдаться, хотя бы для виду. К тому ж Александр сам заплатил своим воинам за взятие Вавилона, а потом и Суз. Но это ведь не то же самое… Два великих города пали, а солдаты не получили даже шанса на поживу. Войска не могут сдерживаться вечно.
Его громкий голос разбудил посланника. В суматохе пожара он украл двух лошадей из конюшен и теперь наслаждался важностью своих новостей, пока вино не сморило его окончательно.
– Нет, – сипло вымолвил он. – Это все греки. Царские рабы… Они вырвались на свободу и встретили Александра на дороге в город, четыре тысячи бывших рабов. Никто и подумать не мог, что их так много, пока они не собрались все вместе.
Голос его затих, и воин сказал мне:
– Не обращай внимания, пусть спит. Я расскажу тебе потом.
– Он плакал, увидев их. – Посланник рыгнул. – Один из них поведал мне… Ныне они все свободны – свободны и богаты. Александр собирался послать их домой, одарив деньгами, которых им хватит на первое время; но они не хотели, чтобы соплеменники видели их в таком состоянии. Они попросили его о земле, которую могли бы обрабатывать все вместе, ибо сами привыкли к виду друг друга. Вот, а потом он разозлился, как никогда, двинулся прямо в город и спустил своих людей с цепи. Только дворец оставил себе, а потом сжег и его.
Я вспомнил Сузы и греческих рабов, принадлежавших царскому ювелиру, культи их ног, клейменые и безносые лица. Четыре тысячи! Большинство, должно быть, жили там со дней царя Оха. Четыре тысячи! Я подумал о Бубакисе, оплакивавшем утерянную красоту… Едва ли он видел в Персеполе греческих рабов, а если и видел, то двоих-троих, не больше…
– Итак, – молвил воин, – вот вам и конец зимних торжеств. Когда-то я служил там; город останется со мной на всю жизнь… Что ж, война есть война. Помню, воевал я в Египте с Охом… – Насупившись, он умолк, но потом вскинул взгляд снова. – Не знаю, насколько пьян был Александр. Он разжег свой костер, когда уже был готов уходить.
Я понял, что он имеет в виду. Весна повсюду сменяла зиму. Но никакой воин не принимает всерьез догадливость евнухов.
– Он спалил дворец у себя за спиной. И знаешь, куда он двинется теперь? Сюда, куда же еще.








