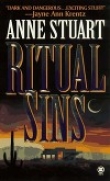Текст книги "Вскормленная"
Автор книги: Мелисса Бродер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Мелисса Бродер
Вскормленная
Посвящается Николасу
Моя мать родила двойню: меня и мой страх.
Томас Гоббс
Melissa Broder
Milk Fed
* * *
This edition published by arrangement with DeFiore and Company Literary Management, Inc. through Andrew Nurnberg Literary Agency
Jacket design by Jaya Miceli
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Copyright © 2020 by Melissa Broder
© Левин М., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2021
Глава первая
Неважно, где я жила – в Мид-Сити, в Мид-Уилшире или на Миле Чудес. Неважно, где я работала – все голливудские фабрики вранья одинаковы. А важно лишь что я ела, когда ела и как ела.
Каждый день в 7:30 у меня звонил будильник. Я вынимала изо рта размокшую за ночь никотиновую жвачку, клала на ночной столик и заменяла ее свежей. Курить я начала в шестнадцать и никогда с сигаретой не расставалась. Но когда стала работать в этой лавочке талант-менеджмента, курить весь день стало нельзя. Я переключилась на никотиновую жвачку, что позволило мне «жевать сигареты» и всегда быть в благом расположении духа. Дошло до того, что я со жвачкой не расставалась. Это мне помогало искусно ограничивать прием пищи, обеспечивая отвлечение ротового аппарата и быстрое подавление аппетита. Жвачку я покупала на «И-бее», старую и со скидкой, так что могла себе позволить. По рыночным ценам мне эта привычка обошлась бы в триста долларов в неделю.
Потом я шла в душ и делала пару глотков из-под крана, растворяя оболочку жвачки. Я любила ту, которая в оболочке, «фрут чилл» или «минт бласт», и эту оболочку в дневном приеме калорий не учитывала. Иногда меня волновало, сколько же она добавляет. После душа закидывалась второй порцией жвачки. И еще две добавляла, пока ехала на работу в пышущий зной. Эта серия жвачек у меня – первый завтрак.
От первого завтрака до второго была пауза. Иногда у меня сахар в крови падал так низко, что голова кружилась и я паниковала. И все-таки стоило отложить второй завтрак (мою первую за день настоящую еду) до 10:30 или 11:00. Чем позже я начну есть, тем больше еды смогу оставить на вторую половину дня. Лучше пострадать сейчас, но чтобы было чего предвкушать, чем видеть в зеркале заднего вида, как уплывает здоровенный кусок дневной порции. Это страдание намного хуже.
Если удавалось продержаться до 11:00 натощак, то я чувствовала себя отлично – ощущение, будто я чуть ли не святая. А если поесть в 10:30, тогда я чувствовала себя тряпкой и распустехой, хотя любая отрицательная эмоция быстро смывалась неудержимым порывом проглотить второй завтрак. Он состоял из восьмиунциевого контейнера обезжиренного греческого йогурта в смеси с двумя пакетиками сахарозаменителя, а также диетического шоколадного маффина, который можно купить лишь в супермаркете «Хельсонс». Я была настолько эмоционально зависима от этого маффина, что даже подумать боялась, что случится, если он окажется в дефиците. Покупала их по шесть коробок за раз и хранила в морозильнике.
Маффин – 100 калорий, йогурт – 90; удачное сочетание сливочности и сладости, симфония вкусов, которая мне не вредит. Самое любимое время дня – тот миг, когда я, вот только что посыпав йогурт половиной пакетика сахзама, погружаю в него ложку. В этот момент еще столько еды впереди, маффин еще не тронут, он еще даже не шоколад – обещание шоколада. А потом я всегда жалела, что ела слишком быстро, и вот уже больше нечего ждать. Грустный это момент – конец второго завтрака.
Я этот завтрак съедала у себя за столом, прямо напротив другого ассистента по имени Эндрю. Он любил НОР – Национальное Общественное Радио, – органическое арахисовое масло и непонятные скандинавские фильмы – за их непонятность. Голова у Эндрю на размер меньше, чем следовало бы иметь его долговязому телу. У него вздернутые ноздри, всегда готовые неодобрительно фыркнуть, а волосы он убирал причудливой копной, как у инди-рокера – на его маленькой голове она смотрелась как потешный парик для ужастика.
Я знала, что он осуждает меня за употребление химических подсластителей, и потому построила у себя на столе баррикаду из папок, икеевских кактусов и целого батальона кофейных чашек и там скрывалась от его ищущих глаз. В конце концов, какого-то уединения я заслуживаю, и мне оно нужно, чтобы полностью насладиться ритуалом второго завтрака.
Еще более заковыристым у меня бывал ланч. Как минимум два раза в неделю я должна была вместе со своим боссом, Бреттом Офером, встречаться за ланчем с клиентами, агентами и прочими работниками отрасли. Есть в чужом присутствии я не люблю. Ланч – это жемчужина в короне дня, и я хотела смаковать его наедине с собой, а не тратить на блюда, которые не я выбирала. Офер всегда нас водил в один и тот же ресторан, «Ласт краш», у которого с нашим офисом общий парковочный гараж, и заставлял каждого взять кучу маленьких тарелок, и потом все делить, «по-семейному» – как будто если мы котлету разъедим с клиентом пополам, то станем братьями. Кому нужен такой родственничек, как Офер? Вел он себя так, будто «по-семейному» – это хорошо.
В «Ласт краш» я вынуждена была довольствоваться макаронами с сыром, бургерами-слайдерами или телячьими котлетами. И даже овощи были испорчены добавлением жиров: брюссельская капуста удушена маслом, грибы обжарены в сухарях, цветная капуста терялась в блеске глазури. Салат с рукколой, который я заказывала как мой вклад в общий стол, просто скользкое убоище, тонул в растительном масле. Прощай.
При таких выходах я ела крошечные порции из всех этих блюд, каждой порции присваивала по 100 калорий и добавляла к итогу еще 100 за что-нибудь, чего не учла. Пусть эта алгебраическая формула несовершенна, но она мне давала некую иллюзию контроля. Но Офер всегда старался меня запутать, чтобы я съела больше.
– Кому последний слайдер? Рэйчел, я же знаю, что ты о нем дуууммаешь, – дразнился он, переходя на распев. – Так давай! Ну, давай, давай!
Вечный переросток из студенческого братства. Верит в лояльность, в общие интересы, – не потому что у нас есть какие-то связи как у личностей, а потому что мы все – элементы какой-то большей сущности. Когда он, сверкая лысиной, с прилипшей к губе крошкой котлеты проповедует добродетели «офисной культуры сотрудничества», я себе представляю, как он лет двадцать назад нес то же самое членам какого-нибудь «Альфа Эпсилон Пи».
– Ты понимаешь, как тебе повезло? А ведь ты могла работать в «Менеджмент-180», где никто ни у кого снега зимой не выпросит! Или состоять в «Дельта Ипсилон»[1]1
Старинное студенческое мужское братство (Здесь и далее прим. пер.).
[Закрыть] и пить мочу своего собрата!
Офер начинал с разбора почты в «Герше» и дослужился до агента. Через девять лет он ушел из бандитского мира агентств и открыл компанию по талант-менеджменту, «Экипаж», отчего и вообразил, будто у него есть душа. Хуже того, его жена родила дочек-близнецов, и сейчас он идентифицирует себя как «феминиста». Он нахватался верхов в социальной справедливости, согласно руководящим указаниям по разнообразию, инклюзивности и равной оплате из Hollywood Reporter. Он то и дело упоминал о своих «привилегиях», а также о нашей привилегии здесь работать. Его беспокоило, что я не нахожу счастья в том, чтобы быть «членом семьи». Талант-менеджмент – не мечта всей моей жизни, и это его задевало.
А когда меня не заставляли идти в «Ласт краш» с Офером и клиентами, я на время ланча принадлежала сама себе. И это были хорошие дни. Первым делом я шла в «Сабвей», где калории для всех блюд доступны онлайн. И брала себе рубленый салат с двойной индейкой, латуком, помидорами, желтым перцем, корнишонами и оливками. Волшебный салат, взрывной вкус – и всего лишь скромные 160 калорий. Обычно моим художником по сэндвичам бывал симпатичный студент Калифорнийского университета, накрутивший себе на голове дреды, добавляющие ему дюйма четыре роста. Он всегда спрашивал, добавить ли мне «соуса» – так в «Сабвее» называют заправку, – и я всегда отказывалась. К счастью, он никогда не пытался мой выбор оспорить. Но иногда забывал добавить в салат дополнительный латук, который и придает сабвейским салатам эту критически важную объемность.
Иногда специалист по сэндвичам бывал другой – рыжий подросток с брекетами. Салат он делал жуткий, латук у него реально тек, зато он очень интересовался личным общением со мной. Стоило мне войти в дверь, он уже кричал: «А, привет! Двойная индейка!», а я типа отвечала: «А, привет! Нет-нет, не фотографируйте». Ему не приходилось говорить, что мне без соуса – он всегда помнил, бубнил себе под нос: «без соуса, без соуса». Но каждые несколько салатов у него возникала потребность меня уговорить, расспросить меня: «А чего ты соуса не ешь? Он же бесплатный!», на что я каждый раз отвечала: «Я его не люблю».
– Слишком пряный? Слишком жидкий? – спрашивал он.
И я говорила:
– Пожалуйста, только соль и перец.
И потом всегда ела салат за столиком во внутреннем дворе «Сабвея», хотя там и не идеально. С одной стороны, я не смогла бы его есть прямо в помещении, под наблюдением создателя этого сэндвича. Но снаружи я становилась добычей любого прохожего, в том числе и людей из нашего офиса.
Не то чтобы поедание сабвеевского салата было само по себе стыдно. Но у меня были свои пищевые ритуалы, мне они нравятся, и я их защищала: как можно сильнее отделяла от всего рабочего. Они мои и только мои. Делиться ими ни с кем не хотела. Поэтому я ела снаружи, лицом к оштукатуренной стене. Ела голодно и жадно, иногда запихивая вилкой в рот смесь индейки, огурцов и перца, иногда выискивая тот или иной ингредиент – скажем, одну оливку насаживая на вилку.
Триумфальный момент моего ланча заключался в том, что он состоял из двух блюд: большой салат, а затем – замороженный йогурт. Я люблю, когда еда состоит из множества частей: это растягивает процесс. Если бы я могла есть неограниченно долго, так бы я и сделала. Мне приходилось ограничивать количество пищи, иначе не было бы секунды, когда я что-нибудь не отправляла себе в рот.
По обе стороны от «Сабвея» стояли две лавочки с йогуртом, «Йогурт уорлд» и «Йо!Гуд». В «Йогурт уорлд» нужно было обслужить себя самому. Никто не лапал ни твой йогурт, ни топинг, и даже расчет автоматизирован. Главная прелесть – ноль социального взаимодействия. В «Йо!Гуд» надо было заказывать у служителя, но йогурт там того стоил. Он бывал со вкусом банана, карамели и дрожжевого пирога, все без жира, без сахара, с низким содержанием углеводов и всего 45 калорий на полчашки.
Значит, можно получить порцию 16 унций и всего 180 калорий. А в «Йогурт уорлд» самый низкокалорийный йогурт – это 120 калорий на 4 унции. Чтобы по цифрам совпасть с «Йо!Гуд», мне тут пришлось бы брать детскую порцию. Так что я жертвовала одиночеством из математических соображений, ради объема.
Радовало, что продавец в «Йо!Гуд» не слишком рвется со мной разговаривать. Этот мальчик был из ортодоксальных евреев, лет ему девятнадцать-двадцать. Он был очень спокоен, очень вежлив, у него была синяя ермолка и курчавые пейсы. Мне становилось грустно от его мягкой манеры, а еще от того, как он произносит слово «йогурт»: йу-горт. Мне прямо заплакать хотелось между этими двумя слогами. В них какая-то невинность, серьезное желание сделать приятное покупателю, признание в йогурте вещества невероятной важности, рассчитанная и похожая на нежность точность в работе с йогуртовой машиной. Такую внимательную сосредоточенность у работника общественного питания не каждый день встретишь. А еще в нем ощущалось сдержанное отстранение: он никогда не подаст мне чашку в руки, всегда поставит ее на прилавок передо мной, покажет на тот же прилавок, куда мне положить деньги. Не из рук в руки – наши миры соприкасаться не должны. Как будто он – призрак ушедших времен. А может быть, это время только для меня ушло.
Глава вторая
Реформистская синагога, куда я ходила, пока росла в Шорт-Хилле в штате Нью-Джерси, была синагогой евреев сумки от Шанель, а не евреев Торы. Более всего я ощущала свое еврейство, когда мои дед с бабкой (тоже реформисты, но внимательно соблюдавшие кашрут) возили меня в Нью-Йорк и устраивали мне тур по всем старым кулинарным призракам нашего племени. И у деда, и у бабки был диагноз «ожирение». У них в результате избыточного веса развился диабет, но еда все равно была вещью, достойной праздника. В кошерных молочных ресторанах подавали теплые, смазанные маслом луковые рулетики и селедку в сливках, в «Дели» на Второй авеню – капустный борщ и сэндвичи с горячим пастрами. А еще – черно-белые печенья от «Десертов Уильяма Гринберга», пинты и кварты солений – кислые, полукислые и сладкие – из «Гусса» на Эссекс-стрит.
Когда я возвращалась из Нью-Йорка, мать просила полный отчет обо всем, что я там ела. «Ты хочешь быть пампушкой или хочешь нравиться мальчикам?» – спрашивала она.
Дедушка с бабушкой – лишь краткая передышка от вселенной, а вселенной была мать. Вселенная и ее истинный смысл. Мать – солнце, мать – правила, мать – сам Господь Бог! Мать – верховная жрица еды, религии нашего дома: воздержание, воздержание и еще раз воздержание! Мать и ее архаические представления о диете: дыня и творог, тунец и морковка, хлебцы. Мать – грозный судья, врывающийся в примерочную магазина детской одежды, а мне шесть лет, и она шепчет: «Представь себе Эми Дикштейн в этом платье. А теперь посмотри на себя». Этот шепот вошел в меня глубоко и остался навсегда.
Я была пухловатая, как клецка, и низкорослая. Мама боялась, что от маленького роста я буду сильнее набирать вес, превращусь в ярмарочного уродца. Она видела будущие страдания, боялась, что я вырасту точно такая, как ее родители, ожирения которых она стыдилась, или как толстая кузина Венди, которая была несчастна. Вот интересно, если бы я могла вернуться в то время и спасти себя из той примерочной, я бы это сделала? Наверное, нет. Мне самой эта пухлая девчонка неприятна.
Чем больше мать ограничивала мой прием пищи, тем больше я жрала украдкой. Меня разносило, а она не могла себе представить, что я ворую конфеты в магазинах и поедаю в гардеробной чужие завтраки. На детских днях рождения она сверлила меня глазами, когда я откусывала пирог. Грозила, что будет учителей спрашивать, что я в школе ем, если я еще буду набирать вес. Раз в месяц я взвешивалась на весах в YMCA[2]2
YMCA – от англ. Young Men’s Christian Association – «Юношеская христианская ассоциация».
[Закрыть]. При людях она не орала, но потом я плакала в машине на заднем сиденье.
В шестнадцать я сама начала ограничивать себя в еде. Выработала для этого арсенал уловок: диет-кола, сигареты, подсластители ко всему, откладывание еды, овощи на парý и всегда есть только в одиночестве. Мы с бабушкой и дедушкой по-прежнему ездили в Нью-Йорк, но рестораны, бывшие когда-то для меня храмами, превратились в капканы. Я как фехтовальщик отбивалась от всех этих блинчиков, кнышей и шанежек, заменяла хоменташи с вишней диетической газировкой «Др. Браун». Ловко уклонялась от клецок из мацы, выстраивала границу между собой и бубликами, спасалась маринованными огурчиками – очень низкокалорийными, барух ашем[3]3
Слава богу (ивр.).
[Закрыть].
Много лет мне не удавалось похудеть нормально. А потом вдруг я похудела чересчур. Мне надо было сбросить 20 фунтов, а я сбросила 45. И мне хотелось, чтобы так осталось навсегда. Я еще сильнее сузила рацион: шпинат, брокколи, курятина на пару. Говорила, что у меня спартанский режим. От осознания собственной жертвы кружилась голова.
Только я все время мерзла. Чуть ли не жила в горячей ванне. Тело стало покрываться пушком, прекратились месячные. Ночами мне снились взбесившиеся буфеты. Ночью подвздошные кости больно упирались в кровать. По школе пошел шепоток, мать не говорила ничего.
Как-то вечером меня так трясло, что я испугалась, как бы не умереть. И сказала матери:
– Я тебе что-то скажу. Кажется, у меня расстройство пищевого поведения. Может быть, анорексия.
– Анорексички куда тощее тебя, – ответила она. – Они выглядят как жертвы концлагеря, их сразу госпитализируют. Нет у тебя анорексии.
– У меня уже больше двух месяцев как не приходят месячные.
Это ее встревожило. Моя фертильность была для нее важна: она хотела когда-нибудь иметь внуков. Мать послала меня к нутриционистке, и та мне помогла увеличить дневной прием калорий. Мы это делали медленно, методично, со схемами и списками, где каждый сеанс еды был расписан по объемам и калориям.
Я перестала мерзнуть – просто зябла. Прекратилась дрожь, исчез пух. Снова можно стало спать на животе, шепотки стихли. Снова начались кровотечения. Но меня с тех пор неотступно преследовали калории. Постоянный их подсчет не прекращался в голове ни на секунду.
Глава третья
Стоя в очереди за йогуртом в «Йо!Гуд», я обдумывала смесь, которую сотворила бы, если бы каким-то волшебным образом стала невосприимчива к калориям. Мне мерещился йогурт «красный бархат», сочащийся карамелью и посыпанный стружками «Сникерса». Йогурт «дульсе де лече» я погружала в соус маршмеллоу, потом поливала потоком измельченных «ореос». На планете из голландского шоколада жили всяческие виды мармеладок: медведи, черви, рыбы, пингвин, динозавр и персиковые колечки. Там на горе из сливочного пирога шел снег из конфет «риис пис» и выпадала шоколадная роса.
Здесь было все: клубника в сиропе, сдобные шарики печенья, крошечная радужная присыпка пастельных тонов. Горячая помадка, теплая карамель, ирисковый соус, застывающий в момент прикосновения. Была здесь и диетическая версия горячей помадки, которая вызывала мысль: «А что такого? Неужто даже капельку нельзя попробовать?» Но неясный результат подсчета калорий в этой капельке содержал слишком много переменных. И я боялась, что если один раз попробую этот соус, то уже без него есть йогурт не смогу. Не верила, что у меня хватит воли один раз попробовать помадку и оставить ее в покое.
К счастью, юноша-ортодокс не спросил: «Без топинга?» – как мастер сэндвичей в «Сабвее» спрашивал: «Без соуса?» Я внимательно смотрела, как он накачивает мне йогурт, и следила, чтобы не налил через край (эту пену с воздухом по калориям не учтешь). Когда дошло до верха, я крикнула: «Стоп!» Он тут же остановился, поставил чашку на прилавок и приятным голосом сообщил, сколько стоит весь «юггорт». Ничем, кроме вежливости, он не показывал, что узнает во мне постоянную клиентку. Я была за это благодарна.
Первые три четверти чашки я поглощала за дальним столом, развернувшись лицом в угол. Я всегда зябла, но предпочитала есть в холодном зале, а не на улице на солнышке, потому что там народу много. У меня был свой стиль и ритм поедания йогурта, и я не хотела, чтобы на меня глазели. Первым делом я слизывала с боков чашки растаявшие кусочки. Потом ложку за ложкой клала в рот холодную массу и гоняла между зубами взад-вперед, чтобы она стала жидкой.
А когда доходило до последней четверти чашки, я эту методику оставляла и с остатками порции выходила на улицу. Эти последние пять минут на солнце – они как в Эдеме, только конец Эдема, потому что впереди – мерзлявый офис. Там так сильно включают кондиционеры, что мне приходилось за столом работать в куртке. Но в эти последние мгновения тепла я причащалась остатками йогурта и представляла себе, как солнце пронизывает меня насквозь, создавая силовое поле, которое будет существовать вечно и согревать меня остаток дня. Потом я возвращалась в офис и снова залезала в куртку.
Вторую половину дня я почти все время думала о грядущем перекусе: шоколадный протеиновый батончик на 180 калорий. В хорошие дни я могла его отложить – как маяк сладости, как надежду и ожидание – до выхода из офиса в шесть вечера на фитнес. В плохие дни я его разворачивала еще за рабочим столом («только понюхаю») и заглатывала.
Я просто влюблена была в эти протеиновые батончики: конфетный вкус, сливочность и чувство насыщения, которые в него впрессованы. Недавно я была просто убита, когда, изучая упаковку, нашла, что его втихаря утяжелили на 20 калорий. Когда это случилось? Как долго я была в неведении? Там изменился рецепт или они нарочно вводили всех в заблуждение все это время? Кажется, тут публичные извинения положены. Но потом я стала потихоньку восстанавливаться и учиться снова доверять протеиновым батончикам.
Поглощение батончика я откладывала до «дневного чая» на кухне офиса. Чай я любила пить с Аной, нашим офис-менеджером. Ей было за пятьдесят, у нее была пышная грудь, и одевалась она в изысканные блузки с глубоким вырезом, заправленные в брюки с высокой талией, подчеркивающие ее стройный торс. Почти все женщины возраста Аны, работающие в отрасли развлечений, накачиваются ботоксом едва ли не до смерти. А у Аны переделки были очень элегантные: почти незаметные филлеры, мягкое разглаживание – и тоненькие морщинки вокруг хорошенького рта и больших карих глаз есть, а глубоких складок и морщин нет. Подправленная реальность, а не откровенная фальшь.
– Тсс! – сказала мне Ана, чтобы слышно было, как в коридоре Офер говорит по телефону. – Знаешь, похоже, что фильмы становятся все глупее.
– Знаю. Есть ли что-то хуже индустрии развлечений?
Бывший муж Аны был в начале двухтысячных продюсером хитовой трилогии вампирских фильмов: «Ночная всячина», «Нисхождение тайны» и «Злобный саван». На этапе монтажа «Нисхождения тайны» он бросил жену и девятилетнего сына ради гримерши по спецэффектам. Сейчас Ана вынуждена работать в индустрии развлечений, чтобы прокормиться, и это ее оскорбляет. Она только потому осталась в Лос-Анджелесе, что ее сын со своей девушкой живет в Хайланд-парке.
– Я старше тебя, и потому все ненавижу сильнее, – говорила она. – Постой. Скажи, что этого офисного «Липтона» не пьешь. Возьми моего «Харни-н-санс», прошу тебя.
Мне было приятно, что Ана хочет мне дать приличный продукт. Вообще-то я «Липтон» любила: добавляла к нему чайную ложечку искусственных сливок и четыре пакетика сахзама, получается как милкшейк. Но мне так хотелось почувствовать от нее заботу! Не то чтобы она меня больше всех любила, просто всех остальных она сильнее ненавидела. Мы с нею стали «мы», поскольку все наши коллеги были очень уж «они». И мне просто нравилось быть «мы».
Вот интересно: она за моей спиной так же меня дерьмом поливала, как всех прочих?
– Ты хотя бы не жрешь того брандахлыста, что они тут всюду оставляют, – говорила Ана. – Другие ассистентки многовато себе позволяют булочек. Эта вот Кайла – похоже, она на один сырный даниш перебирает.
Я надеялась, что далеко, далеко еще недобираю. Говорили, что мы с Аной друг на друга похожи. Она с виду больше напоминает меня, чем моя родная мать. У обеих нас изобилие грубых курчавых русых волос, оливковая кожа, к которой на солнце легко пристает загар, и темно-карие глаза. У матери – тонкие черные волосы, серые глаза, а кожа такая светлая, что кажется прозрачной. Но в своем уравнивании понятий «худая» и «правильная» они полностью совпадают. Мать, чтобы убедить меня оставаться тощей, меня злословила. Ана для той же цели злословит всех, кроме меня. Здесь отсутствие отвержения ощущается как принятие.