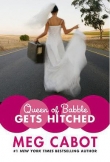Текст книги "Королева сплетен"
Автор книги: Мэг Кэбот
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
– Enchanté,[12]12
Рад видеть (фр.).
[Закрыть] – говорит мужчина, поднося мою руку – ту, что не сжимает остатки шоколадного бутерброда, – к губам, но не касаясь ее. – А я – Гильом де Вильер. Не хотите ли взглянуть на мою винодельню?
– Папа, – говорит Люк, поспешно выбираясь из бассейна. – Лиззи не хочет прямо сейчас смотреть твои виноградники. Она загорает.
Так, значит, этот очаровательный пожилой джентльмен – отец Люка. Не могу сказать, что вижу разительное сходство между ними. У Люка темные вьющиеся волосы, а у месье де Вильера – редкие и совершенно белые.
Но у него такие же, как у Люка, карие с искоркой глаза.
– Нет-нет, – говорю я и тянусь за сарафаном. – Я очень хочу взглянуть на вашу винодельню, месье де Вильер. Я столько о ней слышала, а вчера еще и имела удовольствие попробовать ваше шампанское…
Месье де Вильер польщен.
– По правилам нельзя называть его шампанским, если оно не было приготовлено в провинции Шампань. То, что я готовлю, можно называть игристым вином.
– Что ж, – говорю я, слизнув с ладони остатки шоколада, чтобы обеими руками натягивать сарафан, – в любом случае это было вкусно!
– Merci, merci![13]13
Спасибо, спасибо! (фр.).
[Закрыть] – восклицает месье де Вильер. Люк подошел к моему шезлонгу. Вода с него капает на ноги Доминик, провоцируя ее раздраженный взгляд. Обернувшись к сыну, месье де Вильер добавляет:
– Мне нравится эта девушка!
– Тебе не обязательно идти с ним, – говорит Люк. – Не давай ему запугать себя. Он у нас этим славится.
– Я хочу пойти, – улыбаюсь я. – Никогда раньше не бывала на винодельне, хотелось бы взглянуть, если у месье де Вильера найдется время.
– У меня куча времени! – восклицает отец Люка.
– На самом деле, нет, – замечает Доминик, взглянув на свои золотые часики. – Биби будет здесь меньше чем через два часа. Разве вам не надо…
– Нет, нет, нет, – заявляет месье де Вильер. Он берет меня за локоть, чтобы поддержать, пока я надеваю сандалии. Или чтобы не дать мне сбежать. А мне именно это хочется сделать, учитывая, что отец Люка ведет этот разговор с полуголой девушкой сына.
Я пытаюсь представить ситуацию, в которой чувствовала бы себя совершенно комфортно с голой грудью перед отцом кого-нибудь из моих бывших, и у меня не получается.
– Мы по-быстрому, – обещает месье де Вильер Доминик.
– Я пойду с вами и проконтролирую, чтобы так и было, папа, – говорит Люк и берет полотенце, которое ему протягивает Агнесс. – Не хочу, чтобы ты утомил Лиззи до смерти в первый же день.
О! Люк идет с нами. Скучно не будет! Пока мы удаляемся от бассейна и движемся к винодельне за главным домом, я понимаю, что Люк забыл свою рубашку. Все-таки в обнаженных торсах определенно что-то есть.
Индустриальная революция принесла с собой не только паровой двигатель и осознание необходимости чередовать азотофиксирующие и злаковые посевы. Нет! Середина 1 850-х увидела изобретение куда более важное и полезное для человечества. Кринолин, или юбка на каркасе. Получив возможность войти в клетку из стальных колец, вместо того чтобы облачаться в тонны и тонны нижних юбок, дабы придать юбке требуемый модой объем, женщины повсеместно обрели свободу передвигать ногами.
Но то, что поначалу казалось гениальной находкой, вскоре оказалось фатальной ошибкой для многих ничего не подозревающих сельских девушек. Кринолин привлекал не только ненужных поклонников, но и молнии. Это он стал виной того, что сотни и сотни девушек во время грозы превращались в пылающий факел.
История моды. Дипломная работа Элизабет Николс
15
Человек, воистину говорящее животное, единственный, кому для продолжения рода нужны разговоры… В любви разговор важнее, чем что-либо еще. Любовь – самое словоохотливое из всех чувств и в большой степени состоит из разговоров.
Роберт Мусиль (1880–1942), австрийский писатель
Прекрасно. Еще только полдень, а я уже пьяна. Но не по своей вине! За весь день я выпила кружку капуччино и съела шоколадный бутерброд да несколько пыльных и не очень спелых виноградин, которые месье де Вильер сорвал для меня, пока мы осматривали виноградники.
А потом, когда мы перешли в винодельню, отец Люка все наливал и наливал мне вино из разных дубовых бочонков, заставив перепробовать все. Через некоторое время я попыталась отказаться, но у него был такой огорченный вид!
И он был так добр ко мне – провел по всем виноградникам и по ферме. Терпеливо ждал, пока я гладила бархатный нос лошади, высунувшей голову через каменную изгородь. Я визжала от восторга, обнаружив обладателей тех колокольчиков, которые слышала раньше (это и впрямь оказались коровы – целых три штуки, – снабжающие молоком шато).
Потом появились собаки, жаждущие поприветствовать хозяина – бассет-хаунд по имени Патапуф и такса Минуш. От меня потребовали покидать им палку – хотя бассет, бросаясь за ней, запутывался в собственных ушах. Я узнала в подробностях всю историю жизни друзей человека.
А еще надо было поздороваться с фермером, пожать мозолистую руку и выслушать его абсолютно непонятный французский. Позже месье де Вильер спросил, поняла ли я хоть что-нибудь, и дико хохотал, когда я ответила, что ни слова.
Потом надо было покататься на тракторе и узнать историю здешних мест – не удивительно, что я захмелела. А ведь было еще десять сортов вина! И все такие потрясающе вкусные.
И вот теперь у меня слегка кружится голова.
Или это из-за близости Люка? К сожалению, он сходил в дом, переоделся в свежую рубашку и джинсы и только потом присоединился к нам.
Но волосы у него по-прежнему влажные, и мокрые пряди так маняще прилипают к загорелой шее, что когда мы катались на тракторе, мне нестерпимо хотелось его обнять. Даже сейчас, в полумраке винного подвала, я то и дело смотрю на его обласканные солнцем руки и гадаю, каково это будет прикоснуться к ним кончиками пальцев…
О господи, да ЧТО ЭТО СО МНОЙ? Наверное, я точно напилась. Ведь он же ЗАНЯТ. Причем занят девушкой, гораздо красивее и совершеннее меня.
К тому же я ведь только-только рассталась с Энди.
И все же не могу отделаться от мысли, что Доминик не подходит Люку. И дело тут вовсе не в ее сандалиях. В конце концов многие в общем-то приятные люди носят чрезмерно дорогую обувь.
И не в том, что Доминик собирается переделать Мирак в отель. И не в том, с каким презрением она относится к мечте Люка стать врачом (конечно, он не делился со мной своей тайной мечтой, поэтому приходится верить Доминик на слово, что такая мечта вообще есть).
Нет, просто Люк так трогательно относится к отцу, так безгранично терпелив к увлечению старика виноделием, его историей… Как он следил, чтобы отец не споткнулся и не зацепился за что-нибудь, взбираясь на всевозможные агрегаты и демонстрируя мне их действие. А как он приказал Патапуфу и Минушу сидеть, когда собаки слишком долго, ласкаясь, бросались к отцу. И как он мягко тянул отца за рукав, оттаскивая от огромной лошади.
В наши дни не часто встретишь такое чуткое отношение сына к отцу. Например, Чаз со своим отцом вообще не разговаривает. Хотя, конечно, Чарльз Пендергаст-старший – тот еще сукин сын.
Но все равно.
Такой парень – внимательный, терпеливый и милый – заслуживает большего, ему нужна девушка, которая поддерживает его мечты…
– Ты старомодна, – говорит месье де Вильер, вторгаясь и мои недобрые мысли о девушке Люка. Мы втроем сидим в тишине, прислонившись к бочке, и потягиваем каберне совиньон. Как сказал отец Люка, оно еще очень молодо… слишком молодо, чтобы разливать его по бутылкам… Как Вуд го я знаю, в чем разница.
– Простите? – Я знаю, что пьяна, но не до такой же степени. Что он такое говорит? И вовсе я не старомодна.
– Платье. – Месье де Вильер показывает на мой сарафан. – Оно же очень старое, нет? Ты старомодна для американской девушки.
– А. – Я наконец понимаю, что он имеет в виду. – Вы хотите сказать, классическое. Да, это платье очень старое. Может, даже старше меня.
– Я уже видел такие платья раньше, – добавляет месье де Вильер. По тому, как он отмахивается от мухи – не очень-то уверенно, – понятно, что он тоже хлебнул лишку своего собственного вина. Что ж, день жаркий, и от такой беготни по полям пить-то захочется. А в подвале нет кондиционера.
Хотя здесь стоит приятная прохлада. Это необходимо, поясняет месье де Вильер, чтобы вино правильно ферментировалось.
– Наверху, – продолжает он, – в этом… – Он вопросительно смотрит на Люка. – Grenier?
– На чердаке, – подсказывает Люк и кивает. – Точно. Там есть куча старой одежды.
– На чердаке? – я тут же трезвею, забыв о количестве выпитого и неотразимости Люка. Я выпрямляюсь и смотрю на них обоих, прищурившись. – У вас на чердаке есть классические платья Лилли Пулитцер?
Месье де Вильер немного смущается.
– Это имя мне незнакомо. Но я видел там такие платья, – говорит он. – Наверное, это вещи моей матери. Я собирался отдать их бедным…
– Можно мне посмотреть? – спрашиваю я, стараясь не выдать волнения.
Думаю, мне это не особо удается, потому что отец Люка хмыкает и говорит:
– А! Ты любишь старую одежду так же, как я люблю свое вино!
Я краснею – боже, как неловко! Не хотелось показаться такой корыстной.
Но месье де Вильер кладет мне руку на плечо и говорит:
– Нет, нет, я вовсе не смеюсь над тобой. Просто мне очень приятно. Я люблю, когда люди проявляют свою страсть к чему-либо, потому что у меня самого есть страсть. – И он поднимает повыше бокал вина, демонстрируя, в чем состоит его страсть, – на тот случай, если я еще не догадалась.
– Но особенно приятно видеть страсть у молодой особы, – продолжает он. – Многие молодые люди сегодня не интересуются ничем, кроме денег!
Я кидаю встревоженный взгляд в сторону Люка. Потому что если Доминик сказала правду, и он предпочел изучать бизнес вместо медицины, то он – как раз один из тех «молодых людей», о которых говорит его отец.
Но насколько я вижу, Люк не терзается чувством вины.
– Я отведу тебя на чердак, если хочешь взглянуть на это старье, – вызывается он. – Только в прошлом году у нас сильно протекла крыша. Многое наверняка испорчено.
– Не испорчено, – поправляет его месье де Вильер. – Просто немного заплесневело.
По мне так лучше уж заплесневевшая Лилли Пулитцер, чем вообще никакой.
Люк, должно быть, почувствовал мое нетерпение.
– Ладно, пошли, – говорит он со смешком. А отцу добавляет: – Может, вернешься в дом и выпьешь немного кофе? Тебе бы надо протрезветь немного до приезда мамы.
– Твоя мать. – Месье де Вильер округляет глаза. – Да, пожалуй, ты прав.
Вот так и вышло, что через пару минут, поблагодарив старшего месье де Вильера за интереснейшую экскурсию и оставив его возле огромной кухни, я оказываюсь на пыльном, затянутом паутиной чердаке вместе с месье де Вильером-младшим и копаюсь в сундуках со старой одеждой, безуспешно пытаясь скрыть свой восторг.
– О боже! – восклицаю я, открыв первый сундук и обнаружив под китайским чайным сервизом юбку Эмилио Пуччи. – Чьи, твой папа сказал, это вещи? Его матери?
– Трудно сказать, – отвечает Люк. Он осматривает потолочные балки, видимо, выискивая следы новой протечки. – Некоторые сундуки старше меня. Де Вильеры, с прискорбием должен признать, те еще сундучники. Бери все, что понравится.
– Я не могу, – говорю я, а сама тем временем прикладываю юбку к бедрам, проверить, подойдет ли. – Вот взять эту юбку. Да за нее легко можно выручить двести долларов на интернет-бирже. – Я издаю зачарованный вздох и снова ныряю в сундук.
Господи, да ведь я нашла раритет из раритетов – редчайшее платье тигровой раскраски Лилли Пулитцер… с подходящим шейным платком.
– Я не собираюсь заниматься продажей этого добра, – отвечает Люк. – Так что пусть лучше оно достанется тому, кто может это оценить. А это, судя по всему, ты.
– Я серьезно, Люк, – говорю я. При этом склоняюсь к сундуку и выуживаю оттуда немного помятую, но совершенно настоящую голубую бархатную шляпу Джона Фредерикса, – у тебя тут собраны совершенно замечательные вещи. Все, что им нужно, это немного нежности, любви и заботы.
– Очень точное замечание, – Люк разворачивает деревянный стул, усаживается на него верхом и внимательно смотрит на меня. – Это то, что нужно всему Мираку.
– Нет, это место просто сказочное. Вы просто молодцы, что умудрились сохранить его таким.
– Да, это было непросто, – отвечает Люк. – Во времена кризиса 1929 года мой дед потерял практически все, в том числе и урожай того года, из-за засухи. Пришлось продать тогда много земель, чтобы хотя бы заплатить налоги.
– Правда? – я забываю о сундуках и с интересом слушаю Люка.
– Потом была фашистская оккупация. Деду удалось избежать расселения офицеров СС в Мираке: он сказал, что у моего отца инфекционная сенная лихорадка… Никакой лихорадки, конечно, не было, но немцы стали искать другое место. Но все равно годы войны были не лучшими для виноделия.
Я усаживаюсь на крышку сундука рядом с тем, что я только что распотрошила. Подо мной какой-то бугор, но я едва замечаю это.
– Наверное, это странно – владеть местом, у которого такая история, – говорю я. – Особенно если…
– Если что?
– Ну, – неуверенно продолжаю я, – если владение шато – не совсем дело твоей мечты. Доминик что-то говорила насчет того, что ты хочешь стать… э-э… врачом.
– Что? – Он резко выпрямляется, и его глаза становятся непроницаемо-черными. – Когда это она такое сказала?
– Сегодня, – невинно сообщаю я. А в чем, собственно, моя вина?.. Доминик же не сказала, что это секрет. Хотя, учитывая мою натуру, вряд ли это многое изменило бы. – У бассейна. А что, это не так?
– Нет, не так, – говорит Люк. – Ну, то есть да, одно время хотел… Господи, что еще она говорила?
Что ты – внимательный и чуткий любовник в постели, хочется сказать мне. Что девушке не приходится самой о себе заботиться, когда она с тобой, потому что ты все сделаешь за нее.
– Ничего, – говорю я вместо этого. Потому что Доминик, само собой, ничего такого не говорила. Это всего лишь игра моего грязного, больного воображения. – Вот разве что про то, как она хочет переделать Мирак в отель или спа для выздоравливающих после пластических операций. Люк еще больше удивился.
– Пластических операций?
Я становлюсь пунцовой. О нет. Я. Только что. Снова. Это. Сделала. Я разворачиваюсь к сундукам, пытаясь скрыть краску стыда.
– Господи, Люк, да тут чудесные вещи!
– Погоди. Что сказала Доминик?
Я бросаю на него виноватый взгляд:
– Ничего. Правда. Мне не следовало… Это ваше личное дело – твое и ее… Я знаю, меня это не касается… – Но сдержаться я уже не могу и вываливаю все. – Но мне кажется, тебе не следует превращать это место в отель, – выпаливаю я на одном дыхании. – Мирак – такое самобытное место. Превращать его в отель ради извлечения прибыли – значит разрушить его.
– Пластические операции? – снова повторяет Люк все также недоверчиво.
– Я могу понять, в чем притягательность, – говорю я. – Ведь ты же хотел быть врачом, но…
– Да я не… – Люк вскакивает со стула и в два прыжка оказывается у дальней стены чердака, ероша густые, кудрявые волосы. – Я говорил ей, что когда-то, в детстве, хотел быть врачом. Потом я подрос и понял, что мне придется еще четыре года учиться после колледжа… плюс еще три года в ординатуре. А мне не так уж нравится учиться.
– О, – говорю я и снова плюхаюсь на неровную крышку сундука. – Так, значит, дело не в том, что банкиры-инвесторы зарабатывают больше, чем врачи?
– Она сказала, что я именно так все объяснил?
Я понимаю, что вступаю на опасную территорию, поэтому вскакиваю и с нарочитым удивлением спрашиваю:
– На чем это я сижу?
– Это неправда, – продолжает Люк, подходя ко мне, а я тем временем наклоняюсь к чему-то, завернутому в белую тряпку. – К деньгам это не имеет никакого отношения. Конечно, во время учебы я бы ничего не зарабатывал, а это лишние заботы. Не буду врать. Мне нравится иметь собственные деньги и не зависеть от родителей. Мужчина должен сам платить по своим счетам. Понимаешь?
– Да-да, – говорю я, разворачивая белую тряпку, намотанную на что-то длинное. – Конечно, понимаю.
– Я справлялся насчет программ медицинской подготовки для бакалавров в нескольких школах – потому что пожелай я сейчас поступить в медицинскую школу, не имея специальной подготовки, мне пришлось бы обязательно пройти научные курсы.
– Конечно, – соглашаюсь я, продолжая трудиться над тем, что было завернуто во что-то вроде белой скатерти.
– Да, я подавал заявления в пару таких школ. И меня даже приняли в школы при Колумбийском и Нью-Йоркском университетах. Но даже если бы я занимался там по полной программе, включая лето, это заняло бы целый год, который мне все равно не засчитают в годы обучения на врача. Мне это надо? Учиться еще целых пять лет? Когда мне совсем не обязательно это делать?
– О господи! – Я наконец развернула длинный твердый предмет. И разглядела, во что он был завернут.
– Это охотничье ружье моего деда, – поясняет Люк встревоженно. – Лиззи, не держи его так. – Он поспешно забирает у меня ружье, открывает и заглядывает в ствол.
– Оно все еще заряжено, – упавшим голосом сообщает он.
Теперь у меня освободились обе руки, и я могу разглядеть тряпку, в которую было завернуто ружье.
– Лиззи. – Голос у Люка все еще напряжен. – На будущее, не размахивай даже незаряженным ружьем и тем более не цель им себе в голову. У меня чуть инфаркт не случился.
Но голос его звучит откуда-то издалека. Я разглядываю платье, оказавшееся у меня в руках. Помятое, с пятнами ржавчины, белоснежное шелковое платье до пят, с узкими бретельками (изнутри к ним пришиты петельки, чтобы прятать бретельки от бюстгальтера), чудными сборками под чашами лифа и рядом пуговиц на спине – не иначе как из настоящего жемчуга.
– Люк, чье это платье? – спрашиваю я, высматривая внутри ярлычок.
– Ты меня слышала? – обращается ко мне Люк. – Эта штуковина заряжена! Ты могла себе голову снести.
И тут я нахожу ярлык. И у меня чуть сердце не останавливается – на маленьком клочке белой ткани аккуратно вышиты черным всего два слова: «Живанши Кутюр».
Меня словно мешком пристукнули.
– Живанши… – запинаясь, бормочу я и плюхаюсь на соседний сундук, потому что ноги вдруг подкосились. – Живанши Кутюр!
– Господи, – снова повторяет Люк. Он уже разрядил ружье, осторожно положил его на стул, на котором сидел раньше, и теперь заботливо склонился надо мной. – С тобой все в порядке?
– Нет, не все, – говорю я, хватаю его за рубашку и подтягиваю к себе, так что он вынужден опуститься на колени рядом со мной и его лицо оказывается совсем рядом с моим.
Он не понимает.
– Это вечернее платье Юбера де Живанши. Бесценное, уникальное вечернее платье от одного из самых оригинальных классических кутюрье в мире. И кто-то взял и завернул в него старое ружье… которое… которое…
Люк с тревогой смотрит на меня.
– И?
– Которое ПРОРЖАВЕЛО на нем!
Губы его отчего-то вдруг изогнулись. Он улыбается. Чему он улыбается? Он что, не понимает?!
– РЖАВЧИНА, Люк, – в отчаянии кричу я. – РЖАВЧИНА. Ты хоть понимаешь, как трудно вывести пятна ржавчины с такой тонкой ткани, как шелк? И посмотри, посмотри сюда… одна бретелька порвана. И подол – здесь тоже порвано… и здесь. Люк, ну кто мог сделать такое? Как можно было… УБИТЬ такое прекрасное платье?
– Не знаю. – Люк по-прежнему улыбается. Очевидно, до него так и не дошло.
Но зато он положил свою руку на мою, все еще сжимавшую его рубашку. Пальцы у него теплые и успокаивающие.
– Но у меня такое чувство, что если кто в мире и способен вернуть жертву к жизни, – продолжает он глубоким тихим голосом, который в тишине чердака кажется еще глубже и проникновеннее, – так это ты.
Его глаза кажутся такими темными и притягательными… как и губы, которые так и хочется поцеловать.
НУ ПОЧЕМУ У НЕГО ЕСТЬ ДЕВУШКА? Это нечестно. Нечестно.
И я делаю единственное, что можно сделать в данных обстоятельствах. Отпускаю его рубашку и отвожу взгляд.
– Думаю… – говорю я, опуская глаза и надеясь, что он не слышит, как колотится мое сердце. – Можно попробовать… Если ты, конечно, не возражаешь.
– Лиззи, – говорит Люк. – Это платье пролежало на чердаке уйму времени, с ним обращались не очень-то почтительно. Думаю, оно заслужило, чтобы достаться тому, кто сможет отнестись к нему с должным вниманием и заботой.
Так же, как ты, Люк! – хочется закричать мне. Ты тоже заслуживаешь того, чтобы кто-то окружил тебя заботой и вниманием. Кто-то с пониманием отнесся бы к твоей мечте стать врачом, а не тянул бы тебя переезжать в Париж, кто был бы рядом с тобой все эти пять лет учебы и пообещал бы никогда не превращать дом твоих предков в спа для постпластической реабилитации, даже если это обещает приносить больше денег, чем свадьбы.
Но, само собой, сказать этого я не могу.
Вместо этого я говорю:
– Знаешь, Чаз осенью едет в Нью-Йоркский университет. Может, если бы ты решил все же пойти на эти – как их там – подготовительные курсы, вы могли бы снять квартиру вместе.
Если, конечно, добавляю я про себя, Доминик не увяжется за тобой…
– Да, – говорит Люк, улыбаясь, – как в старые добрые времена.
– Потому что, – продолжаю я, тщательно следя за тем, чтобы держать свои руки подальше от него, например, на гладком шелке платья на коленях, – я считаю, если чего-то действительно хочешь – например, стать врачом, – надо идти к цели. Иначе, возможно, будешь жалеть об этом всю жизнь.
Люк по-прежнему стоит на коленях возле меня, и его лицо совсем рядом с моим – слишком близко, если он хотел просто утешить меня. Я стараюсь не думать о том, что мой совет – идти прямо к цели – вполне может относиться и к моему желанию поцеловать его. А ведь у меня может не быть другого шанса узнать, каково это.
Но целовать парня, у которого есть девушка, – это неправильно. Даже если эта девушка думает в первую очередь о своих интересах. Так могла бы поступить Бриана Дунлеви из «МакКрэкен Холла».
А Бриану никто не любит.
– Не знаю, – говорит Люк.
Мне кажется, или он действительно не сводит глаз с моих губ? Может, у меня что-то к помаде прилипло? Или – о боже! – у меня покрасились зубы от вина?
– Это очень серьезный, рискованный шаг, который может изменить всю жизнь, – задумчиво произносит Люк.
– Иногда, – говорю я, и сама не свожу глаз с его губ. Его зубы, кстати, совсем не покрасились, – приходится сильно рисковать, если мы хотим понять, кто мы такие на самом деле и зачем родились на свет. Вот, например, как я – бросила все, села на поезд и приехала во Францию, вместо того чтобы сидеть в Англии.
Так, он определенно наклоняется ко мне. Он наклоняется ко мне! Что бы это значило? Неужели он хочет поцеловать меня? С какой стати ему целовать меня, когда у него есть прекраснейшая в мире девушка, которая к тому же лежит полуобнаженная у бассейна.
Нельзя позволять ему целовать себя. Даже если он захочет. Потому что это будет неправильно. Он же занят!
К тому же я уверена, у меня все еще неприятный привкус во рту от вина.
– А риск того стоил? – спрашивает он.
Я не могу отвести взгляд от его губ, которые все ближе и ближе к моим.
– Абсолютно, – говорю я и закрываю глаза.
Он собирается меня поцеловать. Он собирается поцеловать меня! О, нет! О, да!
Первой против опасностей кринолина (а также против негигиеничности юбок, которые мели подолом по полу) выступила американка по имени Амелия Блумер. Она призывала женщин носить так называемые «блумеры» – мешковатого вида штанишки, надеваемые под юбки длиной до колена. Такие юбки в наши дни никто не назвал бы нескромными. Викторианцы, однако, очень возражали против того, чтобы женщины носили штанишки, и их постигла та же участь, что и клубные пиджаки.
История моды. Дипломная работа Элизабет Николс