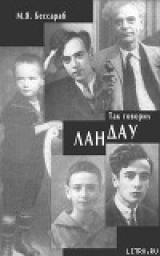
Текст книги "Так говорил Ландау"
Автор книги: Майя Бессараб
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
Человек должен активно стремиться к счастью, любить жизнь и всегда наслаждаться ею.
Лев Ландау
Лев Ландау вывел формулу счастья, гениально простую формулу. Для счастья необходимы:
работа, любовь, общение с людьми.
Работа. Надо подчеркнуть, что автор формулы счастья поставил работу на первое место. Труд – главное в жизни человека, это настолько очевидно, что не требует доказательств.
Любовь. «Любовь – поэзия и солнце жизни!» – эти слова Белинского приводили Дау в восторг. Его идеал мужчины восходил к отважному рыцарю, покорителю дамских сердец, который треть жизни отдаёт любовным похождениям. Дау и сам понимал, что это книжный образ, но это была его слабость. Надо, однако, отметить, что к любви он относился очень серьёзно.
Общение с людьми. Вот это удалось Льву Ландау в полной мере. Он не мог жить без постоянного общения с коллегами, со студентами и друзьями. Знакомых у него было великое множество, кроме того, общение включало и семинар, и беседы с учениками, и письма многочисленным корреспондентам.

«Праздник Архимеда» в МГУ. Май 1960 г.

Н. Бор и его жена Маргарет в гостях у Ландау и Коры. Начало мая 1961 г.

«Фауст» на Блегдамсвей. Дружеский шарж Георгия Гамова на Дау и Бора, спорящих по поводу совместной работы Ландау и Пайерлса 1930 года. (Из книги Г. Гамова «Тридцать лет, которые потрясли физику».)
Бор: «Погодите, Ландау, дайте мне хоть слово сказать…»

Нильс Бор и Лев Ландау. Май 1961 г.
Кроме формулы счастья, существовали ещё и обязательные правила. Например, каждый должен стремиться сделать счастливыми своих близких. Своей жене Дау говорил: «Моя первейшая обязанность – сделать тебя счастливой. Муж не может быть счастлив, если у него несчастная жена. Роль неудачника, страдальца и вообще никакая унылость меня не устраивают. У меня другие планы».
Однажды Кора рассказала о своей институтской подруге, которая всю жизнь была влюблена в мужчину, совершенно к ней равнодушного, и страшно страдала.
– Такая милая женщина и такая несчастная! – сокрушалась Кора.
– Стыдно быть несчастной, – возразил Дау. Сказал, как припечатал.
– Но ведь это не зависит от человека.
– Именно от каждого человека и зависит его счастье. За редкими исключениями.
Дау постоянно держал над собой контроль. Однако привычка – вторая натура, и быстрая речь, стремительная походка стали ему присущи так же, как остроумие, приветливость, весёлость.
– Я не потускнел? – спросил он как-то у старой знакомой.
– О, нет! Нисколько! – смеясь ответила она. – Это вообще невозможно!
– Как странно: женщины обычно так следят за своими туалетами, чтобы всё было по моде и так мало внимания уделяют выражению лица, что гораздо важнее всех нарядов. Лицо человека порой бывает, как у медведя, я на такие лица стараюсь не смотреть.
– Истребление зануд – долг каждого порядочного человека. Если зануда не разъярён – это позор для окружающих.
Вероятно, Дау и в самом деле считал, что счастливейшие из мужчин тридцать процентов своего времени отдают любви.
Он с повышенным интересом относился к донжуанам, любил с ними поговорить, и у окружающих складывалось впечатление, что он хочет выведать секрет их успеха. Это свидетельствует лишь о том, что Дау был очень наивен. Ну, а что касается тридцати процентов времени на любовь – это, увы. осталось несбыточной мечтой.
Вот общение с людьми занимало у него больше времени, чем это предусмотрено в его формуле. Этот пункт выполнен и перевыполнен. У Ландау было много друзей и знакомых, двери его дома под вечер не закрывалась, уходили одни, приходили другие. Звучали шутки, смех, было весело, шумно. Его жизнь протекала бурно, никакой академической отрешённости от мира сего, никакой замкнутости, – разумеется не считая первой половины дня, когда он работал.
В юности, думая о своей будущей жизни, Дау хотел так её построить, чтобы ничто не мешало занятиям физикой. Именно физика была главным делом его жизни. Ей было подчинено всё. Ради физики выстраивались планы, ради неё он наложил запрет на «жалкие развлечения», то есть курение и алкоголь. Ради физики он чуть было не лишил себя любви, но тут, к счастью, взяли верх могучие природные инстинкты. И, если сам он утверждал, что наука и любовь равны, значит, так оно и было. Только на первом месте всё-таки оставалась физика, владычица его души.
И всё же в стремлении Ландау вывести формулу счастья и построить теорию, как надо жить, есть что-то мальчишеское. Взрослые люди не забивают головы такими вещами. И это очень жаль. Если бы все думали об этом столь же серьёзно, как академик Ландау, жизнь стала бы намного легче. Дау всегда поражался, как наплевательски люди относятся к собственной судьбе…
– Лучше притворяться счастливым, чем искренне считать себя несчастным.
Дау постоянно твердил, что человек обязан стремиться к счастью, что у него должна быть установка на счастье и что ни при каких условиях нельзя сдаваться.
Ну, а о том, что уныние – непростительный грех, говорилось чуть ли не каждый день. Он считал, что унылый человек – потерянный человек, и Дау, как прирождённый учитель, не мог с этим смириться. Уныние засасывает, как болото, и вместо того чтобы разобраться в обстоятельствах своей жизни, некоторые не желают о них думать и предаются унынию.
– Многие гонят от себя неприятные мысли. Они даже обдумать ничего толком не могут. Умение разобраться в обстоятельствах своей жизни дано не каждому. Здесь главное – выработать привычку анализировать события, докапываться до первопричины того, что мешает тебе стать счастливым и наслаждаться жизнью. Тому, кто научится это делать, легче принимать решения, легче жить.
Его возмущало, что нормальным считается наплевательское отношение к своей судьбе, этакая бравада: «а, плевать!».
– Люди упрямо не желают понять, что счастье – внутри нас. Все любят всё усложнять, а я, наоборот, всегда стремлюсь к простоте. Нельзя путать понятия «сложно» и «трудно». Надо научиться мыслить, более того, властвовать над своими мыслями. Тогда не будет пустых страхов и тревог.
Уже одно то, как он выходил на сцену Политехнического музея, говорило о многом. Его походка, голос, манеры выражали уверенность в себе и внутреннюю силу.
Публичные выступления Ландау – фейерверк острот, шуток и блестяще сформулированных положений. Вряд ли его ораторское искусство было врождённым даром. Вероятно, он выработал это, как волю, раскованность и многое другое.
Мне посчастливилось присутствовать на выступлении Льва Давидовича в Центральном доме литераторов. Писатели были потрясены, услышав, что наука уже обогнала фантазию:
– Сейчас человек может работать сознанием там, где его воображение бессильно.
Выступление прерывалось аплодисментами: это была прекрасная аудитория, сумевшая оценить каждую реплику.
– Не надо относиться слишком трагически к изданию нелепой книги. Она ведь никому не причинила вреда. И вообще лучше напечатать десять неполноценных книг, чем не напечатать одной хорошей.
Столь же успешным было выступление Дау перед актерами, когда Юрий Алексеевич Завадский готовил спектакль об учёных и пригласил его на встречу с коллективом театра. Монолог Ландау был прекрасен:
«Никто не предлагает изучать физику по романам. Но писатель обязан достоверно изображать научный процесс и самих учёных. Среди научных работников много весёлых, общительных людей, не надо изображать их угрюмыми бородатыми старцами, проводящими большую часть жизни у книжных полок, на верхней ступеньке стремянки с тяжёлым фолиантом в руках. Жаль смотреть на беднягу, особенно если он вознамерился узнать что-то новое из этой старинной книги. Новое содержится лишь в научных журналах. Я забыл упомянуть ещё одну черту допотопного профессора: он обязательно говорит «батенька» своим молодым ассистентам. Писатели и режиссеры пока ещё плохо знают мир людей науки, писатели и режиссёры, по-видимому, считают, что расцвет научной деятельности наступает после восьмидесяти лет и сама эта деятельность превращает тех, кто ею занимается, в нечто «не от мира сего». Самое ужасное, что стараниями театра и кино этот образ вошёл в сознание целого поколения. Между тем настоящие деятели науки влюблены в науку, поэтому они никогда не говорят о ней в высокопарных выражениях, как это часто бывает на сцене. Говорить о науке торжественно – абсолютно неприлично. В жизни это выглядело бы дико. В жизни ничего подобного не случается».
Когда же у Льва Давидовича спрашивали о его работе, он отвечал предельно просто и понятно:
«Я – физик-теоретик. По-настоящему меня интересуют только неразгаданные явления. В этом и состоит моя работа».
Дау умел расслабляться после многочасовой работы, отключался от серьёзных мыслей и переходил к стихам, частушкам, дурачился. Он всячески подчеркивал свою независимость, в особенности в молодые годы. Когда в Харькове, в УФТИ, ввели пропуска, он возмутился и в знак протеста наклеил на своем пропуске вместо фотографии вырезанное из журнала изображение обезьянки. И потом ещё удивлялся, что его с таким пропуском не пустили в здание института.
Он никогда не принуждал себя сидеть на нудных собраниях, считая это верхом неприличия. Вообще всяческие «так принято» отвергались с ходу. «Всё, что нудно, – очень вредно», – говорил Дау. Если, скажем, ему не нравился фильм или спектакль, его нельзя было удержать в зале никакими силами, он вставал и уходил.
Какой ажиотаж вызвал приезд в институт Евгения Евтушенко!
– У него есть очень хорошие стихи, читает он их бесподобно, ну, а гражданское мужество Евтушенко вызывает глубочайшее уважение, – сказал Дау после выступления поэта.
И добавил:
– Мы все должны снять шляпы перед этим поэтом!
Дау потирал руки от удовольствия и повторял, что России всегда везло на поэтов, что у нас они никогда не переведутся.
Его поражала способность поэтов находить особые черты характера, подмечать самую суть явления. Как-то речь зашла об ожидании больших перемен в недалёком будущем, на что Дау возразил:
– Обо всём этом Огарёв написал ещё в прошлом веке:
Кругом осталось всё, как было,
Всё так же пошло, так же гнило,
Всё так же канцелярский ход
Вертел уродливой машины
Самодержавные пружины;
Карал за мысль, душил народ.
Можно добавить, что слова эти оказались действительно пророческими на все времена.
Мне бы хотелось упомянуть о том, что интерес Дау к литературе не ограничивался одной поэзией. Однажды он наткнулся на дивную строчку у Оскара Уайльда: «В России всё возможно, кроме реформ».
– Нет, но откуда он это узнал? Ведь как в воду глядел! – хохотал Дау.
Читал он из английских классиков чаще всего именно Уайльда, что только подтверждает его любовь к поэзии: проза Уайльда мелодична, её так и хочется читать вслух. Что он и делал.
Он был внимателен и заботлив со своей матерью и часто приезжал к ней в Ленинград. Однажды он спросил у матери:
– Мама, ты счастлива с отцом?
– Как тебе сказать… Мы прожили жизнь тихо, мирно.
– Это я знаю. Я не о том. А любовь, такая чтобы сметала все преграды?
– У тебя книжные понятия о жизни.
– Да, может быть, но… – он смущённо умолк.
Любовь Вениаминовна посмотрела на сына очень внимательно:
– Что ты ещё придумал?
– Да ничего…
– Нет уж, говори, если начал.
– Я подумал, может быть, я дитя тайной любви? Мои чувства к тебе от этого никак не изменились бы.
– Ничего похожего! Ты сын своего отца. И вообще, должна тебе сказать, что муж, дети, работа – это полная жизнь, поверь мне.
– А страсть? Настоящая, сильная страсть?
– Нет, Лев. Такой страсти не было.
– Ни разу в жизни?
– Ни разу в жизни.
– Почему?
– Наверно, не представилось случая.
– Так надо было искать!
Этот разговор Любовь Вениаминовна запомнила слово в слово и впоследствии пересказала его моей маме, с которой была в большой дружбе.
Дау был гостеприимен и, когда к Коре приходили знакомые, чаще всего принимал участие в разговоре. Поговорив с кориной портнихой, он к удивлению своему обнаружил, что она убеждена, будто иностранцев возят в автобусах по городу, чтобы показывать их москвичам.
Её огорчало, что к ним в Бутырки их никогда не привозят.
– Нет, Муся, их катают в автобусах, чтобы они увидели город, а у вас в Бутырках кроме тюрьмы смотреть нечего.
Однажды в институт приехал писатель Леонид Леонов и попросил, чтобы его проводили в кабинет академика Ландау. Они довольно долго беседовали с глазу на глаз. Ландау вежливо проводил гостя и его обступили сгоравшие от любопытства сотрудники.
– Зачем он приезжал?
– Он хотел узнать, где находится граница между веществом и антивеществом. По его мнению, такая граница существует.
– Что вы ему ответили?
– Я ответил уклончиво.
Много лет у Дау работал шофер Валентин Романович Воробьёв, потом его куда-то перевели, но он часто приезжал в институт, чтобы перекинуться несколькими словами с Львом Давидовичем. Я как-то встретила его на улице, он стал расспрашивать о Дау и под конец сказал:
«Ко мне никто так хорошо не относился, как Лев Давидович. С ним обо всём можно было посоветоваться и просто поговорить. Лёгкий у него характер, таких людей мало».
Однажды я спросила у Дау, как бы он оценил знания красавицы, если бы она пришла к нему на экзамен. Он задумался.
– Красавицы встречаются так редко, что по справедливости я бы конечно повысил ей оценку. Пусть приходит.
– Хороша справедливость! – вставила Кора.
До чего же надо было любить физику, чтобы сказать:
– Эта теория так красива, что не может быть неверной. По какой-то причине это всё-таки правильно.
А иногда раздавалось и такое:
– Разве это физика? Это какие-то стихи по поводу теоретической физики!
Или так, вовсе капризно:
– В принципе, это не невозможно. Но такой скособоченный мир был бы мне настолько противен, что думать об этом не хочу.
Он был начинен какими-то смешинками, стихами, рифмованными строчками, которые и стихами не назовёшь. Например, стоило мне заикнуться, что я еду в Анапу, как он ответствовал:
– Надену я чёрную шляпу, поеду я в город Анапу, там буду лежать на песке, в своей непонятной тоске. В тебе, о морская пучина, погибнет роскошный мужчина, который лежал на песке в своей непонятной тоске.
– Частушки не могут быть «неприличными». Это же фольклор.
И далее следовало что-нибудь на грани приличия:
В нашем саде, в самом заде,
вся трава примятая.
Не подумайте плохого,
всё любовь проклятая!
Однажды Дау сказал жене:
– Вера окончательно испортила Майку своим воспитанием. Она ей внушила, что любовь – это смертный грех и вообще лучше без всего этого. Ни к чему хорошему это не приведёт.
Увы, он оказался прав.
У него с моей мамой были бесконечные споры. Мама работала в Институте психологии, она занималась детской психологией. Одного этого, по мнению Дау, было достаточно для постоянных проблем с собственным ребёнком. Но все это говорилось только шутки ради, на самом деле Дау замечательно относился к обеим своим свояченицам, а те его боготворили.
Как-то речь зашла об одном отце семейства, который завёл роман с молодой женщиной. Та родила сына, и он разрывался между двумя семьями, где всё время происходили скандалы.
– Балаган, – махнул рукой Дау. – Такие мужчины меня всегда удивляли.
Другой его знакомый что ни год уходил от жены, но, прожив у мамы некоторое время, возвращался к законной супруге.
– Это гусь, каких поискать! Неужели непонятно, что причины, заставляющие его бежать из дома, остаются неизменными?
Льва Давидовича привёл в восторг ответ семидесятипятилетнего Бернарда Шоу, который на вопрос корреспондента «Как бы вы хотели умереть?» ответил: «От руки ревнивого мужа!».
ОСТРОВ СВОБОДЫ
Благодаря Ландау физика в Советском Союзе в пятидесятые годы стала Островом Свободы.
Из передачи радиостанции Би-Би-Си
Влияние Ландау на современников было огромно, и впервые разобраться в его причинах сумела радиостанция Би-Би-Си в передаче, посвящённой основателю советской теоретической физики. В ней были расставлены все точки над i. «Ландау создал новую философию жизни, он создал совершенно новый тип учёного. Физика стала романтической страной, обителью свободы. Пошли слухи, что где-то можно рассуждать свободно, что где-то не поставлены рогатки на пути мысли, и это очень волновало людей в те времена. Эту атмосферу создал Ландау».
Лев Ландау сделал науку орудием противостояния властям, и власти были бессильны с ним бороться: он был властителем дум молодёжи, каждое его слово становилось крылатым.
К нему устремились сильные, талантливые молодые люди, которые просто задыхались в атмосфере официальной лжи и фальши. Это была необъявленная война, и Ландау вышел из неё победителем. Ну конечно же, он знал, что ведёт опасную игру, но не мог иначе.
Если вспомнить, что Дау всегда повторял «Каждый должен сам выбирать, как жить», – станет ясно, что он выбрал борьбу. Вся его жизнь – непрерывный бой, и это была его стихия, ему ничего больше и не надо было, кроме как заниматься физикой и сражаться со своими врагами. На первом месте оставалась, конечно, физика. Так было всегда, без этого не было бы девяносто восьми работ, составляющих его двухтомник.
Где-то наверху, в кабинетах больших начальников, было положено сочинять так называемые «коллективные письма», отличавшиеся суконным языком, которые в те времена приносили на подпись разным знаменитостям. Их, разумеется, подписывали, но случалось, правда, чрезвычайно редко, что отказывались подписать. Так, например, Пётр Леонидович Капица однажды, не читая, отодвинул такую бумагу со словами: «Я чужих писем не подписываю». Так же поступал и Ландау. Однако это были исключения.
Академику Виталию Лазаревичу Гинзбургу довелось обсуждать с Ландау письмо совсем иного рода. В начале 50-х годов было решено начать выдвижение советских учёных на Нобелевские премии, и Курчатов поручил Виталию Лазаревичу подготовить представление на И. Е. Тамма, И. М. Франка и П. А. Черенкова; на П. Л. Капицу и Л. Д. Ландау тоже готовилось соответствующее постановление. Необходимые приготовления были закончены, когда стало известно, что наверху, вероятно в Отделе науки ЦК КПСС, решили оставить только двух претендентов – Капицу и Черенкова. Это возмутило физиков, тех, которым было поручено составить необходимые бумаги, и они решили послать письмо в Нобелевский комитет. Такое письмо могло возыметь действие лишь в том случае, если бы его подписали признанные авторитеты. Вначале Гинзбург обратился к одному знаменитому физику. Тот поддержал его и сказал, что полностью с ним согласен, но если высказано мнение, что Тамма и Франка выдвигать на премии не следует, значит, для этого есть основания. Словом, знаменитость письмо не подписала.
После этого Гинзбург отправился к Ландау.
«Вообще-то я не очень ценю эффект Вавилова–Черенкова, – начал Лев Давидович. – Но письмо подпишу. По-моему, это справедливо. Вот только вместо «нужно присудить» я бы сказал «если присуждать» (if awarded), то всем троим – Тамму, Франку и Черенкову.
Помимо Ландау, поведение которого в этом деле я считаю безукоризненным, письмо подписали Н. Н. Андреев и А. И. Алиханов. Вскоре Нобелевская премия по физике за 1958 год была присуждена всем троим, но какую здесь роль сыграло упомянутое выше письмо, я не знаю», – скромно констатирует Виталий Лазаревич Гинзбург.
Это как нельзя лучше характеризует Дау. У него был прекрасный предлог отказаться подписать ходатайство, и Виталий Гинзбург и многие другие физики знали, что Дау недооценивал эффект Вавилова–Черенкова, по его мнению, эта работа, если и могла претендовать на премию, то где-то в конце списка достойных открытий. Не было в ней того блеска, красоты, изящества, которые приводили Дау в восхищение, когда речь шла о великих открытиях.
В данном случае восторжествовала справедливость, и это главное. И это не единичный случай. Так было всегда. Вот почему, читая воспоминания о Дау, то и дело наталкиваешься на восторженные слова, что он был предельно честен и требовал от своих сотрудников такой же честности в науке. «Учил, как он говорил, не быть ворюгами, – вспоминает Карен Тер-Мартиросян. – Наука была главным содержанием его жизни, и всё, что мешало ей, он отбрасывал сходу».
Мне часто приходилось слышать о цельности характера Ландау, какой-то редкостной положительности, преданности делу своей жизни – физике.
Экспериментатор Ольга Николаевна Трапезникова с благодарностью вспоминает: «Все экспериментаторы могли всегда обращаться к Дау. С ним можно было говорить по любому вопросу – он всё понимал и мог посоветовать, как никто другой. Его можно было решительно обо всём спрашивать – о любых результатах эксперимента, что может получиться и почему. Мы к нему непрерывно обращались. Больше такого теоретика я не встречала».
Но когда кто-то из журналистов попросил его рассказать, бывал ли он в лаборатории Капицы, Дау ответил:
– Зачем? Да я бы там все приборы переломал!
К приборам у него было отношение особое.
– Какой красивый прибор! – воскликнул Дау, увидя на столе у Николая Алексеевского ярко-красный ?-гальванометр.
Дау ничего не смыслил в машинах и не переставал удивляться, когда его подрастающий сын чинил велосипед или будильник.
– В кого он пошёл? – недоумевал отец.
– Ты забываешь, что мой отец был талантливым механиком, – ответила Кора. – Вот увидишь, Гарик будет экспериментатором.
Она не ошиблась.
Гарику было года четыре, когда ему подарили электрическую железную дорогу. Дау страшно любил игрушки и при виде всех этих вагончиков, паровозов, семафоров пришёл в ажиотаж, суетился, пытался что-то подсоединить, но всё невпопад, словом всем мешал, но вдруг правильно подключил платформу и радостно засмеялся.
– Вот и папа на что-то пригодился, – заметил ребёнок.
Все так и грохнули со смеху.
Ну конечно же, он порой ошибался, как все люди на свете, однако это случалось редко. Дау не считал себя особенно сведущим во всём, что связано с «присутственными местами», всеми учреждениями, ведающими вопросами повседневной жизни. Он не умел доставать билеты в театр, на самолёт, на выставки живописи, которые старался не пропускать. Этим занимался один из его ближайших друзей.
С другим знакомым он любил советоваться по более важным вопросам, например как избавиться от спецзаданий, связанных с расчётами секретных вооружений. А если тот отсутствовал и Дау пытался что-либо предпринять сам, у него ничего не получалось. Дочь его друга, Наташа Шальникова, рассказывала, что однажды Дау попросил её напечатать на машинке заявление, в котором он просил убрать телохранителей, причём в качестве аргумента он утверждал, что не может работать, зная, что кто-то сидит в соседней комнате и ждёт, когда он кончит. К счастью, пришёл отец Наташи и переделал документ, назвав то, что сочинил Дау, жалобой турка.
– В присутственных местах я сразу скисаю, – говорил Дау. Бюрократическую систему называл удушающей и цитировал ленинские строчки о бюрократии: если нас что-нибудь погубит, так именно это. На вопрос, можно ли от этой системы избавиться, отвечал, что труднее задачи не сыскать, найдётся ли второй Пётр Великий, которому это будет под силу, он не знает, и вообще гаданье на кофейной гуще – вещь неубедительная.
И всё же Дау страшно любил все эти разговоры: как будут развиваться события? Сохранится ли диктатура бюрократии? Артемий Исаакович Алиханьян рассказывал, что после смерти Сталина они с Дау часа два ходили по бульвару на Воробьёвском шоссе, строя догадки, что произойдёт в ближайшем будущем, удивлялись тому, что многие люди были в страхе и растерянности, и сожалели о сотнях людей, погибших в давке, на похоронах, всё было очень плохо организовано. В наиболее узком месте поставили грузовики, они должны были сдерживать бесконечный людской поток. Но огромные толпы напирали, не видя этой преграды, многие падали, им невозможно было подняться, их затаптывали. Многих толпа задавила, прижав к грузовикам.
– Величайшее несчастье для России, что этот человек дорвался до власти, – говорил Дау. – Ни один тиран во все времена не уничтожил столько людей, как Сталин. Но этого оказалось мало, ему и после смерти удалось отправить на тот свет сотни человек.
А после XX съезда партии, на котором прозвучали слова Хрущёва о преступлениях Сталина, Дау часто повторял, что ему бы очень хотелось пожать руку Никиты Сергеевича и поблагодарить его за доклад на XX съезде.
В этот период Дау был страшно возбуждён. Он вообще принадлежал к числу людей, обычное настроение которых хорошее, приподнятое. Один знакомый как-то сказал ему: «Мне понятно, почему вы не берёте в рот спиртного. Вы и без этого находитесь в возбужденном состоянии. Людям приходится выпить хотя бы бокал вина, чтобы обрести настроение, в котором вы пребываете постоянно». Вероятно, Дау с ним был согласен, иначе он бы не стал пересказывать этого разговора. Так вот, в марте 1953 года приподнятость в настроении Дау достигла предела. Вспоминая это время в разговоре с Александром Дорожинским, который приехал из Америки собирать материал для книги о Ландау уже после автомобильной катастрофы и проник в академическую больницу, как он сам выразился: «Pravda in hand», – Дау сказал:
– Когда умер Сталин, я танцевал от радости!
Действительно, по словам Коры, он смеялся громко и заразительно, передавая ей эту весть. А потом продекламировал:
Россия тягостно молчала,
Как изумлённое дитя,
Когда, неистово гнетя,
Одна рука её сжимала.
И уточнял для несведущих: Огарёв.
Фактически Ландау создал сначала в Харькове, потом в Москве своего рода научные центры, но эти научные центры были одновременно островками свободы, особенно в Москве, ибо гнёт всё усиливался, нечем было дышать, нужна была какая-то отдушина. Семинар! Где могут выставить как посмешище любого маститого за неблаговидный поступок, где говорят то, что думают, и где все понимают, что находятся на переднем крае науки.
Основное общение происходило, конечно, на семинаре. Однако и комната теоретиков и кабинет Ландау были продолжением семинара. Невозможно сосчитать, сколько народу взбегало по лестнице в квартире Ландау на второй этаж, в его комнату, во второй половине дня.
Они со временем становились похожи друг на друга, эти теоретики, участники его семинара. Во всяком случае среди них не было зануд, которые растягивают слова, экают и мямлят. Такого и слушать не стали бы. Здесь говорили чётко, быстро, толково и по сути дела.
Они составляли сообщество, братство, это налагало особую ответственность. Дау любил своих учеников. Они были ему очень дороги, и он, будучи прирождённым учителем, не только обучал, но и воспитывал их. И всё это в такой деликатной, ненавязчивой манере.
И в то же время этот человек был грозой приспособленцев в науке, и именно его как огня боялись обладатели чинов и званий, когда им хотелось опубликовать очередную халтуру. Ландау стал синонимом абсолютной честности в науке, он ввёл в своем кругу особый стиль отношений. Он был постоянно на виду, постоянно окружён людьми, был в гуще событий. Он задавал ритм жизни этому физическому братству.
Во всём, что он делал, было много бравады. Он и сам говорил, что дразнит гусей и что это занятие приятное, но небезопасное.
Свобода была нужна прежде всего для творчества во всём его многообразии. Сюда входило и написание книг, того знаменитого «Курса теоретической физики» Ландау и Лифшица, который ныне принят во всем мире как основное пособие по этой науке. Злые языки пустили фразу, что в этих книгах нет ни одной мысли Евгения Михайловича Лифшица и ни одного слова, написанного рукой Льва Давидовича Ландау. Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды: на вечере в Политехническом музее, посвящённом творчеству Ландау, был задан вопрос, как работали соавторы. Евгений Михайлович Лифшиц поднял над головой самописку: «Ручка была моя!». Это правда. Но правда и то, что Дау обговаривал с ним каждый параграф и, когда Лифшиц приносил написанное, Дау правил страницу и соавтору приходилось переписывать её снова.
Ландау задумал этот курс ещё в Ленинграде и соавтором он выбрал Матвея Бронштейна, но тот погиб в застенках НКВД. Второму соавтору тоже не повезло. Это был Леонид Пятигорский, которого НКВД, на этот раз московское, представило Льву Давидовичу как автора доноса: когда Ландау арестовали, следователь показал ему донос, якобы написанный Пятигорским. Поскольку имя «врага народа» не могло появиться на обложке книги, Леонид Пятигорский автоматически становился автором «Механики», которая уже находилась в издательстве. Единственным автором, без Ландау. Арестованный поверил следователю – провокация удалась. Но книги издавались крайне медленно и Дау освободили до выхода злополучного произведения, так что имя его осталось, как и было задумано – на первом месте. [Чуть подробнее об этом можно прочитать в мемуарах Е. Л. Фейнберга «Эпоха и личность. Физики» (М., Физматлит, 2003).
Однако я не рассказал ещё одной психологически ужасной истории, связанной с его арестом. Дело в том, что в «первом призыве» учеников Дау в Харькове был один не упомянутый выше физик – Л. М. Пятигорский. Ещё в Харькове Дау задумал свой знаменитый курс теоретической физики, осуществлённый затем совместно с Е. М. Лифшицем. Первый «том» (ещё тоненькая книга), «Механика», был выпущен в Харькове. Его авторами на обложке значатся Ландау и Пятигорский. Но когда Ландау был арестован, то его ученики решили по некоторым весьма косвенным признакам, что его «посадил» единственный среди них партиец – Пятигорский. Это с уверенностью повторялось и потом. Даже я, ещё далёкий тогда от Ландау, был об этом осведомлён. Пятигорский оставался в Харькове и фактически подвергся остракизму (хотя это ему впрямую не говорилось – ведь оправданиям всё равно не поверили бы).
Шли годы и десятилетия. Умер Ландау, умерли все его ближайшие ученики и сотрудники (кроме А. И. Ахиезера) – Померанчук, братья Лифшицы, Мигдал, Берестецкий, Компанеец – все ушли из жизни, убеждённые, что Пятигорский предатель. Если знал я, то значит знали и многие другие.
Но вот наступили горбачёвские времена. Родственница Ландау Майя Бессараб выпустила новое (4-е) издание написанной ею книжки о Ландау. Она поместила в ней новый текст: теперь, мол, можно рассказать, что Ландау был арестован по доносу Пятигорского. А Пятигорский был жив! Он подал в суд, обвиняя Бессараб в клевете. Суд запросил КГБ и получил ответ, что Пятигорский не имел к этому делу никакого отношения. Суд обязал Бессараб принести извинения Пятигорскому в печати, что и было сделано. Слабое удовлетворение для него. Ведь 50 лет невинный человек жил с печатью предателя, предавшего своего учителя. С уверенностью в его предательстве ушли в могилу и его бывшие друзья, тоже ученики Ландау, и сам Дау, и многие, многие другие. Через пару лет после оправдания умер и он сам. Такой вот «мелкий штрих» эпохи.








