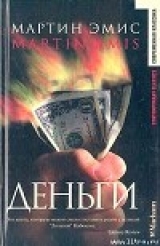
Текст книги "Деньги"
Автор книги: Мартин Эмис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Я отклеился от сиденья, выбрался из машины и заплатил водителю через окошко его дверцы – лондонская привычка, вредная по нью-йоркским меркам. Старый таксист и ухом не повел.
– Нет сдачи с десятки, – объявил он.
– Чего?
– Читать умеете? – Он кивнул на пожелтевшую табличку, которая провозглашала беспомощность водителя перед лицом купюр крупнее пятерки. – Сдачи нет.
– Да этому объявлению лет, наверно, десять. Ты хоть об инфляции слышал?
– Сдачи нет.
– Да хрен с ней, со сдачей. Вы тут все прямо как дети малые. Когда же научитесь смотреть фактам в глаза?
Такси устало отъехало. Я посмотрел через улицу и увидел ряд гаражных рамп с выпотрошенными остовами грузовиков. На одном из них – перевернутом брюхом кверху, со снятыми крыльями – демонстрировали загорелые торсы трое молодых людей. Двое были раздеты до пояса, худощавые, покрытые пушком, третий же являл сплошную мозаику из драной джинсы и кожи в заклепках. Я только сейчас заметил, что вход в здание, на крыше которого Филдинг арендовал мансарду, находился прямо за ними – дверь с табличкой номера между большими черными ребрами... Широким жестом я застегнул среднюю пуговицу на своем новом костюме (беловатом, с антрацитовыми швами; с момента покупки меня неоднократно посещали сомнения – жаль, что вас тут нет, очень жаль, вы бы подсказали, идет ли он мне), засунул руки в карманы брюк и вразвалочку двинулся через улицу.
Что хочу сказать: обычно гомики ко мне не пристают. Похоже, я не их тип – до такой степени, что даже немного обидно. Проблемы такой не возникает. Даже вопроса не встает. Но, шагая по испещренному колдобинами и трещинами асфальту, я ощутил, кроме привычного, иронично-агрессивного возбуждения, кое-что еще; я почувствовал, что мой вес, массу, мясо оценивают, примечают, взвешивают– не так чтобы с явным вожделением, нет, но с абстрактным плотским интересом, ощущать который мне пока не доводилось. Однако ж. Бабоньки, откликнитесь – вам-то, наверно, такое ощущение хорошо знакомо. Я не сводил взгляда с двери; на периферии поля зрения наблюдалось какое-то шевеление, но я старался его не замечать. Я миновал рубеж.
– Чтец, – послышалось мне.
Я остановился. Прижал подбородок к груди. Вы бы прошли мимо, но я пройти мимо не могу. Я обернулся и с искренним интересом спросил:
– Как-как вы меня назвали?
– Отец, – произнес один из молодых людей. Между ног у него было что-то вроде абордажного крюка. – Большой папочка.
В голове моей теснились варианты ответа один другого удачней, но я только фыркнул, дал презрительную отмашку и продолжил движение. Даже это было неумно. Даже это было, в джунглях, неосмотрительно... Я зашел в парадную, в настолько глубокую тень, что едва не ослеп. Через секунду-другую передо мной смутно забрезжил круто уходящий вверх лестничный пролет. Я шагнул к нему и тут услышал за спиной звук шагов, предсмертный хрип несмазанных петель, звон цепей. Честное слово, я буквально взлетел по ступенькам, окрыленныйпервобытным мочегонным ужасом от имени и по поручению неприкрытого тыла... Тяжелая дверь наверху подалась лишь с пятой попытки, но я уже успел развернуться и увидел силуэты, растворяющиеся, пожимая плечами, в ярком свете, и теперь до меня доносился только смех.
Я вскарабкался на вершину и заморгал, отдуваясь, посреди залитого светом стеклянного аквариума; воздух был настолько прозрачным и океаническим, что каждая соринка в глазу выделялась невыносимо рельефно. В дальнем углу среди сосновых подпорок стоял Филдинг Гудни, смехотворно вальяжный и решительный – можно даже сказать, кондиционированный, – в джинсах и белоснежной рубашке; молодость сидела на нем, как костюм, богатство – как загар. Он отдавал указания троим рабочим или посыльным в мешковатых синих комбинезонах. Заметив меня, он приветственно вскинул ладонь.
Дожидаясь, пока уймется склочница-одышка, я обошел снятую Филдингом мансарду. Закурил, и первая же затяжка согнула меня пополам, исторгла из легких яростный, неудержимый лай. Похмелье за похмельем со свистом промелькнули перед моим мысленным взором, и веки нестерпимо зачесались, на глаза навернулись слезы. Да уж, пить или не пить – это нелегкий выбор. В смысле, если выбираешь пить, то потом очень тяжело. Я пытался насладиться океаном света, волоча ноги мимо больничного вида ширмочек и навесов, листов декоративного картона со слоем алюминиевой фольги, верстака, древнего стола для механического бильярда. На задней стенке были развешены полдюжины белесых морских пейзажей. Художнику жизнь представлялась незамутненной, как зубная паста; или он прикидывался. Я развернулся, подставляя лицо солнцу. В таком ракурсе Манхэттен был почти не виден – только верхушки башен Всемирного торгового центра, две одинаковых золотистых зажигалки на ярком, навязчиво-синем фоне. Я мотнул головой. Соринка в моем глазу, пятно, где умирает свет, погрозило мне черным пальцем.
– Привет, Джон. Ого, какой костюмчик. В Алабаму собрался?
– Чего?
– Проныра, что-нибудь не так?
–Все так. Просто ко мне какие-то гомики привязались, по пути сюда.
Филдинг рассмеялся, потом нахмурил внимательно брови.
– И что?
– Один из них обозвал меня папочкой. К чему бы это?
– Прелесть какая.
– Ну хватит, Филдинг: Какие тут, к черту, пробы. Район совершенно гопницкий. Как ты себе это представляешь, когда наш клиент пойдет косяком, точнее клиентки?
– Очень хорошо представляю – они пойдут через парадный вход, – объявил Филдинг и положил руку мне на плечо. – Там только кондитерская и лифт, прямое сообщение. Это я тебя через черный вход завел.
– Зачем?
– В познавательных целях, Проныра. Давай я плесну тебечего-нибудь, и можешь расслабиться. Скоро будут девочки.
Лучшего ответа я не мог и пожелать. Мы поднялись узкий подиум, где Филдинг установил кучу видеоаппаратуры (в том числе две ручных камеры), стереосистемy, игровую приставку, аквариум, два диванчика с двумя низкими железными столами и низкий пузатый холодильник. Люблю новую мебель. Новехонькую, только из магазина. После детства в Пимлико и в Трентоне, Нью-Джерси, от антиквариата меня уже тошнит. И главное– чтобы не особо навороченная была. Филдинг наклонился к аквариуму и щелкнул по мутному стеклу. Я тоже заглядываю в аквариум, и все, что я вижу, это новую мебель, немного другую: головки штифтов, капельки и черно-белые полосатые высверки, колыханье оборок и мелодичное журчанье, гостиная Барри и будуар Врон.
– Все рыбы реагируют на маневры вожака, – проговорило створчатое отражение Филдинга в стекле аквариума. – Вон вожак – чернохвостый. – Он глянул на часы и выпрямился. – Так вот, сегодня мы разбираемся с нашей танцовщицей.
– Со стриптизершей? – спросил я. – А как же Лесбия?
– Ты в курсе, что эта роль для Лесбии, я в курсе, что эта роль для Лесбии. Ты в курсе, что танцовщицей будет она. Я в курсе, что танцовщицей будет она. Но эти девицы – они же абсолютно не в курсе. Усек, Проныра? Развлекуха будет качественная.
И это действительно была развлекуха. Благодаря здоровому жбану «ред-снэппера», предусмотрительно заготовленному Филдингом, я совершенно не чувствовал боли, когда к нам, качая бедрами, двинулась первая кандидатка– крупная смуглая девица с потрясающими... нет, секундочку. Может, мы начали с безотказной блондинки, которая сняла... Нет. Это была негритяночка, у нее еще... В общем, через какое-то время, после изнурительного бдения на слепящем солнце, после всего бухла, гнилого базара и порнографии, девицы несколько смешались у меня в памяти – где чьи ноги, где чьи руки, где головы, форменная расчлененка. Процедура была абсолютно одинаковая, Филдинг в два счета поставил дело на поток. В кинобизнесе есть старая добрая традиция – поддерживать непринужденную атмосферу, когда молодые женщины пробуются на роли эротического плана. Например, у Терри Лайнекса из «К. Л. и С.» припасена для подобных случаев особо выразительная фраза. Он просто говорит: «Значит так, сейчас постельная сцена. За мужика буду я». Видели бы вы, как им не терпелось, этим телкам с Манхэттена, да они были просто без ума от счастья.
Они шли к нам, боязливо поеживаясь, но трепеща от возбуждения, и нервы их, завиваясь в колечки, простирались до самых кончиков волос; каждая со своей неповторимой игрой светотени, со своим импульсом и моментом кручения. Мы усаживали их, предлагали выпить и задавали все обычные вопросы. Понукать их не требовалось – они на полном серьезе считали, будто это возможно, вероятно, несомненно, что их ждут деньги и слава, что их удел исключительность. Они рассказывали о своей карьере, о срывах, о приятелях, о психоаналитиках, о своих мечтах. На меканье-беканье или стрекотанье Филдинг давал им минут пять, а потом с блеском стратега в глазах интересовался:
– ...А Шекспир?
От их ответов на этот вопрос даже меня иногда пробирал смех.
– Да, я очень хочу сыграть миссис Макбет. Или в «Антонии и Клеопатре», Или в «Комедии ушибов».
Одна девица, вот не сойти мне с этого места, была почему-то уверена, что «Перикл» – это о владельце автозавода. Другая, судя по всему, полагала, что действие «Венецианского купца» происходит в окрестности Лос-Анджелеса[32] Венис – пригород Лос-Анджелеса. Точно так же (Venice) по-английски пишется Венеция.
[Закрыть].
– Это очень интересно, Вероника, или Энид, или Серендипити, – говорил Филдинг. – А теперь не могли бы вы, пожалуйста, раздеться.
– Под музыку?
– А как же, – говорил он и тянулся за пленкой.
– Но... я же не так одета.
– Ничего-ничего, Морин, или Эйфория, или Асцидия. Вы же актриса, верно?
И, продемонстрировав для затравки жизнерадостный оскал, девицы начинали выкидывать коленца. Я наблюдал сквозь искрящуюся пелену стыда и страха, смеха и страсти. Я наблюдал сквозь мою порнографическую пелену. И девицы слушались – повиновались зову порнографии. Искушенные горожанки, профессиональные жительницы двадцатого века. Они не танцевали, не дразнили – и даже назвать это стриптизом было, строго говоря, нельзя. Они скидывали одежду, большую ее часть, и давали вам урок анатомии. Одна, скажем, просто задрала юбку, разлеглась на полу и стала мастурбировать. Она была лучшей. За три насыщенных дня мы услышали два робких отказа. Филдинг сказал, что все дело в Шекспире, в том восторге, что порождается при соприкосновении с высоким искусством.
Периодически у меня возникало подозрение, не занимается ли Филдинг промоушном заодно и в другом смысле. Но реплики его были, как правило, весьма лаконичными: «Вот ее телефон, Проныра» или «Джон, ты ей понравился», или «А вот к этой присмотрись получше».
– А как все-таки тебе Дорис? – поинтересовался я в редкий момент затишья.
– Дорис? Никак, она же лесбиянка. Сам знаешь.
– Ну и где же этот ее хваленый сценарий?
– Терпение, Проныра, терпение. Сохраняй ледяное спокойствие. Да, кстати, сегодня тебе надо встретиться с Гопстером и кое-что с ним обсудить. Предупреждаю, задачка не из легких.
– Какая еще задачка?
Он объяснил.
– О нет, – сказал я. – Только не это. Сам обсуждай.
– Проныра, тебя он уважает. Ты для него авторитет.
– Этого еще не хватало, – отозвался я. Но дверь уже хлопнула, и к нам летела очередная секс-бомбочка, а после всего выпитого, после такого обилия впечатлений я был не в лучшей форме, чтобы спорить.
Так что, как видите, последние несколько дней мне было не до чтения. Сплошные пробы.
«Мистер Джонс, хозяин Господского двора, запер на ночь курятники, – прочел я, – но забыл закрыть лазы, потому что был сильно пьян...» Я так до сих пор и не выяснил, что это за лазы. Я специально спрашивал. Филдинг не в курсе. Феликс не в курсе. Словарь и тот не в курсе. А вы?
– Привет, – услышал я из-за спины и обернулся.
– Пошел ты, – бросил я и отвернулся.
Я захлопнул книжку и огляделся. Скажем прямо, это не самое подходящее место, чтобы светиться с книжкой – бар для голубых качков, глубоченный подвал где-то под обугленными восточными двадцатыми. Настолько глубокий, что кажется перевернутым небоскребом. Может быть, когда-нибудь весь Манхэттен станет таким же – короскребы, ядроскребы, сто подземных этажей. Отдельные ньюйоркцы, из сравнительно неприхотливых, уже обосновались в канализации, в заброшенных тоннелях метро. Деньги загнали их вглубь, опустили так, что дальше некуда,.. В кабаке же меня окружало сплошное безбабье, агрессивно выпяченные челюсти, стрижки под бобрик, экземпляры в коже с головы до ног, будто аквалангисты, или в костюме Адама, во всеоружии щетины, мышц и пота. Единственное, что здесь требовалось, в полумраке и россыпях опилок, это мужское достоинство, прокисший тестостерон.
– Привет, – услышал я из-за спины и обернулся.
– Пошел ты, – бросил я и отвернулся.
В общем-то, это было не самое беспредельное заведение. Подозреваю, среднестатистический манхэттенский гомик вполне мог бы заскочить сюда опрокинуть последнюю рюмочку белого вина по пути на казематное свидание или смертоубийственное рандеву в «Ватерклозете» или «Бремени и стремени». Здесь же царил полумрак, поиск на ощупь, шепоты, темные силуэты. Которые не внушают ни трепета, ни угрозы, настолько поглощены созерцанием радара, отслеживающего динамику аппетитов, что привели их сюда.
– Привет, – услышал я из-за спины и обернулся.
– Пошел ты, – бросил я и наконец присмотрелся. – Ой, привет. Я очень извиняюсь. Как дела?
– Дела замечательно. А как вам это заведение? Что-то на вас лица нет. Перепугались, что ли? Ладно. Так о чем вы хотели поговорить?
Я набрал полную грудь воздуха – и услышал, как вскипает микроволна вражеского протеста в недрах легких. Он уселся на соседний табурет. Футболка, жилистые бицепсы. Он заказал стакан воды. Из-под крана – не минеральной. Зачем ему эти пузырьки, Гопстеру.
Главное – не забывать, что он очень сложный молодой человек. Он не курит. Не пьет. Не нюхает. Не ест. Не играет в азартные игры. Не матерится. Не живет половой жизнью. Даже не дрочит. Вместо этого он отжимается. Делает стойку на руках. Практикует медитацию и гипноз. Утвердившийся в вере, он занимается благотворительностью – помогает бедным и больным... Да уж, тут мне придется задействовать свои управленческие навыки на полную мощность. Я посмотрел ему в глаза – цепкие, настороженные – и произнес:
– Давид, я хотел поговорить о вашем имени.
– Да? А что с ним такое?
– Боюсь, вы меня совсем возненавидите...
– Куда уж больше.
– Дело в том, – начал я, – что в Англии...
– Язнаю, что вы сейчас скажете. Не стоит труда. Я ждал.
– Вы хотите, чтобы я заменил "а" на "э" – не Давид, а Дэвид. Так вот, не дождетесь. Идите придумайте что-нибудь получше. Ни в коем случае. Ни за что в жизни.
– Да нет, – сказал я, – Давид сойдет. Давид пускай себе остается, в целости и сохранности. Проблема с фамилией.
– С фамилией?
– Да, с фамилией проблема.
– Гопстер?
– Угу.
Вид у него был удивленный. Такого поворота он явно не ожидал. Я заказал очередной скотч и закурил очередную сигарету.
– Дело в том, – сказал я, – что в Англии могут не так подумать.
– А что тут думать? Республиканец и республиканец.
– Верно. Только возникает левое созвучие.
– Какое еще созвучие? Джи-оу-пи, великая старая партия. Они там что, все за демократов?
– Не знаю, не знаю. Все равно возникает левое созвучие.
– Да какое еще созвучие?
Я объяснил. Это оказалось для него сокрушительным ударом.
– Прости, Давид. Честное слово, я не специально. Его юное лицо перекосилось, пошло рябью, в углах глаз прорезались морщинки, как от зубной боли. Почему никто не сказал ему раньше? Наверно, боялись, подумал я и пожал плечами, и допил очередной скотч.
– Сам подумай, – продолжал я, – вот если бы ты работал с английским актером, которого звали бы, ну хоть Урия Урлович, то ты...
– Да черт с ней с Англией. Какое мне дело до Англии?
– Но согласись, что это проблема... А поменять можно и всего чуть-чуть. Как насчет Лобстер?
– Лобстер? Ну хватит. Что это вообще за фамилия, Лобстер?
–А что, полно ведь похожих американских фамилий. Мобстер. Добстер. Тапстер. Капстер. Тостер. Давид Ростер, – на пробу проговорил я. – Или Костер, или Постер, или Состер, или... Достер, или Мос-тер, или...
– Еще одно слово, и я себе уши оторву.
– Или Фостер, – сказал я. – Или Зостер.
Тут я задумался. У меня возникло смутное подозрение, что Зостер тоже может ассоциироваться с чем-то не тем, с чем-то нездоровым.
Гопстер вдруг соскользнул со своего табурета. Схватив меня за галстук, будто для равновесия, он со всей актерской выразительностью принялся буравить взглядом мою переносицу. Продолжалось это долго. Наверно, он пытался меня загипнотизировать, хотя не уверен. Потом одним щелчком здоровенных костяшек он послал свой нетронутый стакан воды скользить по гладкой железной стойке – как в вестерне. Стакан остановился в нескольких дюймах от края, от обрыва.
– Давид?.. – проговорил я. Но тот повернулся и ушел.
Я хладнокровно заказал еще выпить и развернулся на табурете. Если Гопстер рассчитывал выбить меня из колеи, выбрав для встречи такую точку, то ему не повезло. К таким точкам я уже привык. Со всеми этими лесбиянками, голубыми качками, стриптизершами, трансвеститами и сребролюбцами, с которыми приходится работать, аномальность меня уже так не удивляет. Аномальность становится нормой жизни. Кто нынче натурал? Вы вот натурал? А Мартина Твен?.. Я повертел головой – лица, плечи, руки. Что до меня, в моем послужном списке голубизна не значится. Голубого прошлого у меня нет. Но разве можно в наше время быть в чем-то твердо уверенным? Может быть, передо мной большое голубое будущее. Не исключено, что как голубой я буду иметь оглушительный успех.
Эй вы, гомики-комики, творцы большого прорыва. Я к вам обращаюсь – к вам там, не к вам здесь. Значит, вы решили сами обойтись. Решили закремниться. И как вам, без них? Только представьте: ни тебе погоды, ни лунного дождя или ветра, ни биологии. Умеренная зона. Одни мужики. Когда человечество так располовинено, тепло ли у вас на душе от всеобщей похожести? Не странно ли? Заодно, кстати, расскажите, пожалуйста, мне это давно не дает покоя. Случается ли так, что у обоих не встает, хоть ты тресни? Бывают ли ночи типа «я тоже нет»? Да уж, приходится признать, этот век был ваш. Недавно я слышал, что из чулана с гиканьем вырвалась Австралия. Кто бы мог подумать – Австралия! Все эти тыкворожие деревенщины и трехпалубные пляжные мастодонты – теперь они педрилы. Что же это творится, черт подери? Некоторые во всем винят баб. А я виню мужиков. Стоит появиться первым тревожным признакам, после пятидесяти миллионов безмятежных лет, как мы выкидываем белый флаг, точнее голубой? Стыдно, стыдно. В смысле, должен же быть хоть какой-то предел голубизны. Ну хватит, парни, не оставляйте меня одного. Где старый добрый пещерный дух? Не сдавайтесь. Ни шагу назад. Чего испугались-то. Они же просто бабы, не более того.
Я заказал еще выпить. Покосившись в сторону, я увидел что-то странное, что-то аномальное – девушку, пухлую кроху-школьницу, робко пробирающуюся ко мне вдоль стойки. Она не могла быть старше шестнадцати, бедный заблудившийся ребенок, в розовой юбочке и коротенькой джинсовой курточке. Гомики стали на нее оборачиваться. Она забралась на соседний табурет и потребовала у сурового бармена апельсиновый сок. Вскоре я понял, что должен сделать. Это же очевидно. Назад в многоэтажку, пара успокаивающих слов ее матушке, молчаливое благодарное рукопожатие отца, партия в шашки с младшим братишкой и, уже на выходе, перепихон встояка, по-быстрому, но незабываемо, в комнате для игр.
– Привет, – произнес я, и она обернулась.
– Да пошел ты, – бросила она и отвернулась. Собственно, я и последовал ее совету. Уничтожил несколько пицц величиной с автомобильную покрышку в монгольской закусочной, поймал такси и вернулся в гостиницу. Потом пообедал в «Барбариго», ближайшем итальянском ресторанчике. Завтра большой день. Предстоит встреча с Мартиной, так что мне еще читать и читать.
Подарок Мартины назывался «Скотный двор», автор – Джордж Оруэлл. Читали? Как вы думаете, мне понравится? Я нацелил абажур лампы и выложил сигареты в ряд на столе. Потом выпил столько кофе, что к моменту, когда решительно раскрыл книжку, чувствовал себя, как убийца на электрическом стуле при первом щелчке рубильника. Настоящее имя автора – Эрик Блэр, но потом он стал звать себя Джордж Оруэлл. В этом его можно понять. Книжка начиналась с собрания животных, которые жаловались на свою тяжелую жизнь. Им действительно не позавидуешь – вкалывать от зари до зари, и ни тебе расслабиться, ни денег; но чего они, спрашивается, ожидали? Я не питаю реалистичных амбиций относительно Мартины Твен – только нереалистичные. Даже удивительно, что нынче доступно любому клиническому идиоту с кучей бабок. Если вы гетеросексуал, и в бумажнике что-то шуршит – можно рассчитывать на успех с самыми-самыми телками. Самые-самые мужики подаются в голубые или предпочитают порнографических цыпочек, клинических идиоток. На собрании животные поют песню. Звери Англии... Я прилег на кровать. Голова была полна помех. Не помешали бы очки. Еще не помешало бы подрочить. Но надо продолжать чтение. С чтением главное, что для негр обязательно быть в надлежащей форме. В том числе физической. Собственное тело все время отвлекает. Вот я пытаюсь читать, углубился в чтение, но то и дело должен откладывать книжку "чтобы пойти отлить, постричь ногти, побриться, сблевать, почистить зубы, причесаться, подрочить, принять аспирин, закурить сигарету, заказать еще кофе, поковырять в ухе и выглянуть в окно. Я снова начал читать. На собрании животные поют песню. Звери Англии. Как тут жарко, невыносимо жарко. Я подошел к зеркалу и принялся изучать свою спину. Все зажило, кроме одной ранки, которая воспалилась, серьезно воспалилась. Я-то готов отшутиться, спустить все на тормозах, но она очень серьезно настроена, в натуре раздосадована. Я снова начал читать. Я читал так долго, что никак не мог отделаться от мысли о том, как долго я читаю. Я позвонил Селине. Там шесть утра – я не обсчитался? – но никто не брал трубку. Она опять скажет, что выключала телефон. На двенадцать сорок пять у меня назначен ленч с Кадутой Масси в «Цицероне». Но сейчас еще только одиннадцать пятнадцать. Яснова начал читать – такое впечатление, будто всю жизнь только и делаю, что читаю, по крайней мере, страниц одолел изрядно. Должен признать, меня впечатлило, насколько поздно у Оруэлла начинается собственно действие – странице аж на седьмой. Это должно работать в вашу пользу. Только вы не находите, что чтение все-таки ужасно долгое занятие? Семь потов сойдет, пока доберешься со страницы, скажем, двадцать первой до, скажем, тридцатой. В смысле, сначала идет двадцать третья, потом двадцать пятая, потом двадцать седьмая, потом двадцать девятая, не говоря уж обо всех четных страницах. А потом еще тридцать первая и тридцать третья, конца-краю нет. Хорошо еще, «Скотный двор» не такой уж и длинный роман. Но вообще романы... они все такие длинные. Ужасно длинные. Через какое-то время у меня возникла мысль, не позвонить ли Феликсу и не попросить ли принести пива. Искушение я поборол, но это тоже заняло какое-то время. Потом я позвонил Феликсу и попросил принести пива. И продолжал читать,
С перерыва на ленч я вернулся в без четверти пять в превосходной форме, заглянув на обратном пути в кабак—другой. Оставалось три часа и сто двадцать страниц. Девяносто секунд на страницу, ерунда какая. С Кадутой Масси тоже прошло вполне мирно, в этих ее апартаментах. Я просто сидел и кивал на пару с ее старым князем Казимиром (до сих пор не может оправиться после Второй мировой), а Кадута соловьем разливалась о детях и матерях, о родовых схватках, о временах года и холмах ее родной Тосканы, где растет трава, дует ветер, а небо голубое. Судя по всему, на ее холмистой родине весна – это время возрождения, почва исторгает новую жизнь, набухают почки, а в молодых деревьях бродит сок.
– А теперь я оставлю мужчин наедине с кофе и марочным портвейном, не буду больше надоедать своей болтовней, – произнесла Кадута и испарилась.
Минут сорок пять мы с Казимиром, не говоря ни слова, глушили портвейн, пока не вернулась Кадута с тремя толстенными фотоальбомами, посвященными исключительно ее крестным детям. Никаких других детей у Кадуты нет, только крестные, зато уж этих – просто немерено. Яустроился на диване вплотную к ней и тишком-молчком урвал немало материнской ласки... Тем временем мы с книгой разогнались не на шутку. Говорю же, нет ничего проще. Моя теория в том, что помогает виски. Виски – ключ к легкому и непринужденному чтению. Или же «Скотный двор» нехарактерно легкая книжка... Единственное, во что я так и не врубился, это в свинскую тему. Придумай что-нибудь похлеще, приятель, думал я, что это вдруг именно свиньи такие все из себя умные-разумные, культурные, воспитанные? Свиней, что ли, никогда не видел? Я вот видел, и поверьте, впечатление осталось преотвратное. На свиноферму меня занесло, когда снимался ролик для каких-то новых котлет из свинины. Я чуть с площадки не свалил, когда осознал, с каким материалом придется работать. Видели бы вы этих прожорливых троглодитов, эти щетинистыe мешки с дерьмом, как они хрюкают и чавкают у корыта. Откусить хвост у дражайшей супруги, когда та отвернулась – это, по меркам хлева, образцовое поведение, старосветская любезность. А стоит подумать, чем они занимаются на сеновале, так даже меня пробирает дрожь. Не случайно, скажу я вам, их так и зовут – свиньи. А вот Оруэлл считает их главными гигантами мысли на хуторе. Подозреваю, он просто никогда не видел свиней в натуре. Или же я чего-то не понимаю.
«Стоящие в саду животные вновь и вновь переводили глаза со свиней на людей, – прочел я, – и с людей на свиней и снова со свиней на людей, но не могли сказать определенно, где – люди, а где – свиньи». Круто. Я позвонил Мартине и сладкозвучно договорился встретиться с ней в «Чащобе» на Пятой авеню. Она попыталась что-то возразить – не помню что, какая-то чепуха. Я принял душ, переоделся и прибыл с хорошим запасом времени. Заказал бутылку шампанского. Выпил ее. Мартины все не было и не было. Я заказал еще бутылку шампанского. Выпил ее. Мартины все не было и не было. Какого хрена, подумал я, и решил, раз такое дело, нажраться... Когда же эта цель была достигнута, то потом, боюсь, я отбросил всякую осторожность.
Рос и воспитывался я здесь, в Соединенных Штатах самой-что-ни-на-есть Америки. С семи до пятнадцати я жил в Трентоне, Нью-Джерси. Я ничем не отличался от обычных американских детей. Забрасывал в чулан сандалеты и короткие штанишки, гордо натягивал кеды и штанишки подлиннее. У меня были кривые зубы, оттопыренные уши, стрижка под ежик, толсторамый велосипед с «белобокими» шинами и электрическим клаксоном. Акцент у меня был не английский и не американский, а что-то между – скажем так, среднеатлантический. Алек Ллуэллин утверждает, что я до сих пор иногда говорю, как английский диск-жокей. Не помню, чтобы в Штатах все казалось мне таким уж большим, но точно помню, что когда вернулся в Англию, все казалось ужасно маленьким. Машины, холодильники, дома – скукоженные, смехотворные. В Штатах мне худо-бедно запали в подсознание азы богатства и вознаграждения. Я морально приготовился подсесть в будущем на фаст-фуд, сладкие коктейли, крепкие сигареты, рекламу, телевизор с утра до вечера – а также, не исключено, на порнографию и драки. Но к Америке у меня претензий нет. Америку я не виню. Я виню папашу, который сплавил меня сюда вскоре после смерти матери. Я виню мамашу.
Я ее почти не помню. Помню ее пальцы – холодным утром я ждал у ее кровати, а она вытягивала теплую руку из-под одеяла и застегивала пуговицы на моих манжетах. Лицо ее... Нет, лица совсем не помню. Лицо оставалось под одеялом. Вере всегда нездоровилось. Я только помню ее пальцы, папиллярные линии, ногти в пятнах, вмятину от белой пуговки на кончиках подушечек. Видимо, у меня не получалось застегивать манжеты самому. На самом деле мне скорее не хватало человеческого тепла, чувства локтя. Сейчас разревусь, хотя нет, не разревусь. Никогда не ревел и никогда не буду. На самом деле, скорее мне нужно было сохранить о ней какое-нибудь воспоминание, и что у меня осталось? Только память о ее пальцах и о том, как изменился дом, досадно, непоправимо изменился, когда ее не стало.
В Трентоне мне нравились тетя Лили и дядя Норман. Вера и Лили, сестры; на фотографии, которую я давно куда-то задевал, у них вопросительное, какое-то очень американское выражение – широкие улыбки, верхние передние зубы чуть скошены внутрь, хохотушки-сладкоежки. Сестры в курсе, что они сестры, и очень тому рады. Радость на генетическом уровне. «Успеха вам, девоньки, – всегда думал я (куда же фотография-то делась). – Развлекайтесь». Также на их лицах испуг. Им двадцать и двадцать один. Знакомое ощущение. В таком возрасте пытаешься выглядеть уверенно, хотя ни черта на самом деле не петришь. В Англию сестры прибыли в сорок третьем. Не знаю, рассчитывали они обзавестись английскими мужьями или нет, но обзавелись именно что английскими мужьями. Лили вернулась домой с Норманом. Вера осталась с Барри Самом.
Мне нравились мои младшие двоюродные брат и сестра, Ник и Джулия. Друг другу они тоже нравились, и поскольку были младше, то сумели обамериканиться до такой степени, до какой мне и не светило. Правда, когда им что-нибудь угрожало, и я вставал на их защиту, с кулаками или наглым гонором, то они обычно предпочитали, чтобы я был где-нибудь подальше. Мелкие же, что они понимали. И все равно обидно. Интересно, кем бы я был в «Скотном дворе»? Сначала я подумал, что одной крыс. Но зачем же так, зачем так сурово. Сейчас, по зрелому размышлению, я пришел к выводу, что больше похож на собаку. Яи есть собака. Хозяин привязал меня к заборчику и убежал с хозяйкой подурачиться на пляже. Я мечусь, прыгаю, подвываю, натягиваю поводок, места себе не нахожу. Собака легко может пережить тычок или пинок. Для собаки тычок – тьфу, ерунда. Пинок – плюнуть и забыть. Но посмотрите, как ведут себя собаки на улице: им все интересно, до всего есть дело, за каждым углом их ждет великое открытие. И только вообразите, как это горько, мучительно – быть привязанным к забору, когда столько всего происходит, столько волнующего, потрясающего, сногсшибательного, и ведь буквально лапой подать, да поводок не пускает.
Я всегда понимал, что Америка – страна великих возможностей, страна энергичных дворняжек. Успех разлит в ее озоновом слое, это новый мир для выскочек и новой метлы, которая чисто метет, это страна, где удача улыбается и знаком показывает, что все в ажуре... Угу. Или нет. Дядя Норман начал с промтоварной лавки. Совсем маленькой, конечно. Он работал не покладая рук. Дни были долгими и безмятежными. Прошли годы. И эффект был нулевой. Дядя Норман по-прежнему владел мелкой промтоварной лавкой. Тогда он продал лавку и всецело переключился на бытовую аппаратуру. И опять ничего не вышло. Бытовой аппаратуре было сто раз плевать, что дядя Норман всецело на нее переключился. Следующим этапом был лесной склад. И опять не вышло, опять не повезло. После чего дядя Норман сделал зигзаг– взял кредит под залог дома и вложил все деньги, до последнего цента, в производство кондиционеров. Производство кондиционеров преспокойно заглотило вложенные им средства, только их и видели. Тогда дядя Норман совершил самый трудный поступок в своей жизни. Он подал заявление в приют.








