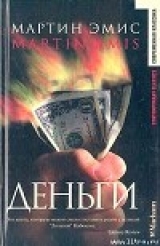
Текст книги "Деньги"
Автор книги: Мартин Эмис
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Я заметил, что Филдинг смотрит на меня и тоже ждет ответа. Ничего, скоро это кончится. Конец всему, в том числе и этому, не за горами.
– Там, типа, кульминация, – объяснил я. – Вы с Лорном деретесь из-за девушки. Еще из-за денег. Это...
– Ну да, ну да. Но со стариками не дерутся. По крайней мере, не так. Мордобой-то зачем?
– А что если он вас побьет? Можно и так сделать. Хотите? Или если вы ему монтировкой по кумполу?
Он с жалостью посмотрел на меня и выпятил массивный подбородок, поджал полные плосковатые губы.
– До этого не дойдет, – проговорил он. – Я и так найду, как с ним разобраться. Мало, что ли, способов – гипноз, сила воли... Ладно, это все поправимо. Геррик говорит, через две недели черновой вариант будет уже готов. Тогда и приходите, обсудим еще раз. Мама проводит вас к выходу.
На полпути к двери я развернулся, сделал вид, будто просто следую сценарию данного конкретного похмелья, прошагал обратно к столу и остановился, руки в карманы, прямо перед Гопстером. Тот поднял голову. Угу, даже лицо его было мускулистым – можно подумать, он и ушами железо качает.
– Когда-нибудь мы встретимся.
– Что-что?
– Номер сто один.
– Простите?..
– Ладно, ерунда. Знаете, мне ваш фильм действительно понравился. Зацепил, вот – глубоко зацепил. До встречи, Давид.
Мы стояли на раскаленной песочнице тротуара и наблюдали стену смерти на Первой авеню. Выходя из тоннеля, дорога там разветвляется и резко взмывает вверх. Оказавшись на эстакаде, колесное стадо немедленно впадает в панику, фырчит и взбрыкивает. Филдинг сказал «автократу» отъехать, и мы предались раздумьям – облаченный в сизый костюм продюсер, облаченный в мешковатый угольно-черный костюм и израненную плоть режиссер. Знаете, как только нам открыли дверь, вмятины у меня на спине принялись немилосердно зудеть, отвратительно зашуршали. Может, надо обратиться к врачу – вдруг там заражение. Или, может, загрузиться пенициллином из личных запасов. Интересно, сколько в Калифорнии берут за спину? Так или иначе, ночь придется провести, приклеившись спиной к самолетному полиэстеру. Лучше домой. Домой.
– Ну что, – произнес я, – еще один псих. Именно этого нам и не хватало. И что за «вы спасены»? От кого?
– Спасенный – значит утвердившийся в вере. Это, Проныра, фундаментализм, самое вульгарное и пролетарское из всех американских верований. Никодим, и так далее. Евангелие от Иоанна, глава третья. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
– Чего?
– Смотри Библию, Проныра. Читал когда-нибудь?
– Читал, читал,
– Гопстер очень религиозный. Просто святой. Не слышал? Помогает в больницах, в социальной службе Бронкса. Все деньги, которые папаша не спустит на баб илина бегах, Давид жертвует благотворительности.
– Я же сказал. Еще один псих.
– Он нам нужен. Действительно нужен. С ним ансамбль будет просто идеальный. Самое то, что надо. Этот парнишка взлетит высоко, очень высоко. Как думаешь, Проныра, – сказал он и коротко хохотнул, – у него есть разрешение на все эти мышцы? Понимаю, понимаю, что тебя беспокоит – но можешь расслабиться. Он вполне контролируем. Дорис все учтет в сценарии, и как только Давид увидит текст, станет как шелковый. Они все станут как шелковые. К тому же, ты ему нравишься. И всем им тоже. Жалко, конечно, что тебе надо лететь, Только все на мази...
Да ладно, – сказал я себе, – прикинуть бюджет и заняться сценарием я спокойно могу и в Англии. Если Дорис Артур закончит с опережением графика, можно послать пакет экспресс-почтой, дойдет за сутки. Филдинг пообещал, что тем временем снимет мансарду или студию, и в следующий приезд мы устроим пробы на эпизодические роли – официантов, танцовщиц, гангстеров.
– То-то повеселимся, – сказал он. – Проныра, нас ждет светлое будущее.
Мы крепко-накрепко обнялись, щека к щеке. Как мне, оказывается, именно этого не хватало – живых человеческих тисков. Подъехал «автократ», и я подписал на капоте очередные контракты (дважды – где отмечено «РАСПИСЫВАЕТСЯ УЧАСТНИК СОГЛАШЕНИЯ» и где «РАСПИСЫВАЕТСЯ САМ»). Филдинг махнул на прощание рукой и скрылся за черным стеклом.
Налитый кровью глаз солнца всю дорогу разглядывал меня с явным неодобрением. В «Эшбери» мне сообщили, что мистер Гудни уже «позаботился» о счете, более того, он зарезервировал номер 101 до дальнейших распоряжений. Что ж, какая-никакая, а уступка. К «Эшбери» Филдинг относился крайне неодобрительно и все наседал на меня, чтобы я снял люкс или этаж в «Бартлби» или «Густаве» у Централ-парка. Но «Эшбери» ближе к моей весовой категории. И я здесь привык.
Следующий этап – сборы и тэ дэ. Когда я засовывал книжку Мартины между складками моего лучшего костюма, в дверь постучали, и вошел Феликс. Он нес белую Коробку размером с небольшой гроб, перевязанную ярко-розовой лентой с пышным бантом. У Селины есть набор такого же цвета – лифчик и трусики. Вообще, у меня на нее серьезные виды. Ну что, еще один подарок?
– Примите посылку, – произнес Феликс, распрямляясь.
Даже когда он стоял расслабившись, все равно казалось, что Феликс бежит на месте.
– Держи, Феликс. Ты настоящий друг.
Он взял купюру, но сохранял озадаченное выражение.
– Не многовато будет? – добродушно поинтересовался он. – Перепил, что ли?
Мало есть на свете вещей лучше, чем невольная улыбка черномазого. Сто баксов она стоит. Даже больше. Веки его были бесконечно черны, что делало прищур пристальней, а улыбку – вкрадчивей. Поэтому Феликс навсегда сохранит наглый вид, даже когда станет из черного мальца черным мужиком. Не исключено, что когда-то и я имел такой же вид, но утратил. В школе мне все время говорили стереть с лица эту гнусную ухмылку. Но я даже не догадывался, о какой ухмылке речь, так что как я мог ее стереть?
–Да ладно тебе, – сказал я. – Деньги даже не мои. Купи подарок подружке. Или маме.
– Полегче, полегче, – отозвался Феликс.
Черный чемоданчик лежал на постели рядом с белой коробкой. Я потянул за ленточку, поднял крышку и услышал собственный хриплый крик отторжения, гнева и, возможно, стыда. Я разорвал ее в клочки голыми руками. Потом встал посреди комнаты, говоря себе: спокойно, главное – не горячиться. Но слезы успели хлынуть ручьем, неудержимо. Короче, момент не лучше любого другого, такой же скверный. Яскажу вам, что это был за подарок, и, думаю, вы меня поймете. В коробке не было ни записки, ничего, только резиновая женщина, по-поросячьи розовая, с влажным блеском и широким оскалом.
Знаете, мне говорили, что я не люблю женщин. Какой вздор. Телки – это очень даже круто. Мне говорили, что мужчины вообще не любят женщин. Неужели? А кто тогда? Потому что женщины других женщин точно не любят.
Иногда жизнь становится очень знакомой. Иногда в глазах у жизни появляется до боли знакомый блеск. Вся жизнь – это вендетта, заговор, мандраж, оскорбленная гордость, вера в себя, вера в справедливость ее приливов и разливов.
Есть одна тайна, которой не знает никто: Бог – женщина. Оглядитесь! Неужто не очевидно?
* * *
Над входом в бар покачивается вывеска с портретом Шекспира. Портрет тот же самый, который я помню со школы, когда морщил лоб над 'Тимоном Афинским" или «Венецианским купцом». Получше, что ли, нет? Неужели он действительно все время так выглядел? Вообще-то, его рекламисты давно могли бы уже и подсуетиться, что-нибудь посимпатичней предложить. Выступающая нижняя губа с бомжовой щетиной, уродский подбородок, подернутые тиной бабулины глазки. А причесон-то, причесон. Ну не смех ли? Уильям Шекспир всегда приносил мне грандиозное облегчение. После гнетущего визита к зеркалу или недоброго слова от подружки, или обалделого взгляда на улице я говорю себе; «Какой все-таки Шекспир был урод». Эффект просто чудодейственный.
– Толстый Винс, – спросил я, – что ты ел сегодня на завтрак?
– Я? Сегодня на завтрак я ел маринованную селедку.
– А на ленч?
– Рубец.
– А что ты будешь сегодня на обед?
– Мозги.
– Тлстый Винс, да ты больной.
Тлстый Винс таскает в «Шекспире» ящики с пивом– плюс, на добровольных началах, вышибала. Последние тридцать пять лет он бывает здесь чуть ли не каждый день. Я тоже – по крайней мере, мысленно. В конце концов, здесь я и родился, наверху. Он отхлебнул пива. Толстый Винс препогано выглядит, и его сын Толстый Пол тоже... К Толстому Винсу я испытываю какое-то особо сердечное чувство, отчасти потому что он также страдает сердцем. Его сердце не дает ему спуску, и мое когда-нибудь тоже пойдет на приступ. Подозреваю, у Толстого Винса ко мне тоже особо теплое чувство. Раз в пару месяцев он отводит меня в сторонку и, дыша перегаром, интересуется, как мои дела. Никому больше это не интересно. Только ему. Иногда он заводит речь о моей матери. Толстый Винс тоже вдовец. Его жена умерла оттого, что была слишком простонародна. Всю недолгую жизнь она была явно не в своей тарелке. Моя же мама загадочным образом пришла в упадок, не более того. Хорошо помню, как после школы я забирался к ней в постель. Распад ощущался совершенно явственно. Ностальгия по Америке. Переизбыток Барри Сама. Толстый Винс по совместительству работает помощником управляющего бильярдной в «Виктории». Порядки у него там вполне либеральные, и бильярдисты в нем души не чают. В подвале он оборудовал небольшую кухоньку, где и готовит свою жуткую, стряпню. Толстый Пол гоняет шары, строит из себя акулу зеленого сукна и отвечает за микроволновку. Распластавшись над столом номер один, он пригибает голову так, что кий продавливает на подбородке ямочку, и берет костяные шары в перекрестье прицела... Вскоре после смерти моей матери Толстый Винс затеял с моим отцом знаменитую драку у мужского сортира в проулке за «Шекспиром», когда заведение еще только раскручивалось.
– Это настоящая еда, сынок, – произнес Толстый Винс. – Тебе-то откуда знать, всю жизнь в кабаке ошиваешься. Дай тебе пакет сухариков, ты уже на седьмом небе от счастья.
– Помнишь Лайонела? – спросил Толстый Пол.
– Помню, – ответил Толстый Винс.
Толстый Винс, конечно, не королевской крови, но определенную сдержанность в речи проявляет, звуки цедит. Не то что сынуля– Толстый Пол, поперек себя шире, морда совершенно каменная, бритый затылок и зверские светлые брови, придающие глазам выражение куницы-ветерана, вдоль и поперек изучившей все крысоловки и заячьи силки. Толстого Пола ни капли не волнует его акцент. И ведь, в чем весь ужас, никакой каши во рту, каждый слог звучит угрожающе четко. Нечего и пытаться передать эту феерию в письменном виде. Придется вам домыслить.
– Встречаю, значит, его в субботу, – сказал Толстый Пол. – Фу! говорю я, ты что, кэрри наелся? Не, говорит он, кэрри в пятницу было. А что сегодня, спрашиваю я. Три пиццы с пряностями, говорит он, и два китайских супа. Пока он на антибиотиках только из-за этой дряни под мышкой, типа лишая. Через день сталкиваюсь с ним в клубе для дальнобойщиков. Па, ты слышал, там поставили автомат для этих долбаных чипсов. Чипсов! – Судя по всему, Толстый Пол до сих пор не мог оправиться от такого удара. – Воттакенная хренотень, полная жидкого дерьма, раз в месяц кто-нибудь приходит и доливает через воронку еще жира. Тридцать пенсов пакет. Лайонел, значит, стоит у агрегата и давится, засыпает в пасть горстями. Брр. Нет, но какая дрянь. Слов нет. На четвертом пакете он поворачивается ко мне и говорит, ума, мол, не приложу, с чего бы все эти проблемы с кожей!
– Пусть скажет спасибо, что еще жив, – проговорил Толстый Винс, – с тем, что он ест.
– Видел, какое он брюхо нажрал?
– Его отец отбросил копыта в пятьдесят один. Пять лет сидел на диете, но все толстел и толстел. Потом вдруг выясняется, что он уминал диету плюс всю свою обычную жратву. А что это была за жратва... нет, лучше и не думать. Когда Ева вернулась, она спрятала его челюсти, но он смолол все в кашу и все равно заглотил. И денег у него сколько-то было.
– Деньги... – задумчиво протянул Толстый Пол. – Какой в них, на хрен, толк, когда здоровья нету.
Говорят, французы живут, чтобы есть. Англичане же, с другой стороны, едят, чтобы умереть. Я взял свою кружку, переместился к стойке и ухватил пакетик чипсов – с креветочно-рольмопсовым вкусом, – а также упаковку хрустящих ветчинных хлебцев. Громко хрустя, я развернулся и стал разглядывать народ. Все-таки, когда зависаю в «Шекспире», я не совсем уродина. Рядом с Филдингом и кинозвездами я, конечно, не смотрюсь – но здесь мне все карты в руки. Эти пролетарские бабищи, они страшнее смерти. Тяжелая все-таки жизнь у пролетариата, износ высок. И кабаки не помогают, отнюдь. Я снова развернулся и оперся о стойку, в обрамлении геральдических уличных знаков, зазывающих на пиво и бильярд, пластмассовых пепельниц размером с супницу, потертых пупырчатых подставок под пиво, которые кажутся влажными, даже когда сухие. На квадратной деревянной колонне висела доска меню, с нацарапанными мелом навязчивыми перепевами фарша в кляре и поджарки-ассорти; "и" и «или» были подчеркнуты, «кофе» и «чай» экзотически закавычены. Мой взгляд остановился на циферблате древнего ящика для пожертвований. «Доверьте предсказание своей судьбы Обществу друзей больницы Святого Мартина». Кидаешь в щель монету, и стрелка, крутнувшись, указывает на тот или иной жребий. Выбор, честно говоря, небогат. «Обмани могилу, портер – это сила». «Шар в лузу – не обуза». «Прочь тоску-кручину, ждите крошку-сына»... Ничего особо угрожающего. Хотя любые знамения меня пугают. Вот если бы Общество друзей больницы Святого Мартина предлагало, скажем, что-нибудь от облысения или конский возбудитель, тогда им не пришлось бы подачки клянчить. Я просунул в щель десятипенсовик, и монета, удовлетворенно звякнув, упала на дно ящика. Крутнулась стрелка: «Деньги на подходе». Я кинул еще одну монету: «Остерегайтесь ложных советов». Хорошо, договорились. Я поднял голову, и кривое балаганное зеркало со скрипом повернулось вокруг оси; из-за отворившейся стеклянной двери выглянул мой отец и ободряюще поманил меня, словно с боковой линии поля. Так что я поднырнул под канаты.
– Здорово, пап, – сказал я.
На нем была черная кожаная куртка и белый шелковый шарф. И шевелюра у папаши очень даже ничего, серебристая и обильная. Хотел бы я так же выглядеть в его возрасте. Собственно, я не возражал бы выглядеть так и сейчас. Вообще-то, я не возражал бы выглядеть так лет пять назад или даже десять, если подумать. Все дело в сердце, в моторе. Мой барахлит.
– Не называй меня так, – поморщился он. – Мы же друзья. Зови меня Барри. Так вот, – проговорил он, обнимая меня скрипучей рукой за плечи и ведя в гостиную, она же кабинет, – я хочу познакомить тебя с Врон.
– Врон?
Он что, уже на роботов перешел, подумал я. Папа дернул меня за волосы, и я остановился.
– Да, Врон, – повторил он. – Будь добр, веди себя как следует.
И в моем-то произношении это имя звучит черт знает как. А у папаши трудности с буквой "р" (небный какой-нибудь дефект, или с уздечкой не того), так что в его варианте Врон звучало еще хуже.
Все эти годы явно пошли гостиной на пользу. Теперь здесь пахло деньгами. Ребристую и прыщеватую газовую горелку, в зыбком тепле которой я натягивал школьную форму, заменила черная корзинка для яиц с имитацией угля. Вместо древнего стола, за которым я завтракал, стоял застекленный коктейль-бар с отделкой из пупырчатого пластика, тремя высокими табуретами, впечатляющей батареей сифонов и шейкеров. Врон откинулась на спинку эффектного дивана, обитого белым рубчатым вельветом. Бледная брюнетка, уютно сложена моего возраста. Где-то я ее уже видел.
– Очень рад вас видеть, – произнес я.
– Премного о вас наслышана, Джон, – отозвалась Врон.
– У нас такое счастье, – с хрипотцой проговорил папа. – Правда, красавица моя?
Врон кивнула.
– Сегодня для моей Врон особый день. Врон, покажи ему.
Врон села прямо, запахнула полы расписанного иероглифами платьица и, махнув широким рукавом, вытащила с полки кофейного столика порнографический журнал «Денди»... В чем, в чем, а уж в порнографических журналах я разбираюсь: «Денди» – издание не самой высокой пробы, ориентированное на скромные запросы и мозолистые ладони работников физического труда; типичный образец – беспутная домохозяйка или веснушчатозадая шведка, самозабвенно выкручивающаяся из типового нижнего белья.
– Присядьте, Джон, – объявила она и похлопала рядом по дивану.
Послюнив кончики пальцев, она стала листать журнал. Со вздохом, едва не кудахча от наслаждения, нашла нужный разворот и ласкающе примостила у меня на коленях. Отец тоже сел. Руки их легли мне на плечи; их перезрелые, выжидающие, такие человеческие лица оказались в дюйме от моего.
Я раскрыл журнал пошире. С правой страницы прямо на меня смотрело лицо Врон крупным планом. Горло ее пересекала надпись «Врон» – опять же в кавычках, со всей несбыточностью их экзотического посула,
– Ну давай, Джон, – услышал я ее шепот.
Я перелистнул страницу. Врон в типичных придурочных оковах и альковах, делает все то, за что этим девицам платят. Я перелистнул страницу.
– Помедленней, Джон, – услышал я ее шепот. Врон на железном стуле, локти вбок, приподнимает тяжелые груди. Врон, выгнув спину и задрав ноги, лежит на взъерошенном белом ковре. Врон распростерта на багажнике «гиены» с откидным верхом. Врон в полуприседе на зеркальном полу. Я перелистнул страницу.
– Вот, – услышал я шепот Врон.
На последнем двойном развороте Врон стояла на коленях, вскинув к аппарату перетянутый подвязками зад, глубоко проминая пурпурными ногтями кожу ягодиц. Теперь я узнал ее. Вероника; одаренная стриптизерша. Отсюда же, из «Шекспира».
Врон всхлипнула и расплакалась. Папа мужественно поглядел на меня. Если не ошибаюсь, он тоже обронил слезу-другую.
– Я... я так горжусь, – выдавила Врон.
Отец набрал полную грудь воздуха и встал с дивана. Звучно хлопнул по крышке бара.
– Розовое шампанское, – объяснил он. – Сегодня же особенный день, так? Ну хватит, Врон. Хватит, глупышка. Держи, милая, за тебя пьем. – Он снисходительно шевельнул носом. – Держи, Джон,
– Врон, Барри, – произнес я. – Будем здоровы.
Домой я поехал на «фиаско». Не считая поврежденной системы охлаждения, периодических неисправностей с тормозами и гидравликой, а также склонности резко принимать влево в самый неожиданный момент, машина в сравнительно приличном состоянии. По крайней мере, заводится она чаще, чем не заводится, в общем и целом. Сомневаюсь, чтобы Селина часто выводила «фиаско», пока я в Штатах, а Алеку Ллуэллину машина ни к чему, он круглые сутки под замком... Дорога от Пимлико до Портобелло заняла полтора часа с лишним, и когда я припарковал «фиаско» на двойной желтой линии у своей берлоги, было уже заполночь. Почему дорога заняла у меня полтора часа с лишним? Полуночная транспортная пробка. Можно подумать, час пик. Это все долбаная свадьба в королевском семействе. Почти час я проторчал в закупоренном туннеле. «Фиаско» перекалялся. Я перекалялся. Все машины были набиты иностранцами и ухмыляющимися пьяными. Горловина туннеля раздулась, как при эмфиземе, – от табачного дыма, выхлопных газов и сквернословья. Наконец мы выехали под звездный полог. Соедините точки... У Лондона сбит суточный ритм. У Лондона культурный шок. Все не то и все не так.
Когда я вошел со стаканом в руке, Селина присела в кровати.
– Чем занимаешься? – спросил я.
– Книгу читаю.
– Чего?
На коленях у нее действительно лежала «Милочка». Рядом – телепрограмма.
– И как там Барри?
– Нормально.
– Видел его новую корову? Он говорит, что собирается жениться на ней. А недавно опять приставал ко мне.
– Не приставал. И как это было?
– Он засунул голову мне под юбку.
– Что?
– Я думала, он шутит, пока он не попытался стянуть с меня зубами трусики.
– Господи Боже.
– Доктор?
– Да?
– Доктор, кажется, у меня синяк на бедре, с внутренней стороны. Не посмотрите? Бензиновый король предложил мне пятьдесят нефтедолларов за минет в лифте.
– И что ты сделала?
– Потребовала семьдесят пять. Но тогда он захотел по полной программе, и, по-моему, он слишком стиснул мое бедро. Не посмотрите, доктор?
Я сказал ей, чтобы кончала с этой докторской ерундой, и говорила по-человечески – о бензиновом короле, его нефтедолларах, о том, что он с ней сделал... На последнем издыхании она произвела звук, которого я от нее никогда еще не слышал – ритмическое подвыванье, безудержно порывистое или безнадежно умоляющее. Слышать этот звук мне доводилось, но не от Селины.
– Ты что, – негодующе сказал я (вроде, в шутку), – не придуриваешься?
Она вздрогнула и гневно вспыхнула.
– Придуриваюсь, конечно, – выпалила она.
Самое интересное, что единственный способ, каким я могу заставить Селину действительно захотеть спать со мной – это самому не хотеть спать с ней. Способ безотказный. Она распаляется не на шутку. Беда в том, что когда я не хочу спать с ней (такое бывает), я действительно не хочу спать с ней. Когда такое бывает? Когда я не хочу спать с ней? Когда она хочет спать со мной. Мне нравится спать с ней, когда ее такая перспектива ни капли не вдохновляет. Она почти всегда спит со мной, если я как следует накричу на нее или стану угрожать, или дам ей достаточно денег.
Замечательная система. Работает как часы. Мы с Селиной моментально находим общий язык. Селина же все понимает. В двадцатом веке она как рыба в воде. Настоящий городской ребенок. Когда мы в постели, разговор иногда заходит о... Занимаясь любовью, мы часто говорим о деньгах. Мне это нравится. Люблю сальности.
Не спалось. Сна ни в одном глазу, хоть ты тресни. Зато Селина спала как убитая. Это у нее тоже хорошо выходит, соня она первостатейная, с детской такой улыбочкой.
Я вылез из кровати, прошлепал на кухню в своей кургузой ночной рубашке и плеснул себе выпить. Огляделся в поисках улик. Когда я приехал из аэропорта – вчера, плюс-минус неделя, – то квартира показалась мне какой-то встрепанной, не до конца обжитой, как будто уборщице не дали завершить свой труд или снова успели напачкать. На столе стояли цветы, зато в корзине для белья – ни одной пары трусиков. В холодильнике было свежее молоко, зато в чайнике – совсем дохлая заварка, а ведь Селина у нас знатная чаевница. С чаем она очень разборчива и нередко таскает пачку в своей сумочке... Она меня ждала. Я это сразу понял по ее волнению, наигранному, чересчур драматичному. «Где ты была?» – спросил я. «Здесь!» – воскликнула она, весело мотнув головой. "Откуда ты знала, что я прилетаю? " «Ничего я не знала», – твердила она. А я никому не говорил, что возвращаюсь, даже Элле Ллуэллин, никому. Ладно, фиг с ним, подумал я и попробовал тут же завалить Селину в койку, с корабля на бал. Мне было охота поскорее восстановиться во владении. Она позволяет мне какое-то время поваландаться с ней, не скупится на эти притворные ахи-вздохи, до которых, как прекрасно знает, я весьма охоч, и обещает в полной мере проявить свой необузданный, Богом данный талант – как вдруг трубит отбой, скатывается с постели, оправляет платье, приглаживает волосы, переодевает туфли, припудривает носик, выпускает изо рта мой прибор и требует ленч.
Мы отправляемся в «Крейцер». Я обжираюсь и упиваюсь так, будто сегодняшний день – последний. Сказать нам особо нечего. Да и как тут задашь каверзный вопрос, когда тебя ведут на четвереньках вверх по лестнице. Еще чего не хватало, чтобы я ей суфлировал. Меня слишком пугает перспектива землетрясения или ядерной войны, или инопланетного вторжения, или Судного дня – что они встанут между мной и заслуженной наградой. Ничего вы не добьетесь от Джона Сама, кроме светского трепа, лести и визгливых требований налить еще. Ополоснув рот чем покрепче, чтобы зубы не ныли, я мчусь домой и оставляю «фиаско» посреди улицы. К этому моменту я уже всемогущий кудесник жратвы и бухла, приворотного зелья и любовных чар. Селина заходит в спальню с низко опущенной головой. Оглушительно крякнув, жарко пыхнув, я расстегиваю ремень.
...С кофейного столика я взял стопку почты и сдал себе конверт снизу. Тот содержал перечень моих банковских счетов, я сразу его узнал – с характерной коричневой виньеткой и сургучной печатью, словно запекшаяся кровь. Разумеется, теперь банковский счет уже не мой. Теперь это совместный банковский счет. Половина его принадлежит Селине – чтоб укрепить ее достоинство, самоуважение, помните? Я взломал печать большим пальцем. И перечень был, вот не сойти мне с этого места, длиной в три страницы! Среди лаконичных пунктов дебетовой стороны – «Ю-Эс Эппроуч», «Виноферма», доктор Марта Макгилкрист, газ, «Крейцер», «Махатма», «Транс-американ», опять «Виноферма»– теперь толпилась целая армия новых селининых партнеров родом из времен оных. Ну и компания! Можно подумать, что когда Селине приспичит потратиться, она зависает в Трое или Карфагене: «У Зевса», «Голиаф», «Амариллис», «Афродита», «Ромео и Джульетта», «Ромул и Рем», «Элоиза и Абеляр»... Я с самого начала подозревал,, что Селина тратит все деньги на массаж, парикмахеров и нижнее белье, – но это еще когда с деньгами у нее было туговато. Наиболее предательски смотрелся единственный пункт на кредитовой стороне – две тысячи фунтов, с авансового счета. Жаловаться, пожалуй, не на что. Так мы и договаривались. Таково наше джентльменское соглашение. Но в том-то вся и беда с этим достоинством и самоуважением – они в такую чертову уйму денег обходятся!..
Так вот, теперь я один из безработных. Чем мы занимаемся целый день? Сидим на крылечке или топчем тротуары, группами и поодиночке. Тротуары – как бесшвейные ковры после изуверского кутежа с тошнотворным бухлом и суррогатной жратвой; можно подумать, вчера небесная канцелярия весь вечер топила свое горе в вине, а потом в полном составе блевала с высоты тридцать тысяч футов. Мы сидим, нахохлившись, в парках, окруженные плебейскими цветами. Ничего себе (думаем мы), как медленно жизнь-то течет. Я вырос в шестидесятые, когда возможностей было море, подходи – бери. А нынешняя молодежь разлетается из своих школ, и куда? Никуда, попросту на хрен. Молодежь (и это видно по их лицам), прикинутые под стегозавров горемыки, никчемушники с петушиными гребнями, они выработали подходящую реакцию на все это – а именно никакую. Им все пофигу. Очередь за пособием начинается прямо с детской площадки. Уличные беспорядки – это их игры и танцы, весь Лондон им – гимнастический зал. Другие же тем временем повсюду копят жизнь. Деньги так близко, буквально рукой подать, но все на другой стороне – вы только и можете, что прижать лицо к стеклу. В мое время, если хочешь, можно было просто забить на учебу, податься хипповать. Деньги и об этом позаботились – теперь податься некуда. От денег не укроешься. Теперь от денег укрыться негде. Так что иногда, когда ночи жаркие, деньги бьют витрины и хватают, что плохо лежит.
Тем временем какие-то совершенно примитивные твари разъезжают вокруг при деньгах на своих «торпедах» и «бумерангах» или сидят при деньгах в «Махатме» или в «Ассизи», или просто стоят при деньгах – в магазинах, в кабаках, на улицах. Они всяких форм и расцветок бывают – невольно облагодетельствованные глобальной шуткой, которую отмочили и продолжают отмачивать деньги. Они ничего не делают – за них работает национальная валюта. В прошлом году все распивочные кишмя кишели немыслимо расточительными ирландцами; в карманах у тех были не деньги, а бери выше – евроденьги. На Ближнем Востоке деньги хоть лопатой греби, и новая армия захватчиков финансового пространства начинает разорять Запад. Каждый раз, когда фунт подвергается групповому изнасилованию на международном валютном рынке, то всем арабским телкам отламывается по новой меховой шубе. Бывают здесь, конечно, и белые финансовые воротилы – аборигены, самые натуральные англичане. Сплошной криминальный элемент, никак иначе, с их тугими бумажниками, гнилым базаром, бандитскими рожами. И я такой же. Я один из них, белый или хотя бы цвета пасмурного неба, не волосы, а мочалка, пепельный локоть выставлен в окно «фиаско», неулыбчиво пялюсь на светофор, вконец отупел от всех издевательств – но при деньгах. Деньги у меня есть, но я не умею их контролировать, так что Филдинг то и дело подкидывает еще. По-моему, деньги вообще неконтролируемы. Даже тем из нас, кто при деньгах, это не под силу. Жизнь – ее только ленивый грязью не поливает, а вот по адресу денег почти никто не прохаживается. Короче, деньги – охренительная вещь.
Уйдя с работы и поставив все на фильм, я тоже оказался в подвешенном состоянии. Так откуда ж мне знать, чем заполнить день? Понятия не имею. Может, посоветуете что-нибудь? Деньги здесь плохой советчик. Так ведь и проваляюсь в койке без малейшего понятия до тех пор, пока... Пока что? Жизненный опыт, конечно, полезная штука, но зачем так долго? Проснись и пой, вперед и с песней, одна нога здесь, другая там, ну же!.. Ну же! Я дрейфую, дрожу, бреду на ощупь, слепо шарю – и вот я наконец у цели, полураздетый на кухне с сигаретами и кофеварочными фильтрами. Иногда вредные привычки могут очень даже полезную службу сослужить; по крайней мере, заставляют вылезти из-под одеяла. Я смотрю в окно, вижу улицы, небо цвета подмокшего сахара– и я ошеломлен этим, сбит с толку, поставлен в тупик. Сами окна чуть более понятны. Двойные рамы остеклены грязью. Они похожи на ветровое стекло «фиаско» после пробега в тысячу миль, испещренное почерневшей кровью насекомых девятисотмильной давности, пунктиром сажи, отпечатками пальцев немытых призраков. Даже грязь подчинена каким-то закономерностям, стремится к систематизации... Когда я ушел с работы, ощущение было, словно в конце семестра, словно субботним утром, великолепное ощущение, прямо как чего-то незаконного. Но конец означает, что должно начаться что-нибудь другое – а я так до сих пор и не почувствовал, что, собственно, должно-то начаться. Пока что ощущение никакое, на редкость хреновое. Селина встает рано. Уличный инстинкт (свидетельством которому – заострившийся подбородок, даже острые зубки) гонит ее в мир денег, курсов обмена. У нее доля в том бутике в Челси, почти на краю света, ну помните, я говорил, там заправляет эта ее подруга, Хелль, очень полезная подруга. Селина хочет, чтобы я вложил в их бутик деньги. Вкладывать я не хочу, но, похоже, придется. В таком случае не видать мне этих денежек как своих ушей.
В итоге я раскладываю пасьянс. Мартинина книжка лежит закрытая на прикроватном столике – я так и не сдвинулся с первой фразы, так и не понял, что там за лазы. Я перевожу взгляд на телевизор, на видеомагнитофон. Когда-то я мог похвастать довольно приличной коллекцией видеокассет, но сейчас ни на что продолжительное меня не хватает. Всю порнуху я видел уже раз сто, да и зачем она мне сейчас нужна, с Селиной-то. Я кормлюсь ежевечерними дозами хаотичной телеснеди. Короткометражки о дикой природе, комедийные сериалы. Футбол, бильярд, боулинг, «дартз». «Дартз»! О-хо-хо. Скоро и я буду такой же, как эти пузаны с их кружками и мишенями, страшные люди. А потом, ссутулив плечи и уставив взгляд на изуродованный тротуар, я шаркаю в кабак, пристраиваюсь в углу у огня, хлебаю пиво и изучаю таблоид.








