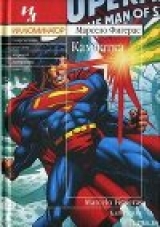
Текст книги "Камчатка"
Автор книги: Марсело Фигерас
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
73. О лучших историях
Лучшие истории – те, что очаровывают нас в детстве и растут вместе с нами: перечитывая, всякий раз открываешь в них новый смысл. (Каждый раз они новые, а следовательно, никогда не кончаются.) Например, песни «Битлз» – сначала они цепляют тебя всяческими «йе-йе-йе» из «She loves you», а потом деликатно, с учетом твоего развития, ведут со ступеньки на ступеньку, чтобы в итоге ты смог в один миг охватить взглядом всю бескрайность времени, когда звучит оркестр в «A Day in the Life». («Битлз» тоже не кончаются. Правда, на конверте их последнего номерного альбома указано, что последняя песня называется «The End» – помните, в ней поется, что в конечном итоге ты берешь у других ровно столько любви, сколько отдал сам, – но никакая она не последняя, ведь за ней идет другая, не обозначенная в списке, коротенькая тайная песенка, где Пол сообщает: «Ее величество – очень милая девушка, и однажды я добьюсь, чтобы она стала моей».)
Любимых историй у меня много, но на самом почетном месте стоит история короля Артура. Думаю, поначалу меня привлекли ее самые очевидные достоинства: описания оружия и доспехов, воплощенная в Круглом столе идея равенства, романтические идеалы рыцарей и поиски Святого Грааля – чаши, из которой Христос пил на Тайной вечере. В этой истории всегда идеально сочетались эпические подвиги и духовные искания. Я рос, и детские версии легенд оставались в прошлом. Пришло время читать подлинники: «Историю королей Британии» Гальфрида Монмутского, «Смерть Артура» сэра Томаса Мэлори, Граальский цикл, поэмы наподобие «Сэра Гавейна и Зеленого рыцаря». Взрослеть – это в том числе преодолевать внутренние противоречия. Тогда-то я и узнал, что человек – например, Артур – может иметь самые благие намерения, но при этом оставаться мелочным, эгоистичным и похотливым. Артур совершил кровосмешение, убил невинных младенцев и, удрученный своим личным горем, забыл об общем благе.
Но сильнее всего меня впечатлял финал. Сэр Бедивер помогает умирающему Артуру забраться в лодку, которой управляют женщины в черных одеждах. Среди них три королевы: сестра Артура Фея Моргана, Королева Северного Уэльса и Королева Опустошенных Земель. Их сопровождает Нинева, Владычица Озера. Артур говорит рыдающему Бедиверу, что отправляется на остров Авалон лечить свои ужасные раны. Лодка скрывается в озерном тумане. На следующий день Бедивер видит свежую могилу, на которой молится отшельник, и спрашивает, кто здесь погребен. Отшельник объясняет, что несколько женщин попросили его похоронить какого-то мужчину. Рассудив, что речь идет об Артуре, Бедивер решает поселиться рядом с могилой, чтобы предаваться посту и молитве.
Затем Мэлори отдает должное версиям, в которых Артур не умер и, когда придет пора, вернется. Как сообщает Мэлори, ему рассказывали, что на могильной плите Артура выбито: «Здесь лежит Артур, король в прошлом и король в грядущем». Но поскольку ни одна душа не видела Артура мертвым, да и могилу эту отыскать не удалось, никто не может сказать, что на самом деле сталось с Артуром. Мэлори отказывается поддержать версию о возвращении: «Я, однако, не стану утверждать, что он вернется, и лишь скажу: в этом мире он переменил свою участь».
Нынче я солидарен с Мэлори: ничто так не воодушевляет, как история о человеке, которому удалось переменить свою участь; в этом сумрачном мире, где тебя уверяют, что черного кобеля не отмоешь добела, я не знаю ничего более возвышенного. Еще в 1837 году Ральф Уолдо Эмерсон спорил с теми, кто проповедовал смиренную капитуляцию: «Идея, что мы появились в природе с опозданием, что мир давно уже завершен, – губительна». Нет, мир еще не завершен. Осталось еще как минимум пять миллиардов лет. Потому-то меня бесят те, кто твердит: «Все истории уже рассказаны», сводя творчество к тупому повторению того, что другие сделали удачнее и раньше, или к лепке своих текстов из чужих строк, из объедков вчерашнего пира. С тем же успехом эти реакционеры могут утверждать, что все жизни уже прожиты, а мы – люди второго сорта, эпигоны, берущие биографии напрокат. Тем самым у нас отнимают заслуги и надежды, объявляют наши переживания пустыми капризами. Жизнь людей нашего поколения не менее значительна, чем чья-либо еще. Наоборот, наша жизнь опирается, как на фундамент, на жизнь наших предшественников – жизнь, которая уже перестала быть биологией и стала историей; жизнь, проложившую путь, который привел нас в настоящий момент, в миг, который в этом смысле больше, чем все былое вместе взятое. Подобно некоторым видам животных и растений, наши предшественники служили мостом между днем минувшим и днем сегодняшним, позволили нам перейти пропасть, увенчали собой гору, которая достигла небывалой высоты, но станет еще выше.
Говоря о том, как тесно все в природе взаимосвязано, часто используют такую метафору: дескать, стоит бабочке взмахнуть крыльями – и это даст толчок череде событий, которая в итоге повлечет за собой землетрясение в другом полушарии. Если уж мы приписываем такое могущество бабочкам, то насколько сильнее человек, который становится хозяином своей судьбы, не поддавшись тем, кто пытался ею управлять, и меняет жизнь к лучшему? Какие потрясения вызовет эта перемена в его ближайшем окружении и даже в противоположной точке земного шара? Итак, я на пару с Мэлори считаю: достаточно того, что Артур воспользовался шансом исправиться. Правда, в детстве мне больше нравилась фантастическая версия, где Артур залечивает раны на Авалоне и ждет момента, когда сможет вернуться в свое королевство.
Много лет моим Авалоном была Камчатка.
74. Мы возвращаемся и не находим ничего, кроме кромешной тьмы
Когда мы вернулись – за полночь в воскресенье, – во всем поселке не горело ни огонька. Квартал за кварталом утопал во тьме. Папа припарковался в двухстах метрах от нашей дачи. Машину поставил так, чтобы в случае боевой тревоги без труда развернуться. Мы с мамой смотрели, как папа с фонариком уходит по немощеной улице. Гном спал у меня под боком, в обнимку с обоими Гуфи. Он их всех обслюнявил. Пока папы не было, мама успела выкурить две сигареты, одну за другой.
– Похоже, просто отключили свет, – сказал папа, садясь за руль.
– А Лукас? – спросил я. Меня больше ничего не волновало.
– Лукаса нет дома.
Это утверждение отчего-то показалось мне не слишком категоричным. Едва «ситроен» въехал в ворота дачи, я выскочил из него, как метеор, и понесся искать Лукаса. Света действительно не было. Я бегал по дому, тыкаясь в стены, с громким криком: «Лукас! Лукас!» Луна, светившая в окно нашей спальни, указала мне бледным пальчиком на голый пол: спальный мешок Лукаса исчез. Это насторожило меня окончательно.
Мама предположила, что Лукас решил ночевать в другом месте, пока мы в отъезде. Винить его за это нельзя. Когда человек один, он поступает так, как ему хочется. Но волноваться не стоит: если бы Лукас собирался отлучиться надолго, он бы обязательно оставил нам записку.
Я подумал, что эта записка, возможно, лежит где-нибудь в доме – разве в темноте ее сразу отыщешь?
Направился к бассейну – посмотреть, как там наши жабы, – и вдруг заметил в глубине сада какой-то огонек.
Огонек мигал: зажжется и погаснет, зажжется и погаснет. Как сигнал.
Я чуть не задушил Лукаса в объятиях. Он стоял, прислонившись к тополю. Tут же, на земле, лежали его спальный мешок и сумка с надписью «Japan Air Lines».
– Что ты здесь делаешь? Разве не видишь, дождь собирается?
– Вас жду.
– А что там со светом?
– Отключили во всем поселке. Темно, хоть глаз выколи.
Ответ Лукаса меня явно не убедил, и поэтому, недолго думая, я снова спросил:
– Что ты делаешь в саду?
Лукас не ответил. Казалось, его больше интересовал папа – тот увидел нас и пошел в нашу сторону. Мне стало обидно. Я вообразил, что, раз Лукас не обращает на меня внимания, значит, он предал нашу дружбу и я вправе оскорбиться. Но я не успел высказать ему свое возмущение. События опережают наши чувства.
– Можно тебя на минутку? – спросил Лукас у папы. Вместо ответа папа обратился ко мне. И просто-напросто спровадил:
– Иди помоги маме, она там одна с сумками.
Скрепя сердце я повиновался. Когда проснувшийся Гном, потянувшись, сказал мне какую-то невинную фразу, я злобно огрызнулся. Гном, захныкав, обиделся и убежал в сторону бассейна, где обнаружил в воде труп:
– Мертвая жаба! Мертвая жаба!
Как ни странно, мне полегчало. Хоть чем-то себя занять, хоть как-то отвлечься. Я послал Гнома за газетой и шпагатом, а сам достал из сарая лопату.
Мы зарыли жабу под деревом, рядом с другими.
– Это не яма, – говорил Гном жабе в бумажном саване, – а лифт. Мы тебя туда положим, и ты сразу поднимешься в жабий рай.
Гном положил жабу в могилу. Я начал заваливать ее землей. Гном осенил могилу крестным знамением – очень ловко и даже изящно – и удрал домой.
Я все еще разравнивал землю, когда подошел Лукас. Под мышкой он нес спальный мешок, с плеча свисала сумка.
– Гарри, я уезжаю.
– Сейчас? Ты что, промокнешь!
– Твой папа отвезет меня на станцию.
– А можно мне с вами?
– Нет.
– Ну почему? Я мигом закончу!
– У меня времени в обрез. Мне сто лет назад надо было уехать, но я хотел вас дождаться. Чтобы попрощаться.
Я начал трамбовать землю лопатой.
– Гарри, я уезжаю. И больше не приеду.
– Тебе обязательно надо ехать? – спросил я, утаптывая могилу кроссовками.
– Некорректный вопрос.
Я встал на колени, разыскивая камни, чтобы прикрыть могилу; нехорошо, если ночью ее разроют собаки.
– Значит, так? Даже «пока» мне не скажешь? Я-то думал, мы друзья.
– Но мы же больше никогда-никогда не увидимся!
Повисла пауза, показавшаяся мне окончательной и бесповоротной. Когда я набрал полные пригоршни камней, Лукас сказал:
– Я там в комнате оранжевую майку оставил.
Я решил, что это уже верх наглости. И не швырнул в него камнями только потому, что они мне требовались для другого дела.
– Сам за ней иди!
Начался дождь, но я этого не заметил. Не поднимаясь с колен, я втыкал в землю камни по спирали: начал с центра могилы и выкладывал виток за витком, все шире и шире, как вдруг обнаружил: рядом стоит мама.
– Почему ты не хочешь попрощаться с Лукасом?
– Не хочу, и все.
– Потом пожалеешь.
– А ты откуда знаешь?
– Я знаю. Поверь: я-то знаю.
– Ты что, не видишь, я занят?
Вдруг мама тоже опустилась на колени, прямо в грязь. Положила мне руки на плечи и повернула к себе лицом.
– Смотри мне в глаза. Смотри внимательно! – сказала она, удерживая мою голову, как я ни уворачивался. – Нельзя так отгораживаться от всего. Я знаю, страдать тяжело, никто страдать не любит. Все мы хотели бы иметь броню, которая защищала бы нас от боли. Но когда строишь вокруг себя стены, чтобы защититься от внешних сил, потом оказывается – ты сам себя заточил в тюрьму. Не отгораживайся, сынок. Лучше мучиться, чем стать бесчувственным чурбаном. Если ты прячешься в броню, то упускаешь все самое лучшее в жизни! Обещай мне кое-что. Обещай мне, что ничего не упустишь. Что не проглядишь ни одной радости. Ни одной. Обещаешь?
Я оскорбленно отвернулся. Мне осточертели все эти некорректные вопросы, жабы-самоубийцы и невразумительные материнские нотации, которые, как я обнаружил, не отменяются даже в случае дождя. Но если я думал, что мама так легко сдастся, то ошибался. Для этой женщины, промокшей до костей, материнство было равносильно упорству.
– Знаешь, когда мне было хуже всего? (На ответ она не рассчитывала и потому продолжала без пауз.) Такая боль, что легче умереть, клянусь. Как я мучилась! Но эту боль я сама выбрала, сознательно. У меня было два пути: исполнить свое желание и заплатить за него страданиями или не страдать, но ничего и не получить. И я выбрала правильно. Я испытала самую жуткую на свете боль, но обрела самое большое счастье. И ни на что это счастье не променяю. Знаешь, когда это было? Знаешь, о чем я говорю?
Я не хотел отвечать, но меня заинтриговала эта явно неизвестная мне семейная легенда. Что за история? Что такое стряслось с мамой, какая еще жуткая боль? Может, у нее есть шрам, которого я не заметил?
– Я о тебе говорю, дурачок. О том, как я тебя рожала.
Вернувшись в комнату, я понял, что мне хотел сказать Лукас. Я-то думал, у него хватило наглости послать меня за майкой… Но нет. Лукас знал, как мне нравится огненно-оранжевая футболка, пестрый мотоцикл, губчатая поверхность рисунка. И потому он оставил ее на моей постели: чисто выстиранную, аккуратно разложенную, во всем ее великолепии. Он мне ее подарил.
Я выбежал на улицу, но «ситроен» давно уже отъехал.
75. Я дебютирую в качестве эскейписта
Поездка по железной дороге располагает к мечтам. Наверно, дело в тряске, в ритмичном постукивании колес, в заунывной скороговорке бродячих торговцев – все это монотонно, все повторяется вновь и вновь и звучит как колыбельная постиндустриального мира. А может быть, это как-то связано с тем, что ты пассивен, знаешь – поезд довезет. Купив билет, вверяешь себя технике и – не важно, сидишь ты или, наоборот, стоишь на одной ноге в переполненном вагоне, – сам не замечаешь, как, замечтавшись, уносишься мыслями далеко-далеко. Или все проще, и грезы – логическое следствие самого устройства поезда, неотъемлемая часть понятия «железная дорога». В конце концов, поезд – это тонны металла и еще бог весть чего, несущиеся с бешеной скоростью по рельсам; такое разве что во сне привидится. Мне нравится, когда поезд едет по высокой насыпи: оттуда видны крыши домов. Люди относятся к крышам так, словно их не существует. Складывают на них то, о чем хотят забыть: ржавые трехколесные велосипеды, брезентовые надувные бассейны, пустые клетки, банки из-под масляной краски, излишки кафеля, оставшиеся после ремонта, лепные украшения, которые так и не собрались никуда приделать. А еще на крышах прячут то, за что не хотят нести ответственность: там сушатся лифчики исполинских размеров, торчат незаконные телеантенны, выплевывают иссиня-черный дым трубы. Знаю-знаю: считается, что смотреть на это мне не положено, все это свалили на крыше именно для того, чтобы убрать с глаз долой; но я люблю разглядывать то, на что люди не смотрят, и внимать историям, которые рассказывают эти вещи; и вообще, я тут ни при чем, это все поезд.
Я впервые в жизни еду по железной дороге. Еду в Буэнос-Айрес. Сел в электричку на той же станции, куда несколько часов назад отправился Лукас. Я сознаю, что повторяю каждый его шаг: беру билет, дожидаюсь поезда, выбираю вагон, – и это создает у меня ощущение, что он совсем рядом. Но скоро оно улетучивается. Слишком много народу, и все старательно игнорируют друг друга. Сиденья грязные, ободранные. Самое ужасное, что на глаза мне попадается человек, который меня чем-то пугает. Он держит перед собой газету, подозрительно отставив вытянутый мизинец. На ближайшей станции я перехожу в другой вагон, но мне все равно не по себе. Народу все прибавляется. Я задыхаюсь в море локтей и подмышек. Еле-еле удается высунуть голову, и я чуть не падаю на сидящую женщину, которая спит с открытым ртом. В окне город словно бы убегает от поезда со всех ног.
В ночь после отъезда Лукаса я решил: пора применить эскейпизм на практике. План давно уже зрел в моей голове. Теперь мне предстояло осуществить его со всей решимостью и самообладанием, не оглядываясь назад. Не оглядываться – главное для эскейписта: когда все замки защелкнулись, крышка сундука захлопнута и на тебя давят тонны воды, уже не до колебаний. То, что позади, уже не существует. То, что рядом, эфемерно. Остается только то, что впереди. Побег – единственный выход.
Гном согласился мне помочь, хотя и опасался, что мама не поймет тонких различий между помощником и сообщником. Пришлось опуститься до подкупа. Я пообещал Гному мои комиксы о Супермене – собственно, Гном и так уже их попортил, пририсовав всем персонажам, которых считал хорошими, нимбы. (Лексу Лютору нимба не полагалось.) Как обычно, мы вместе вышли из дома и дотопали до школы. Я проводил Гнома до ворот, боясь, что он заблудится; сунул ему два выпуска – задаток, остальные потом, если он выполнит уговор и будет держать язык за зубами, – и остался на улице, дожидаясь, пока он войдет внутрь.
Но кое-чего я не учел: из-за чугунной ограды за мной молча наблюдал Денуччи, мой сосед по парте. Наверно, его насторожило, что мы с Гномом не вошли в ворота вместе. В течение секунды, растянувшейся на целую вечность, мы оба не знали, что делать. Я увидел, что Денуччи покосился в сторону отца Руиса: тот, как всегда, стоял на нижней площадке лестницы, приветствуя учеников. Если бы Денуччи подозвал директора, мой побег закончился бы неудачей, не успев начаться.
Но Денуччи просто стоял и смотрел на меня из-за железных прутьев. Такое же лицо у него становилось, когда он на перемене предлагал мне поиграть в солдатиков, а я отказывался. Я осторожно попятился. Денуччи не шевелился. Я продолжал отступать задом наперед, точно краб. Денуччи не реагировал. Отдалившись на несколько десятков метров, я помахал ему рукой – молча попрощался. Он еле заметно кивнул: тоже боялся привлечь внимание отца Руиса.
Бертуччо всегда ходил обедать домой. Я намеревался перехватить его на выходе из школы, не сомневаясь, что он позовет меня обедать. А если судьба будет ко мне благосклонна, на обед подадут миланесы.
Электричкой и автобусом я доберусь до Флореса часов в десять. Придется убивать время до полудня. Эта перспектива меня не смущала. Можно посмотреть, какие фильмы идут в «Пуэйредоне» и в «Сан-Мартине». Зайти в книжный магазин Тонини – нет ли новой версии «Робин Гуда»? Или побродить по торговому центру «Бойака», поглазеть на витрины магазина авиамоделей – они всегда полны «зеро» и «спитфайров». Надо только снять халат, чтобы одежда не выдавала во мне прогульщика. (Я наивно думал, что мальчишка, шатающийся по улицам с портфелем, выглядит не так подозрительно, как мальчишка с портфелем и в школьном халатике.)
К моему изумлению, в округе ничего не изменилось. Сам не знаю, что я ожидал увидеть. Наверно, какие-то признаки того, что без меня здесь все пошло наперекосяк: вывески поблекли, журнальные киоски закрыты в знак траура (а что, они ведь лишились своего верного клиента), по фасаду церкви Сан-Хосе поползла трещина… ну хоть какие-то симптомы! Но все выглядело по-прежнему: те же краски, те же киоски с теми же киоскерами. Та же самая унылая церковь.
И людей тоже, казалось, ничего не коснулось. Они сновали по Ривадавии, заходили в магазины, банки, торговые центры, ждали автобусов, пересекали проспект. Вид у них был нервозный, озабоченный, двигались они рысцой, точно торопясь успеть куда-то к назначенному сроку. В конце концов их деловитость меня насторожила. Чувство, что все идет по-прежнему, улетучилось, сменившись подозрениями: слишком уж все похоже на старые времена, словно я забрел на театральные подмостки и вижу перед собой не Флорес, а декорации, изображающие Флорес таким, каким я его знал раньше. Инсценировка вместо реальности, достоверная, но невсамделишная. В ролях людей, которых я знаю в лицо – самых обыкновенных киоскеров, пенсионеров, банковских кассирш, – выступают очень похожие на них актеры (наверно, проводя кастинг, режиссер пользовался архивными фотографиями и кинохроникой). Тем не менее актеры есть актеры. Они скованы напряжением первых репетиций и пока не вжились в образ – еще не держат в голове каждую реплику, каждый предписанный сценарием шаг… Именно это и привлекло мое внимание: они переигрывают, даже самые непроизвольные жесты чересчур выразительны: как старик достает бумажник, как мужчина останавливает маршрутку; девочки смеются – вымученно, натужно; либо я случайно забрел на съемочную площадку, либо они ломают комедию ради единственного зрителя – меня. В любом случае мне это совсем не нравится.
Я чуть было не пропустил Бертуччо.
Когда он вышел из школы, я не подскочил к нему, а пошел параллельным курсом, по противоположному тротуару. Бертуччо тоже кажется прежним. Все тот же халат, тот же портфель. Шагая, он что-то напевает – что именно, мне не слышно. Вообще-то я хотел спрятаться за дерево и неожиданно преградить Бертуччо дорогу (театрализованное появление в его стиле), но боялся его проглядеть – вдруг я его не увижу из-за укрытия и он уйдет? Пока я колебался, Бертуччо вышел и пошел себе, напевая под нос, и мне оставалось лишь торопливо следовать за ним по другой стороне улицы Йербаль, гадая, скоро ли удастся перебежать по мостовой – машин было много – и что я скажу ему. «Привет» – это что-то дебильное, исчезнуть черт знает на сколько, а потом сказать «привет»… нет, надо выдумать что-нибудь получше. Дом за домом, квартал за кварталом… а я все наблюдаю за ним и не могу решиться, примечаю каждый его шаг, каждую гримаску, спрашиваю себя, естественно он держится или чуть наигранно, настоящий ли это Бертуччо или актер, получивший его роль; не успеваю опомниться, а мы уже подходим к его дому; тут идти всего-то два с половиной квартала, рядышком.
Бертуччо нажимает на кнопку. Внутри пищит – хоть мне его и не слышно – сигнал домофона. Бертуччо входит в подъезд.
Я остаюсь у дома напротив, точно рыба на мели, тяжело дышу – я не выдержал темп. Хотя я остановился, мое сердце продолжает ехать на поезде, и три «л» в «л-л-луп-дуп» сливаются в одну. Я ругаю себя последними словами, гадаю, что делать, вспоминаю то, о чем я велел себе не забывать, – «не оглядываться назад, колебания смерти подобны, есть только то, что впереди, – побег и свобода».
Я снова надеваю халат. Перехожу улицу и прячусь между двумя припаркованными машинами. Позвонить по домофону мне даже в голову не приходит; моя интуиция, мое врожденное чувство времени уже включилось, но лишь через несколько минут я пойму, как хорошо они у меня развиты. Я жду, пока кто-нибудь войдет в подъезд или, наоборот, выйдет. Вскоре дверь распахивается, появляется женщина с пышно завитыми волосами; состроив рожу отличника, я вхожу с таким видом, словно всю жизнь здесь живу, женщина меня пропускает, я здороваюсь, и она откликается – «какой вежливый мальчик».
Звоню в квартиру Бертуччо. Открывает его мама. Я улыбаюсь ей – лучезарнее не бывает; мое «здравствуйте, сеньора» звучит как-то чересчур уверенно, наигранно, словно я – не я, а актер, играющий мою роль, и, уже занося ногу над порогом, я для порядка спрашиваю: «А Бертуччо дома?», и она говорит, что его нет – он обедает у тети, и меня пробирает озноб, словно Гудини, когда он погружался по самую шею в ванну со льдом. «Как же так? – думаю я. – Я ведь видел, как он вошел. Не мог же он пройти мимо своей двери?» В голове у меня проносятся всякие абсурдные предположения, вроде тех фантазий, которые обуревают людей в поезде: сосед-маньяк подкараулил Бертуччо в подъезде и уволок в свою квартиру или Бертуччо решил увильнуть от обеда и незаметно проскользнул с бутербродом на балкон, потому что на крышах всегда полно интересной рухляди, крыши много чего рассказывают… И тут меня осеняет.
– Жалко, – говорю я. – Мне так хотелось с ним повидаться. Скажите ему, что я заходил.
К счастью, женщина, которая спала с открытым ртом, сошла раньше меня. Мне удалось присесть хотя бы на две остановки. Смотреть в окно было уже особо не на что: город сбежал, а крыши домов презрительно смотрели на меня сверху, не раскрывая своих тайн. Я знал, что через несколько минут все уладится, что родители меня немножко поругают, поскольку я выкинул запрещенный и даже опасный фортель, но Гном наверняка давно во всем признался, и они решили ждать моего возвращения, зная, что дорогу я помню и умею переходить улицу… и вообще они знают: я непременно вернусь. Может, даже орать не станут, когда увидят, что я плачу, а я предчувствовал, что расплачусь, у меня уже заработала интуиция, мое врожденное чувство времени – по сути, это одно и то же; плачу я редко, но уж если заплачу, папа с мамой размякают, как желе. Когда я понял, что расплачусь, то успокоился, через несколько минут все уладится, и я отвлекся на дядьку, который играл на аккордеоне и продавал лотерейные билеты, он был слепой, я задумался, как устраиваются слепые, чтобы им не подсовывали фальшивые деньги, слепым не нужны крыши, чтобы сваливать там лишнее, поскольку они и так ничего не видят… Что только не приходит в голову в поезде!








