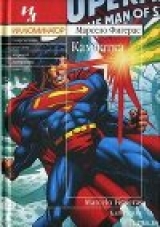
Текст книги "Камчатка"
Автор книги: Марсело Фигерас
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Марсело Фигерас
Камчатка
«На картах этот остров не отмечен – все истинное никогда не попадает на карты».
Герман Мелвилл, «Моби Дик»
Первый урок: биология
ж. Наука о живой природе
1. Прощальное слово
Последнее, что мне сказал папа, последним словом, которое я от него услышал, было слово «Камчатка».
Он поцеловал меня, оцарапав двухдневной щетиной, и сел в «ситроен». Машина покатила по извилистой ленте шоссе, то ныряя в ложбины, то вновь всплывая зеленым пузырем на гребнях холмов; и все съеживалась и съеживалась, пока ее вообще не стало видно. Я стоял как вкопанный, крепко зажав под мышкой коробку со «Стратегией», пока дедушка не положил мне руку на плечо и не сказал: «Пора домой».
На том все и кончилось.
Если надо, я расскажу подробнее. Дедушка любил повторять, что Бог – он в деталях. Он еще много чего любил повторять: например, что Пьяццолла – это не танго и что нельзя справлять нужду, прежде не вымыв рук: мало ли за что ты брался? Впрочем, это уже к делу не относится.
Распрощались мы на бензоколонке на Третьем шоссе в нескольких километрах от Доррего – это на юге провинции Буэнос-Айрес. Заодно и позавтракали там в кафе втроем – папа, дедушка и я. Взяли кофе с молоком и сдобные рогалики – их подавали в огромных, величиной с кастрюлю, керамических мисках с эмблемой «YPF».[2]2
Аргентинская нефтяная компания «Yactmientos Petroliferos Fiscales».
[Закрыть] Мама тоже зашла с нами в кафе, но весь завтрак просидела в туалете: что-то у нее случилось с желудком, ничего в организме не держалось, даже жидкость. Ну, а Гном, мой младший брат, дрых, широко раскинувшись, на заднем сиденье «ситроена». Во сне он все время дергался, точно заводная игрушка, сучил ногами и растопыривал руки – будто пытался захватить всю вселенную, стать королем бесконечного пространства.
Мне десять лет. Внешность у меня самая обыкновенная – мальчишка, каких миллионы. Особая примета, пожалуй, одна – непослушные волосы. Что с ними ни делай, все равно стоят торчком надо лбом, и потому кажется, что на плечах у меня не голова, а восклицательный знак.
Весна. В Южном полушарии октябрь – месяц золотого солнца, и это утро – не исключение: мир вокруг величествен, как дворец. В воздухе роятся летучие семена, которые у нас в Аргентине называют булочниками. Сложив ладони чашечкой, я ловлю эти драгоценные дневные звезды и тут же, дунув, отпускаю на волю с напутствием: «Ищите себе подходящее местечко».
(Фраза: «В воздухе роятся булочники» – привела бы Гнома в восторг. Он с диким хохотом повалился бы на землю, хватаясь за живот, – это ж надо, человечки в белых фартуках и обсыпанных мукой колпаках парят над землей, как мыльные пузыри.)
В моей памяти запечатлелись даже все те, кто находился в эти минуты на бензоколонке. Заправщик – усатый толстяк с темными от пота подмышками. Водитель «ики» – он как раз шел к туалету, на ходу пересчитывая огромные, с простыню, купюры. (Вношу поправку: дедушкин совет насчет мытья рук перед отправлением естественных надобностей тут все-таки уместен.) И автостопщик, который решил срезать угол через площадку заправки, торопясь навстречу дорожным приключениям. Бородатый, как библейский пророк; в его рюкзаке, точно зовущий к покаянию колокол, бренчат жестяные кружки.
Девчонка бросает скакалку и бежит к колонке – намочить голову под струей. И тут же возвращается, отжимая волосы; кап-кап – падает на пыльную землю вода. Только что капли были полновесными, сверкали на земле, похожие на надпись азбукой Морзе, – и вот их уже нет: распадаются на все более мелкие капельки. Повинуясь силе гравитации, они просачиваются вглубь между минеральными и органическими частицами почвы, находя себе лазейку там, где вроде и не протиснешься; оставляют кусочки своих душ, оживляя все попавшиеся по дороге комочки почвы, а сами постепенно умирают – жизнь утекает из них с каждой молекулой; и все-таки движутся дальше, пробираются к пылающему сердцу планеты, этому пламени, где Земля еще напоминает саму себя в период формирования. (В глубине души всегда остаешься таким, как раньше.)
Девочка грациозно кланяется – неужели мне? Нет, просто нагнулась за скакалкой. Снова начинает прыгать. Размеренно, как часы. С-с-с-с, с-с – свистит скакалка, рассекая воздух, очерчивая границы пузыря, внутри которого находится девочка.
Папа распахивает дверь бара и пропускает меня первым. Внутри нас ждет дедушка. Помешивает ложкой кофе с молоком. В его чашке бурлит настоящий водоворот.
Иногда воспоминание меняется. Иногда мама вылезает из «ситроена» лишь тогда, когда мы возвращаемся из бара, – пока мы завтракаем, сидит и что-то неразборчиво пишет на пачке своих любимых сигарет «Жокей-клуб». Иногда счетчик на бензоколонке работает наоборот – числа, выскакивающие на табло, не увеличиваются, а все уменьшаются и уменьшаются. Иногда автостопщик нас обгоняет: когда мы подъезжаем к бензоколонке, он уже голосует на обочине, словно ему невтерпеж открыть для себя еще не виданный мир и возвестить колокольным звоном жестяных кружек о спасении. Все эти расхождения меня не смущают: обычное дело. Просто я вижу то, чего не видел раньше; следовательно, я уже не совсем тот человек, который вспоминал эту сцену в прошлый раз.
Бесспорно, время – странная штука. Но мне часто кажется, – а это уже не бесспорно и еще более странно, – что все времена одновременны. Если кто-то хвастливо говорит, что живет сегодняшним днем, мне становится его слегка жалко, как человека, который входит в кинозал после начала фильма или пьет диетическую кока-колу – они лишают себя самого лучшего. По-моему, время – точно ручка настройки в радиоприемнике. Большинство людей раз и навсегда настраиваются на какую-то одну радиостанцию и только подкручивают ручку, чтобы передачи звучали чисто-чисто, без помех. Но кто сказал, что нельзя слушать две или больше станций сразу, то и дело переключаясь? Неужели идея о синхронности разных временных пластов так уж фантастична? Еще совсем недавно никто бы не поверил, что между двумя атомами может уместиться целая вселенная – но ведь умещается, и запросто. Так стоит ли смеяться над гипотезой, что по радиоприемнику времени можно в один и тот же момент слушать всю историю человечества?
Кое до чего мы доходим интуитивно, опираясь на опыт повседневной жизни. Доказать не можешь, но чувствуешь: внутри тебя сосуществуют все, кем ты был (и даже кем еще будешь?); сохраняя главные черты невинного и эгоистичного ребенка, не перестаешь быть пылким, безотчетно-великодушным юнцом; а параллельно ты – и тот стоящий обеими ногами на земле, но не забывший свою мечту взрослый мужчина, и, наконец, ты – старик, для которого золото – просто металл, старик, утративший зрение и обретший прозорливость. Когда я предаюсь воспоминаниям, мой голос иногда звучит так, словно мне снова десять, а иногда – с высоты семидесяти лет, до которых мне еще жить и жить; бывает, что он звучит и так, как должен звучать в моем теперешнем возрасте… или в том возрасте, на который я себя чувствую. Те, кем я был, есмь и буду, непрерывно беседуют между собой и стараются друг друга переделать. Идея, что мое прошлое и настоящее сообща предопределяют мое будущее, весьма банальна. Но – я это нутром чувствую – мое будущее и настоящее, в свою очередь, сообща властны менять мое прошлое. Когда я начинаю вспоминать, тот, давнишний «я» подает реплики и жестикулирует все достовернее и достовернее, точно с каждым разом все глубже и лучше понимает своего персонажа.
Числа, мелькающие на счетчике бензоколонки, все уменьшаются и уменьшаются. Я не могу их остановить.
Дедушка снова забирается в кабину пикапа – ставит ногу на подножку, напевая свое любимое танго: «Признайся, чем меня ты опоила, я сам себя не узнаю, я стал совсем другой».
Папа наклоняется к моему уху и шепчет прощальное слово. Совсем как тогда, я чувствую тепло его щеки. Его губы целуют меня, щетина царапает.
Камчатка.
Нет, «Камчатка» – это не мое имя, но я знаю: произнося это слово, папа думает обо мне.
2. Аll things remote[3]3
Все отдаленное, экзотическое (англ.).
[Закрыть]
Слово «Камчатка» звучит странно. Мои испанские друзья вообще не могут его выговорить. Стоит мне произнести «Камчатка», как я ловлю на себе их снисходительные взгляды. На меня начинают смотреть как на доброго дикаря. Глядят на меня, а видят татуированного каннибала из романа Мелвилла – того самого Квикега, который поклонялся горбатому идолу. Интересно, как изложил бы Квикег события «Моби Дика». Но историю пишут уцелевшие.
Сколько себя помню, я всегда знал, что такое Камчатка. Вначале это была просто одна из стран, которые надлежало завоевать в моей любимой настольной игре «Стратегия» – полностью она называется «Стратегии и тактики войны». Эпический размах игры придавал особую звучность всем географическим названиям, но я был уверен: слово «Камчатка» звучит особенно гордо. То ли мне мерещится, то ли в звукосочетании «Камчатка» действительно звенит сталь клинков, скрестившихся в поединке?
Я вроде Измаила из «Моби Дика». Меня тоже снедает жажда дальних странствий. Чем длиннее расстояние, тем масштабнее кажутся мне приключения; чем выше карабкаться до вершины, тем больше требуется отваги. На игровом поле «Стратегии» моя родина, Аргентина, расположена в левом нижнем углу. А Камчатка, наоборот, – в правом верхнем, чуть ниже рисунка, изображающего розу ветров. В двумерной вселенной этой игры Камчатка была самой дальней из дальних стран.
Когда мы садились играть, никто не спорил за право обладания Камчаткой. Националистов интересовала Южная Америка, честолюбцев – Северная; эстеты грезили о Европе, а прагматики ставили на Африку и Океанию, которые было легко завоевать и еще легче оборонять. Камчатка же находилась в Азии – на чересчур громадном, а следовательно, трудноконтролируемом континенте. Вдобавок Камчатка и страной-то настоящей не была: она имела суверенитет лишь в фантастическом мире «Стратегии», а кому нужны государства, которые существуют только понарошку?
Камчатка оставалась за мной – я всегда сочувствовал униженным. «Камчатка» звучало как барабаны варварского, затерянного в непроходимых лесах королевства, призывавшие меня: «Приди и стань нашим королем!»
Тогда я ничего не знал о реальной Камчатке – этом обледеневшем языке, который Россия, дразня заморских соседей, показывает Тихому океану. Не знал, что там вечные снега и около сотни вулканов. Слыхом не слыхивал ни о Мутновском леднике, ни о кислотных озерах. Ни о камчатских диких медведях, ни о дымящих фумаролах, ни о газовых пузырях, надувающихся, как жабы, на поверхности горячих источников. С меня было довольно, что Камчатка имела форму ятагана и была недоступна.
Вот бы папа подивился, узнав, как похожа реальная Камчатка на мои грезы. Обледеневший полуостров, где, однако, наблюдается самая бурная на Земле вулканическая активность. На горизонте подпирают небо почти неприступные горные вершины, окутанные серными парами. Камчатка – царство крайностей и парадоксов, образец внутренней противоречивости.
3. Я остаюсь без дядьев
Огромное расстояние на игровом поле «Стратегии» между Аргентиной и Камчаткой – только иллюзия. Если сделать плоскую карту объемной, натянув ее на шар глобуса, то путь, казавшийся непреодолимым, окажется совсем коротким. Чтобы добраться отсюда туда, уже не придется пересекать весь известный человечеству мир. Америка и Камчатка настолько далеки друг от друга, что почти соприкасаются.
Точно так же прощание на бензоколонке и начало моей истории – как две крайних точки прямой линии, замкнувшейся в кольцо: в первом можно увидеть второе, и наоборот. Уже не разобрать, где октябрьское солнце, а где апрельское. Два утра накладываются друг на друга. Легко забыть, что одно солнце предвещает летнее тепло, а другое – разлуку с ним.
В Южном полушарии апрель – месяц крайностей. Начинается осень и вместе с ней – холода. Но дожди надолго не затягиваются – вскоре опять проглядывает солнце. Дни еще длинны. Часто они кажутся украденными у лета. Вентиляторы продолжают крутиться, а люди стараются удрать на выходные к океану – накупаться напоследок перед зимой.
По внешним приметам этот апрель 1976 года ничем не отличался от всех других апрелей. Начались занятия в школе. Я перешел в шестой класс и тщетно пытался разобраться в списке учебников, которые полагалось приобрести, и запутанном расписании. А пока таскал в портфеле больше учебных принадлежностей, чем требовалось, и досадовал, что наша учительница, сеньорита Барбеито, усадила меня прямо у себя под носом – за первую парту.
Но кое-что переменилось. Например, произошел военный переворот. Хотя папа и мама почти не говорили на эту тему (насколько мне помнится, они испытывали скорее растерянность, чем уныние или гнев), было ясно: дело серьезное. Во всяком случае, мои дядья испарились, как по волшебству.
Вплоть до 1975 года наш дом в буэнос-айресском районе Флорес был полон народу. Гости приходили и уходили в любое время дня и ночи, галдели, хохотали, ударяли по столу кулаками, чтобы привлечь внимание к своим речам, пили мате и пиво, пели, бренчали на гитарах, задирали ноги на спинки кресел – в общем, вели себя так, словно жили у нас испокон веков. А ведь большинство этих людей мы с братом видели впервые и потом никогда больше не встречали. Когда гости входили в прихожую, папа всегда представлял их нам. Дядя Эдуарде Дядя Альфредо. Тетя Тереса. Дядя Марио. Дядя Даниэль. Имена у нас в памяти не держались, но мы прекрасно обходились и без них. Выждав немножко, Гном шел в столовую и ангельским голоском спрашивал: «Дядя, ты мне нальешь кока-колы?» – и человек пять вскакивало, чтобы его ублажить, и Гном возвращался к нам в комнату с полными до краев стаканами как раз к началу сериала «Святой».[4]4
«Святой» – английский телесериал 60-х годов. Его герой – благородный «вор в белых перчатках» Саймон (в испанском варианте – Симон) Темплар.
[Закрыть]
На исходе семьдесят пятого года ряды наших дядьев поредели. С каждым разом народу собиралось меньше. Разговаривали теперь вполголоса, а песни и смех и вовсе прекратились. Папа перестал знакомить нас с гостями.
Однажды он сказал мне: «Дядя Родольфо умер. Я хочу, чтобы ты вместе со мной пошел с ним попрощаться, хорошо?» Я не знал, кто такой дядя Родольфо, но согласился: мне польстило, что папа позвал только меня, а Гнома не взял. Признал мое право первородства.
Это было первое бдение над покойником в моей жизни. Три или четыре комнаты, в глубине последней лежит в ящике дядя Родольфо; уйма людей, и все сердятся, машут руками, пьют очень сладкий кофе и дымят сигаретами, как паровозы. При виде всего этого у меня отлегло от сердца: я-то думал, что на похоронах все распускают нюни, а плакс я не выношу. Помню, ко мне подошел дядя Раймундо (не из числа прежних дядьев – папа меня прямо там с ним познакомил), стал расспрашивать о школе, о том, где я живу, а я, не задумываясь, наврал ему с три короба, сам не зная зачем. Сказал, что живу недалеко от Боки.[5]5
Бока – портовый район Буэнос-Айреса.
[Закрыть]
От нечего делать я заглянул в ящик и обнаружил, что знаю дядю Родольфо. Щеки у него впали, усы немножко отросли – или только казались длиннее оттого, что после смерти лицо осунулось, чинно застыло… А может быть, чинный вид ему придавал костюм, рубашка с широким воротником… В любом случае это, несомненно, был дядя Родольфо. Один из немногих, кто посетил наш дом два или три раза и постарался расположить нас с Гномом к себе. В последний визит он подарил мне футболку «Ривер-Плейта».[6]6
«Ривер-Плейт» – известный аргентинский футбольный клуб.
[Закрыть] Когда мы с папой вернулись, я заглянул в шкаф: верно, вот она, на дне второго ящика слева.
К футболке я даже не прикоснулся. Задвинул ящик и постарался напрочь о ней забыть – до той ночи, когда мне приснилось, что футболка выскальзывает из шкафа, ползет к моей кровати, как змея, и, обвернувшись вокруг моей шеи, душит. Это снилось мне несколько раз. Каждый раз, просыпаясь, я чувствовал себя дураком. С чего вдруг футболке «Ривера» меня душить, если я за «Ривер» болею?
Были и другие знамения, предвещавшие беду, но это – самое зловещее. Ужас поселился прямо у меня дома, в ящике шкафа, улегся между гольфами и носками, аккуратно сложенный, пахнущий свежим бельем.
Я даже не спросил папу, от чего умер дядя Родольфо. Все и так было ясно: в тридцать лет от старости не умирают.
4. Тревога патриарха
Наша школа носила имя Леандро Н. Алема.[7]7
Леандро Нисефоро Алем (1844–1896) – аргентинский политик леворадикального толка.
[Закрыть] Этот сеньор укоризненно глядел на нас с потемневшего холста всякий раз, когда мы входили в кабинет директора, чтобы выслушать себе приговор. Располагалась школа в здании, выстроенном сто лет назад на перекрестке улиц Йербаль и Фрай-Каэтано, под боком у площади Флорес, в сердце одного из старейших районов Буэнос-Айреса. Два этажа, внутренний двор со стеклянной крышей. Истертые ступени мраморной лестницы наглядно демонстрировали, сколько поколений начало здесь свое восхождение к Знанию.
Школа была муниципальная – то есть ее двери были гостеприимно распахнуты для всех желающих. Любой, кто вносил чисто номинальную ежемесячную плату, мог занять место в классе (учились, кстати, в две смены), получать завтрак и заниматься в спортивных секциях. За эту почти символическую плату мы знакомились с устройством нашего родного языка и с устройством языка Вселенной – я имею в виду математику; узнавали, в какой точке земного шара мы проживаем и что увидим, если отправимся на юг или север, запад или восток; что там пульсирует у нас под ногами, в огненном центре Земли, и что простирается над головами; а еще перед нашими неискушенными взорами разворачивалась вся панорама истории человеческого рода, венцом которого на тот момент (не знаю уж, к счастью или к несчастью для планеты) было наше поколение.
В этих классных комнатах с высокими потолками и скрипучими полами я впервые услышал прозу Кортасара (учительница читала нам вслух) и впервые взял в руки «Революционный план операций» Мариано Морено.[8]8
Мариано Морено (1778–1811) – аргентинский политик, юрист, активный участник Майской революции 1810 года, положившей конец испанскому колониальному владычеству.
[Закрыть] В этих классах я открыл для себя, что человеческий организм – идеальная фабрика; однажды здесь у меня сладко екнуло сердце, когда я нашел изящное решение математической задачи.
Наш класс так и просился на плакат, пропагандирующий дружбу между народами. Бройтман был еврей. Темнокожий Талавера – внук африканцев. Чинен – китаец. У Вальдеррея сохранился испанский акцент его предков. И даже те, в чьих жилах, как у меня, текла более заурядная смесь испанских, итальянских и креольских кровей, заметно разнились между собой. Среди нас были дети из интеллигентных семей вроде моей и сыновья чернорабочих. Одни семьи – например, моя – имели собственные дома. Другие квартировали у родителей или снимали жилье. Одни ученики, как я. изучали иностранные языки и посещали спортивные секции, другие помогали родителям в мастерских по ремонту радиоаппаратуры и гоняли резиновый мяч на пустыре.
Но в стенах школы эти различия полностью стирались. Многие из моих закадычных друзей (к примеру, Гиди, уже тогда прекрасно разбиравшийся в электронике, или Мансилья – он был еще чернее Талаверы, а проживал в Рамос-Мехии – то есть, в моем восприятии, у черта на куличках, еще дальше Камчатки) жили совсем не так, как я и мои близкие. И однако, все мы отлично ладили.
Утром мы ходили в белых форменных халатах, а после обеда переодевались в серые, на переменах пили мате и, расталкивая друг друга, бросались к привратнику, который приносил на небесно-голубом пластмассовом подносе наши любимые булочки. Нас роднила школьная форма, а также свойственные нашему возрасту любопытство и энергичность, отодвигавшие все различия на задний план.
Уравнивало нас и то, что никто ничего не знал о почтенном Леандро Н. Алеме, в чью честь называлась школа. Лицом этот патриарх был похож на Мелвилла: борода, хмуро сдвинутые брови… Наверно, ему надоело торчать на плоском холсте в директорском кабинете, и он многозначительно указывал рукой на что-то за пределами рамы. Проще всего было бы предположить, что Алем указывает в будущее или на путь, который нам следует избрать. Но встревоженное выражение, которое придал его чертам живописец, заставляло предположить, что Алем хочет сказать: «Не туда глядите», – намекает, что смотреть надо не на него, а на того, кто грядет за ним. За всем этим стояла какая-то тайна, о которой картина умалчивала. А значит, в ней было что-то зловещее.
За все то время, пока я посещал эту школу, никто из учителей не заговаривал с нами о Леандро Алеме. Спустя много лет, уже на Камчатке, я узнал, что Алем выступал против консервативного режима в защиту всеобщего избирательного права, что он участвовал в вооруженном восстании и был за это брошен в тюрьму, но в конце концов стал свидетелем торжества своих идей. Возможно, нам не рассказывали об Алеме, чтобы умолчать о печальной правде: он покончил с собой. Самоубийство победителя бросает тень на его дело: что, если бы апостол Петр в Риме времен Нерона перерезал себе вены или Эйнштейн отравился бы, уже добравшись из нацистской Германии в Америку?
В общем, я не настолько наивен, чтобы считать случайным название школы, привечавшей меня целых шесть лет – вплоть до того утра, когда я покинул класс посреди урока и больше туда не вернулся.








