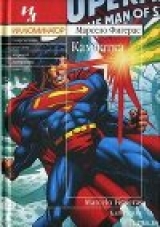
Текст книги "Камчатка"
Автор книги: Марсело Фигерас
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
76. Мы играем в «Стратегию», и мне почти везет
То был вечер исторической партии в «Стратегию».
После ужина мы с папой расчистили стол и начали сражение, Гарри Гудини против капитана Немо. Как всегда, играли до полного уничтожения противника. Но на этот раз события отклонились от обычного сценария: я начал брать верх. Побеждал на всех фронтах. Громил врага наголову. Казалось, кубик у меня заколдованный – как ни кину, выпадают одни шестерки. Армия синих наступала по планете, небрежно склевывая арбузные семечки (папины черные фишки; кстати, кличка «семечки» страшно его бесила). Я молниеносно завоевал несколько континентов. И удержал их за собой, и начал при каждом броске кубика получать подкрепления. Потом мне подряд выпали два набора призовых карточек. В первом были три карточки с дирижаблями, во втором – дирижабль, пушка и линкор. Папа едва держал себя в руках. Он даже в крестики-нолики не любит проигрывать. Если бы мама не сидела рядом со мной и не следила за соблюдением правил, папа наверняка бы придумал повод признать партию недействительной «по техническим причинам».
Прошло часа два. Я владел сорока девятью государствами – сорока девятью! А папа – одним-единственным. Страной в Азии, в верхнем правом углу поля, между Японией и Аляской. Далекой, а следовательно, экзотической. Ее имя звенит, как сшибающиеся шпаги.
У папы была только Камчатка.
Здесь-то и сложили голову мои солдаты. Раз за разом папа отбивал все атаки. Мои меткие залпы отскакивали рикошетом от крепостных стен. Засев в своем крошечном бастионе, папины войска оказывали упорное сопротивление. Я безрассудно жертвовал батальонами. Остался без фишек – нечем уже было атаковать из Сибири и с Таймыра, из Китая и Японии, даже с Аляски. Пришлось прервать штурм, перегруппироваться. Мама делала папе знаки, словно в игре «Покажи профессию», – мол, ладно тебе, сдавайся. Не знаю, почему ей казалось, что я ничего не замечаю. Папа тоже отвечал ей, ничуть не таясь: пожимал плечами, поднимал бровь, разводил руками, – пытался объяснить, что не властен над фишками, не может повернуть судьбу ко мне лицом.
В следующем раунде, получив в свое распоряжение новые войска, я обложил Камчатку со всех сторон. Неравенство сил пророчило бойню. Но все повторилось по тому же сценарию, только еще более масштабному. Я потерял все армии, задействованные в игре. Неудача лишила меня дара речи. На мне точно лежало проклятие – каждая наша битва неизменно повторяла предыдущие, Давид против Голиафа, триста спартанцев против персов в Фермопильском ущелье.
Раунд следовал за раундом. Проклятие продолжало действовать. Часы били уже не подолгу – одиннадцать, двенадцать раз, – а еле звякали. Час ночи. Два часа ночи. Казалось, это зловещий гонг, предрекающий мое поражение.
– Ну, что? Хочешь, объясню? – спросил папа, украдкой зевнув.
Огрызнувшись, я продолжал играть.
Так мы сражались еще несколько часов: Камчатка против остального мира.
Я и не заметил, как мама ушла спать. Попозже я отлучился якобы в туалет и переоделся в оранжевую футболку, надеясь, что она послужит мне талисманом.
И напрасно.
Наверно, я так и заснул за столом, как последний дурак, предпочтя впасть в беспамятство, но не признать свое поражение. Спалось мне беспокойно – я опять ехал в электричке, борясь со сном; мне снилось, что я борюсь со сном, чтобы не проспать свою станцию, если засну – все пропало, если засну – все пропало…
А утром папа протрубил боевую тревогу.
77. Видение
Ночью прошел дождь; в тишине, лишь изредка нарушаемой грохотом поездов, отчетливо слышно, как с деревьев падают капли, дожидавшиеся утра, чтобы спрыгнуть на землю. Это единственный звук в окрестностях дома; в остальном же царит безмолвие. The rest is silence.[57]57
Дальше – тишина (англ.).
[Закрыть]
Под тяжестью воды опавшие листья расплющиваются, льнут друг к дружке, ища утешения. Благодаря их временной сплоченности жаба легко скользит по этой коричневой ковровой дорожке, словно специально проложенной в ее честь. Жаба чует: дом пуст, непривычно пуст для этого часа: по утрам здесь всегда кто-то есть, потому что работает радио, тихонько напевает женщина, хлопают двери. Чуть попозже женщина обычно – и в теплые дни, и в холодные – выходила наружу, садилась на скамейку, обращенную вглубь сада, и выкуривала сигарету; однажды она даже обратилась к жабе на непонятном языке. Но утро незаметно перетекает в день, а ни женщины, ни радио не слыхать, двери плотно закрыты, и ничего узнать нельзя.
Воодушевленная тишиной жаба сходит с роскошного ковра из листьев и отваживается перепрыгнуть площадку перед дверью, выложенную керамической плиткой. Плитка влажная, и это приятно, но все равно какая-то недобрая на ощупь; холодит, как лед, – сразу ясно, неживая и живой никогда не была; жесткая, вынуждающая к ней приспосабливаться, не то что опавшие листья, грязь или глина, которые сами проминаются под твоими лапками; есть нечто деспотическое в этой бездушной неподатливости, в упорном нежелании признать, что на свете существует что-то иное. Но жаба движется вперед – инстинкт подсказывает, что она ничем не рискует. В два прыжка добирается до поилки для кур, под которой серебрится паутина. Жаба рассчитывает узнать от паука, в чем дело: он ведь живет рядом с домом, прямо у стены, и должен был почуять что-то необычное, какой-нибудь шум, объясняющий нынешнюю тишину; а может, женщина и ему что-то сказала, если вдруг он понимает ее странный язык. Но паука тоже не видно. Паутина пуста, если не считать жемчужно сияющей водяной капельки.
Жаба знает, что исчерпала свои возможности. Внутрь ей не попасть – двери закрыты: и даже будь одна из них распахнута и порог радушно манил бы через него перескочить, она бы этого не сделала; ведь это не просто жаба, а совсем юная особь, выделяющаяся зеленой бриофитической окраской (это значит, что на спине у нее два пятнышка, имитирующие пару глаз), и ее инстинкты работают на полную катушку, призывают к благоразумию.
Если бы она могла войти, то обнаружила бы сумрачные комнаты, такие же бездушно-холодные, как керамическая плитка, но, возможно, приметила бы следы жизни, кипевшей здесь еще совсем недавно. Жаба понимает (так уж в нее природой заложено), что жизнь развивается циклически и что от завершенного цикла всегда остаются улики. Змеи сбрасывают кожу, кошки линяют, скаты-хвостоколы теряют зубы. Люди оставляют то, чем пользовались. Открытую банку «Несквика» и невымытые чашки на кухне, тюбик зубной пасты с незавернутым колпачком, незаправленные постели и серые простыни. Оставляют напольные часы, пепельницы с окурками, исчерканные журналы, взятые в школьной библиотеке книги, одежду в шкафах и продукты в холодильнике.
Что толку заходить в дом! Человечьи вещи говорят на собственном, непонятном жабам языке, да к тому же лишаются всякого смысла, когда хозяева с ними расстаются; из вещей уходит жизнь, они превращаются в невнятные иероглифы, словно тоже имеют свой срок годности, как и консервы в кладовке, открытая банка «Несквика» и еда в холодильнике; становятся непригодными, как затвердевшая зубная паста, или книги без читателей, или часы без руки, которая бы их заводила.
Поступив мудро (я же говорю, что жаба эта не простая; не зря у нее на спине глаза-пятнышки), земноводное разворачивается, с облегчением ощущая под лапками влажные листья. От соприкосновения с неживым у жабы пересохло во рту, ее бросает в жар, одолевает жажда. Листья освежают, но слишком мало, надо окунуться в воду, срочно окунуться: она чувствует, как скрипит при каждом прыжке кожа, и ей даже мерещится, что зеленая окраска, которой она так гордится, начинает тускнеть. Надо принять решение. Поилка для кур не годится, это все равно что вернуться в пустыню и искать там оазис. И вообще до поилки не допрыгнешь. Идеальный выход – ручеек, текущий на задворках дачи, но к такому дальнему путешествию жаба сейчас не готова. К счастью, неподалеку есть еще один водоем, до которого можно допрыгать за несколько секунд. Его влажное дыхание, распространяющееся по воздуху в виде малюсеньких частиц водяного пара, ласкает кожу.
78. Здания демонстрируют свою непрочность
Нас растолкали и потащили к дверям. Впопыхах мы взяли с собой только главное – а главным всегда оказывается самое любимое. Гном прижал к себе обоих Гуфи, мягкого и твердого, а я – «Стратегию» и книгу про Гудини. Сперва я думал, что родители вообще ничего не успели забрать (сигареты и лекарство от язвы в моих глазах не были сокровищами), но впоследствии осознал, что они импульсивно поступили точно так же. Мы похватали игрушки, а родители – нас.
В машине никто рта не открывал. Гном преспокойно заснул опять – не успели мы проехать несколько кварталов, как он уже дрых без задних ног. Я же, несмотря на недосып, не мог сомкнуть глаз. Коротал время, попеременно разглядывая затылки родителей в надежде уловить признаки того, что опасность осталась позади вместе с дачей и коварные сиу, охотящиеся за нашими скальпами, уже не набросятся на нас из засады. Но поскольку затылок – самый невыразительный участок человеческого тела (думаю, медики выбрали для него латинское наименование «окцилуциум», чтобы он хотя бы назывался красиво), видимых знаков либо не было, либо я их проглядел.
Весь день мы бесцельно колесили по Буэнос-Айресу. Наконец притормозили на безликой улице не знаю уж в каком районе, – безликой, зато спокойной, – возле телефонной будки. Папа тратил монетки, не жалея. Поначалу мы с Гномом хихикали (тайком, конечно, чтобы не раздражать маму, которая дымила, как паровоз, и барабанила пальцами по рулю) – ведь, когда слов не слышно, очень смешно следить за жестами человека, разговаривающего по телефону; кажется, будто чего-то недостает, это как художник, который увлеченно рисует, забыв взять кисть, или как Койот в мультиках продолжает бежать по воздуху, не заметив, что дорога оборвалась у края пропасти. Но папа все больше жестикулировал, некрасиво кривился, опять опускал монеты и вдруг так повышал голос, что даже мы его слышали, – слов было не разобрать, но голос доносился, он кричал, а после вдруг прикрывал трубку рукой и переходил на шепот, от крика – сразу к шепоту; а потом опустил трубку на рычаг с такой силой, что едва не сломал телефон.
К этому времени мы уже, разумеется, не смеялись. От лязга брошенной на рычаг трубки Гном подскочил на месте и спросил у мамы, что такое с папой. Мама улыбнулась Гному, погладила его по коленке, глубоко вздохнула, но так ничего и не сказала.
На ее счастье, вернулся папа. Плюхнулся на переднее сиденье рядом с ней – «ситроен» так и закачался на рессорах. И, отлично зная, что мама ждет ответа, промолчал; даже не посмотрел на нее, уставился себе под ноги – совсем как мы, когда мама добивалась от нас чистосердечного признания в каком-нибудь преступлении, а мы, хотя и разоблаченные, тянули резину. Маме пришлось взять папу за плечи и встряхнуть. Гном покосился на меня, безмолвно спрашивая: «Что это с папой – заснул?» Наконец папа взглянул маме в лицо и сказал ей тихонько, будто все еще шептал в трубку:
– В университете все провалилось.
Очевидно, мама поняла его с полуслова: вскинула голову, нажала на газ, и мы умчались с этой улицы.
Сделав по городу около тысячи кругов, мама наконец выбрала ресторан. Наверно, ей хотелось поесть чего-то особенного. Но, видимо, от всех этих катаний у нее пропал аппетит – к обеду она почти не притронулась: поковыряла вилкой паэлью, съела пару устриц, а после застыла, как механическая игрушка, у которой кончился завод; сидела, глядя в пространство потухшими глазами.
Гном, напротив, со своим обычным проворством проглотил все, что дали, и заскучал. Он все время порывался залезть на стул с ногами, и мне приходилось следить, чтобы стул не опрокинулся. Затем я обнаружил, что он вызвал на состязание по озорству девочку, сидевшую за соседним столиком; звали ее Милагрос – чтобы это выяснить, не требовалось быть ясновидящим, поскольку мама Милагрос без конца ее шпыняла: «Милагрос, нельзя так делать», «Милагрос, прекрати». В другое время я стал бы насмехаться над Гномом: «Ти-ли-тили-тесто, жених и невеста», но сейчас что-то не захотелось; я весь обмяк, голова работала медленно – наверно, переел. В чем-то я завидовал Гному – он-то мог без стеснения влезать на стул с ногами, валять дурака и распевать «и лежим мы, и ложим Бестраха». Я же – возраст обязывал – был обречен вести себя прилично, сидеть прямо, есть с закрытым ртом и, что самое ужасное, постоянно видеть перед собой папу: как он уже который час нарезает на мелкие кусочки давно остывший бифштекс, не говоря ни слова, – только нож ударяет по тарелке, словно приговаривая: так-так-так. Папа молчал, зато мама Милагрос у меня за спиной тараторила за двоих; таков закон компенсации.
Когда Милагрос и ее мама ушли, я почувствовал, как, словно по мановению невидимой руки, из шумного зала ресторана исчезли все высокие ноты: звон рюмок и столовых приборов, побрякивание тарелок, бутылок, подносов, оглушительные голоса и смех – все вдруг зазвучало глухо, смазанно, точно сквозь стену. Я решил опробовать свой голос – спросил у мамы разрешения сходить в туалет. Она даже не ответила. Скорее всего, просто не услышала: мои слова прозвучали так, словно я говорил со дна бассейна.
Гном рядом со мной весь напружинился, указывая на что-то пальцем. К моему изумлению, его возглас прозвучал чисто и звонко:
– Мама, гляди, гляди! Манда!
Мама выглянула из-за своей дымовой завесы. Папа, едва не уткнувшийся носом в свою тарелку с бифштексом, вскинулся. Официанты остолбенели. Все, кто находился в зале: кассир, посетители, продавец цветов – повернулись в ту сторону, куда с таким волнением показывал Гном:
– Гляди, мама, гляди, тут манда, разве не видишь?
Это была не манда. Это была Мадонна. Образ Пресвятой Девы Луханской на небольшом алтаре у стены.
Мама расхохоталась, а вслед за ней – и папа. Вокруг тоже засмеялись. Высокие ноты вернулись, рассыпа лись по залу музыкой хохота и цимбалами рюмок, столовых приборов, тарелок. Официант, подошедший, чтобы предложить нам десерт, был весь красный; он пытался отбарабанить список блюд, но все время срывался на смех.
Мы ушли без десерта. Мама даже нас не спросила. Думаю, ей так хотелось поскорее смыться, что она лишь нечеловеческим усилием воли заставила себя дождаться счета.
В машине Гном примолк. Сцепил пальцы в молитвенном жесте и уставился в окно, запрокинув голову, точно рассматривал небо. Я знал, что творится у него в голове: он ведь все понимал буквально. Гном принял близко к сердцу папины слова о провалившемся университете. Мы вновь колесили по городу, и Гном настороженно рассматривал здания, боясь, что вслед за университетом и они вот-вот провалятся один за другим, точно во второразрядном японском триллере.
79. Принцип необходимости-2
Спустя годы я осознал: возвращаться на дачу нельзя было ни при каких обстоятельствах. Это было самое сумасбродное из возможных решений, напрочь противоречащее здравому смыслу. Отсюда понятно, до какой степени отчаялись наши родители.
Вечер мы провели в каком-то сквере. Папа метался туда-сюда, разменивая деньги и без счета опуская монеты в прорезь телефонных автоматов, точно в копилки. Но, по крайней мере, он был при деле. Мама же вся извелась от праздного ожидания. Нет ничего хуже, чем ждать, – просто каторга какая-то. Когда солнце село, мы с Гномом почувствовали холод и обнаружили, что не взяли с собой теплых вещей, но жаловаться не стали. Собрав волю в кулак, продолжали играть, хотя с каждой минутой Гном все больше походил на картину Пикассо голубого периода, а у меня леденели пальцы, когда я хватался за железную стойку качелей. Наконец Гном указал мне на нескольких детей, которые тоже болтались на площадке, и спросил: «У них тоже боевая тревога?»
Вернувшись в поселок, мы поставили машину в каком-то закоулке и продолжили путь пешком. В двух кварталах от дачи папа передал маме с рук на руки спящего Гнома и сказал, чтобы мы затаились и ждали его здесь. Затаиться было несложно: ночь была такая темная, что папа, сделав с десяток шагов, растворился во мраке. Мама даже не могла курить, чтобы не выдать себя огоньком сигареты. Я взял книгу про Гудини и попробовал читать, но буквы сливались в одну линию. Хуже нет, когда хочется почитать, а не можешь – это просто конец света, надругательство какое-то.
Папа пришел не скоро. Сообщил, что на дачу вернуться можно, опасности нет, но надо морально подготовиться к тому, что мы там увидим.
Много вещей утащили: стол и кресла из гостиной, телефон, телевизор. Пол был жутко грязный, всюду комья глины (ведь прошлой ночью шел дождь) и отпечатки ног, рифленых подошв, великанских; мне они напомнили след, оставленный Нилом Армстронгом на Луне. На обоях виднелось прямоугольное пятно, более темное, чем сумрак, – силуэт напольных часов. Много лет за их задней стенкой накапливалась грязь. Это стало видно лишь теперь, когда часов не стало. Стекла перебили – осколки валялись повсюду, хрустели на каждом шагу под ногами. Тогда я подумал, что это был бессмысленный жест, но затем осознал: отнюдь нет. Налетчики пытались ликвидировать время – остановить его, а заодно с ним и жизнь: разбили стекла – эти застывшие потоки, запечатленное время, не позволив ему струиться дальше. Прервали его ход.
Из нашей спальни исчезли оба матраса. Одежду из шкафа тоже забрали, и он стал такой же пустой, как в тот момент, когда я впервые в него заглянул. Эта пустота подсказала мне одну идею, а может быть, просто воскресила в памяти (когда стекла разбиты, представления о времени искажаются). Подобрав с пола Гномов карандаш, я вывел прямо под «Педро-75» свое имя: «Гарри-76». Влез на тумбочку и оставил книгу на том же месте, где нашел, надеясь, что она обрастет пылью и благополучно дождется следующего эскейписта.
Мама уложила спящего Гнома на двуспальной кровати (очевидно, этот матрас вытащить так и не смогли), и папа укрыл его своей курткой.
– Я должен знать, что они избавлены от всего этого дерьма, – сказал папа. Это прозвучало солидно, почти басом, как у телеведущего Нарсисо Ибаньеса Менты.
– Знаешь, я только одного боюсь – что никогда их больше не увижу, – сказала мама. Из горла у нее вырвался какой-то странный звук.
Я все это знаю, потому что слышал сам, хоть и находился снаружи: окно в их спальне тоже было разбито.
И в этот самый миг я услышал что-то похожее на «хлюп-хлюп». Сначала подумал, что мама опять поперхнулась, но смекнул: звук исходит с другой стороны, от бассейна. Это – вода хлюпает. Я побежал к бассейну, предполагая, что туда запрыгнула очередная жаба и ее надо спасать, ждать мне надоело, с минуты на минуту мы отсюда уедем, и теперь антитрамплин для меня – слишком большая роскошь; жабу надо немедленно спасти, потому что я устал от всех этих мертвых жаб, мне надоело их хоронить, обрыдло ждать, нет ничего хуже, чем ждать, просто каторга какая-то.
Я страшно удивился. Хлюпанье слышалось не потому, что жаба упала, а потому, что она выбралась из воды, взобралась на антитрамплин: вот она, уже наверху доски, мне это не приснилось, клянусь; очень симпатичная жаба с двумя пятнышками на спине, похожими на пару глаз, и, несомненно, на доску она забралась только что: дерево было сухое, а на нем – влажные отпечатки лап.
Не двигаясь, мы смотрели друг на друга: я у края бассейна, жаба на доске, словно все остальное было лишь предлогом для того, чтобы наступил этот миг – миг, который нам на роду написан; две судьбы, ненадолго скрестившись, переменились навсегда, переменили друг друга; как мне объяснила сеньорита Барбеито: меняешься, когда у тебя нет другого выхода.
Когда жабе надоело на меня глазеть, она спрыгнула с доски и затерялась в траве.
80. Я ставлю точки над некоторыми «i»
Вот и все. На этот раз действительно все. Ну почти что все.
Если надо, я дополню свой рассказ. Например, Бертуччо стал драматургом и театральным режиссером. Знаменитостью его не назовешь, поскольку коммерческим театром он пренебрегает – предпочитает вращаться среди альтернативщиков и экспериментаторов: мне приятно знать, что он до сих пор верен творческому кредо, которое избрал в столь нежном возрасте, – приятно верить, что есть в этом мире что-то постоянное (и к тому же весьма ценное), как бы нас ни убеждали в обратном, как бы ни уверяли, что ничто не вечно и, следовательно, ничем дорожить не стоит.
Роберто исчез бесследно. Рамиро и его мама остались жить в Европе. О них я ничего не знаю. Говорят, они поклялись, что в Аргентину не вернутся никогда.
Однажды, спустя годы и годы, я раскрыл газету – и со старой фотографии мне улыбнулся Лукас. Такой же, каким я его знал, с этими дурацкими волосками на подбородке, с сияющими, несмотря на плохую копию и отвратительную печать, глазами. Из объявления, к которому прилагалось фото, я узнал его настоящее имя и выяснил, что Лукаса похитили через несколько дней после того, как я виделся с ним в последний раз. Я стал гадать, повстречал ли он после отъезда с дачи какого-нибудь старого друга; мне безумно захотелось, чтобы это было так, чтобы его кто-то обнял, похлопал по спине на прощание, – чтобы хоть немного заполнилась пустота, возникшая, когда я отказался с ним попрощаться. Еще несколько лет мне понадобилось, чтобы осознать: мама была совершенно права, когда настаивала, чтобы я попрощался с Лукасом, когда подчеркивала, как важны и, значит, необходимы прощания. Все мы рано или поздно осознаем, что наши родители были мудрее, чем нам казалось, – так уж устроена жизнь. Но удивительно, что они были так мудры и в страдании, в искусстве утрат, в умении противостоять ужасу безвременных и жестоких смертей.
Наконец, набравшись духу, я связался с родными Лукаса. Рассказывая им о том, что мы пережили в те месяцы, я внезапно открыл для себя все могущество историй. У меня открылись глаза. Раньше я думал, что волшебная власть историй над моей душой – единичный случай. Но, когда я говорил, а родные Лукаса слушали, я чувствовал, что возвращаю им сына; пока длился рассказ – а я старался его растянуть, припомнить даже то, чего никогда не знал, – время развернулось перед нами во всем своем великолепии, и Лукас ожил, Лукас вернулся (мне нравится думать, что это история не о пропавших, а о возвратившихся), и мы смеялись его шуткам, как будто в первый раз, поскольку, пересказывая их, я словно заново все выдумывал.
Объявление выходит в газете регулярно, из года в год. Теперь в нем упомянуто и мое имя. Когда родные Лукаса сказали, что хотят добавить мое имя к своим, я потерял дар речи – а это, как вы уже могли догадаться, случается со мной крайне редко. Я мгновенно согласился при условии, что мне разрешат кое-что показать младшему брату Лукаса. (Мои предположения оправдались – у Лукаса был младший брат, мой ровесник) До поздней ночи я показывал ему, как завязывать узлы, которым меня научил Лукас. Пока мы упражнялись, я почувствовал – в движениях наших пальцев есть что-то сакральное: мы связывали нити, которые, будь в этом мире все по справедливости, оставались бы неразрывными.
Я много чего не знаю и, наверно, никогда не узнаю. Например, кто был Педро, и кем ему приходились Бе-ба и Чина – тетками, двоюродными сестрами? – и насколько соответствовали истине мои догадки о призраке, обитавшем на даче. Не знаю, у кого теперь книга о Гудини, если она вообще сохранилась. Или что сталось с Денуччи, отцом Руисом и маминой подругой, приютившей нас в первую ночь. Мне хотелось бы сказать им, что память об их великодушии помогла мне пережить долгие годы изгнания на Камчатке.
Все эти годы я не расставался с книгой, найденной на чердаке у бабушки Матильды – старым изданием «Пленника Зенды»[58]58
«Пленник Зенды» – остросюжетный роман английского писателя Энтони Хоупа.
[Закрыть] из серии «Робин Руд», которое мама читала в детстве. Героиня книги – принцесса Флавия, девушка благородного происхождения и, главное, с благородным сердцем; ее светлые локоны были одного цвета с солнцем, изображенным на игровом поле «Стратегии». Не могу выразить, какие чувства мной овладели, когда я осознал, что даже на острове, где мы жили, когда над страной сгустилась мгла, мама назвалась Флавией в знак протеста, в знак защиты своих прав; ведь она никогда не хотела быть Женщиной-Скалой, это мир ее такой сделал – наш мир, обрекающий своих детей на голодную смерть, допускающий, чтобы их беззастенчиво обкрадывали разные мерзавцы; мир, где поневоле надо иметь каменное сердце – иначе оно разорвется от боли. Мама не хотела превращаться в камень и потому инстинктивно призвала на помощь то, что помогает нам выжить в черные дни, то, что глубоко сидит в нас с детства, – воспоминания о нежности, любви и боли или даже обыкновенные фантазии, вроде этой, которой она так стыдилась, что ни за что не хотела в ней признаваться. В своих наивно-детских, идеологически не выдержанных мечтах она была натуральной блондинкой по имени Флавия и настоящей принцессой.








