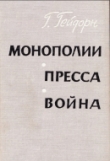Текст книги "Солдат великой войны"
Автор книги: Марк Хелприн
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 50 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
По мере того как Рафи набирался опыта, его страсть к альпинизму менялась. Теперь его интересовало расширение пределов возможного, ему хотелось сделать то, что не делал ни он, ни кто-то другой, а поскольку в альпинизме предел по определению сама опасность, Рафи все больше и больше рисковал.
Ему нравилось стоять на самом краю пропасти, иногда касаясь камня только каблуками, как это делают опытные скалолазы, чтобы произвести впечатление на клиентов, или смотреть в пропасть, такую глубокую, что, упади он в нее, Алессандро без телескопа не смог бы разглядеть, где именно он обрел покой, а без микроскопа – отыскать сами останки. Они бросали булыжники с высоты и много секунд спустя, если смотрели в правильном направлении, видели беззвучное облачко дыма.
Рафи уверял, что металл, который он забивает в скалу, и веревка, гибкая и прекрасная, когда спускаешься по ней с вершины, куда интереснее индексов и цитат, и Алессандро его понимал, ибо знал, что прелесть альпинизма может воодушевлять как ничто другое, и возвращение скалолаза в лагерь иной раз сравнимо со скольжением ангела, спешащего на небеса.
Горы идеально подходили Рафи. Когда они проверяли его на прочность и выматывали донельзя, душа оставалась свободной и приближала его к тому Рафи, каким он хотел быть. Безопасность его не волновала, и он все меньше и меньше обращал внимание на нюансы, которые для Алессандро играли главную роль в увлечении альпинизмом. Алессандро нравился запах растений, растущих на отвесной скале. Раздавленные ногой или веревкой, они источали сладкий и смолистый аромат, который прилипал к одежде, и когда Алессандро разжигал костер, ароматный дым проникал во все его вещи и оставался с ним целый день. Утреннее солнце, отражающееся от гигантских скал, громоздящихся высоко над ними, подсвечивающее облака и туман, безмерно радовало и глаза, и сердце. Но ничто не могло сравниться с громом.
В последний день они встали в три утра и отправились к подножию вертикального пика высотой в тысячу метров, так изрезанного трещинами, что казалось, для восхождения найдется тысяча путей, но, как часто бывает, чем выше они поднимались, тем сложнее давался им каждый метр, и последний пик не стал исключением.
Гораздо ниже вершины уступы закончились, расщелины сошли на нет, нависающие выступы встречались все чаще и чаще, а обходные пути – реже и реже.
К четырем пополудни они уже совсем вымотались, но по-прежнему были еще далеко от вершины. А поскольку до темноты оставалось лишь несколько часов, решили спускаться. Они понимали, что обратный путь займет больше времени, потому что везде пришлось вбивать крюки только в скалы, а не цеплять веревки за деревья и валуны. Им предстояло спускаться, используя крюки, которые они только что сами забили, а при этом требуется немалая осторожность.
День подходил к концу, погода портилась. Если они и сомневались в необходимости отступления, то собирающиеся облака рассеяли эти сомнения. Решение они приняли, когда оба стояли на etriers, закрепленных на крепком крюке. Привязанные за запястье, они отдыхали, зависнув над семьюстами метрами пустоты.
К спуску они готовились с предельной осторожностью. Отцепи не тот карабин – и последует долгий полет на встречу со смертью. Их жизнь зависела от веревок, карабинов и тяжелого крюка, который Рафи вбил в скалу. Пять минут вколачивал его молотком, изрядно вспотев, но теперь пот уже высушил усилившийся ветер.
Нагруженный железом, которое он собирал, поднимаясь вторым, Алессандро готовился спуститься, чтобы забить следующий крюк, когда порыв ветра перевалил через пик первую огромную черную тучу и взвыл над их головами.
Черные тучи, медленно, без всякой спешки, напозали на альпинистов. Но первым на них набросился ветер, такой яростный, что прижал к щекам бороду Рафи, и тот вдруг стал похож на козла. Вместе с ветром обрушились дождь, снег, град, моментально сменяя друг друга, и тут же холодный ветер высушил их одежду, одновременно пытаясь ее сорвать.
Они натягивали на себя дождевики, когда зазмеилась первая молния, держа путь ко дну пропасти, а волосы у них встали дыбом. Все вокруг побелело, их бросило на скалу, точно рыбацкие плоты. Тут же прогремел гром, взрывая их черепа, и эхо с минуту отражалось от гор. Даже когда все стихло, в ушах звенело, а глаза ничего не видели.
Когда зрение вернулось, черные тучи поднялись выше, уплывая к сосновым лесам на соседних склонах. Чудесным образом они оставили в покое двух альпинистов, висящих на отвесном склоне пика, так им и не покорившегося.
Молнии под громовые раскаты продолжали врезаться в крутые склоны, словно секли горы, замедлявшие движение туч, но каким прекрасным выглядело это наказание. С широко раскрытыми глазами, глубоко дыша, захваченные буйством природы, Алессандро и Рафи ошарашенно болтались на веревках. Гром грохотал так громко, молнии сверкали так ярко, ветер дул так сильно, что им оставалось только гадать, каким чудом они остались живы. Возможно, оказались слишком малы в сравнении с мощностью взрывов, которые раздавались со всех сторон. Будь они большими, как горы, наверняка бы почувствовали боль, а так их совсем не задело. Даже когда молнии ударяли, казалось, совсем рядом, и возникало ощущение, что Рафи и Алессандро болтаются перед дулом стреляющего орудия. Так или иначе, с их голов не упало ни единого волоса.
* * *
В начале зимы Алессандро опубликовал большую статью, аргументированно осудив войну с Турцией, которая началась в октябре 1911 года. Хотя он уже многократно выступал на эту тему, в тишине своей комнаты он добавил много значимых фраз, не приходивших в голову во время выступлений. Рождение им даровал союз руки и пера.
Статья увидела свет в римской газете после того, как Алессандро заставили переписать ее раз двадцать, наполовину снизив первоначальный эффект. Он получил множество писем. В некоторых монархисты, гарибальдийцы и боевые офицеры ставили под сомнение его патриотизм. Несколько пришло от простых людей: кто-то его осуждал, кто-то соглашался. Большинство же приходило от тех, кто жил в выдуманном им самим мире, надеясь, что тот внезапно станет реальностью. Они хотели использовать Алессандро в своих целях, считая, что прекращение войны с Турцией станет первым шагом на этом долгом пути. Собственно, плевать они хотели на войну, Турцию и многое другое, потому что ставили перед собой некую задачу, решению которой подчиняли все.
По сравнению с тремя четвертями из этих людей Орфео Кватта являл собой образец здравомыслия. Они ненавидели Италию, армию, государство, капитализм, лошадей, шпаги и энциклопедии. Последние они ненавидели потому, что читали в них о заговорах, не только отличающихся от их собственных, но еще и эффективных. Нелюбовь к капитализму и шпагам Алессандро не удивляла, но он не мог взять в толк, почему они ненавидят лошадей.
Прекрасно знакомый с достижениями нескольких философских школ, еще в самом начале учебы в университете он осознал, что при всех заслугах каждой из них, ни одна не способна в достаточной степени объяснить жизнь в этом мире. Собственно, даже в совокупности философские теории и близко не подходили к реальности. Он терпеть не мог марксизм, юлианизм, социализм и другие теории, которые не только тщились объяснить все и намеревались перестроить и заменить собой все, что появилось в мире, несмотря на тысячу философских учений, десять тысяч теорий и многие тысячелетия естественности, необходимости, случайности.
Алессандро не испытывал ненависти ни к Италии, ни к шпагам, ни к лошадям, ни к энциклопедиям и считал войну в Ливии не логически обусловленным результатом, а отклонением от нормы, но при этом получал благодарности от странных итальянцев, влюбленных в турецкую империю. Даже какие-то римляне, жившие неподалеку, пребывали в воображаемом мире, в маленьких комнатах с обитыми бархатом стенами, кисточками и мавританским орнаментом. Когда-то обученные смотреть на мир сквозь призму ислама, они не смогли вернуться на запад и напоминали юных пленников, находящихся во вражеской стране, которым не остается иного выхода, кроме как по-новому строить отношения с окружающим миром.
В холодный январский день, когда миллионы ласточек оккупировали деревья, растущие вдоль Тибра, и вдруг разом поднимались в воздух черными облаками, закрывающими небо, Алессандро наблюдал из окна отцовского кабинета, как тысячи людей шли по продуваемым ветром улицам к площади Кампидольо. Они несли плакаты, пели хором и вразброд, требовали положить конец войне, протестовали против того, как эта война ведется. Их самым сильным союзником была тупиковая ситуация в ливийской пустыне, где холера и тиф уничтожали итальянский экспедиционный корпус.
Протестующие заполняли залитые дождем улицы, многочисленные, как камни брусчатки. Чтобы они ни говорили, само их пение заводило Алессандро, и ему захотелось присоединиться к ним.
– Иди, – предложил отец, не отрывая глаз от бумаг. – Тебе это не повредит. Может, даже поможет.
Алессандро уже шел к двери, когда отец добавил:
– Позволь только кое о чем тебя предупредить.
– Насчет шпаг карабинеров?
– Я знаю, что тебе достанет ума держаться от них подальше и ты будешь скептически вышагивать молча и с краю толпы.
– Тогда о чем же?
– Ты уже представляешь себе, как произносишь речь.
– Ну что ты!
– Да, представляешь. Я это вижу по тебе. На Кампидольо ты выступишь вперед и внезапно превратишься в Цицерона. Но, Алессандро, тебе этого не позволят. А если и позволят, ты будешь обращаться к тем, кто и сам все знает. У каждого собственный путь через ужас и скорбь этого мира, и все хотят поделиться своими предложениями, чтобы набрать побольше сторонников. В детстве отец рассказал мне историю об одной части армии Наполеона в России. Численностью в десять тысяч человек. Они и представить себе не могли, что их победит холод. Десять тысяч душ, в конце концов, целый город, а города не замерзают до смерти. Казалось, вместе они сила, их было так много, они чувствовали себя в безопасности, рассчитывая друг на друга… но все замерзли до смерти, потому что заблудились в снегах. Бренность – тот же снег. Ее не изменишь ни хитростью, ни солидарностью, и в конце концов ты окажешься на коленях, потрясенный и изумленный, и тогда у тебя останется только один меч, только один щит, и еще одна вещь, чтобы тебя поддержать.
Алессандро ждал, ожидая услышать, что он имеет в виду, но отец больше ничего не сказал.
– Если ты не узнаешь этого сам, тогда мои слова – всего лишь проповедь.
В толпе началась драка. Анархисты принялись колотить людей древками своих черных флагов, и конные карабинеры принялись оттеснять их в боковые улицы.
– Видишь, – указал адвокат Джулиани, – ничего общего у них нет, да они и не пытаются достичь единения.
– Я смогу их объединить.
– Это глупо, Алессандро. Если они поддержат тебя или хотя бы выслушают, произойдет это в одном случае: если ты упростишь себя и свои идеи до такой степени, что в них не останется ничего высокого и благородного.
– А если я выскажу все, что у меня на душе, зажгу их, и они пойдут за мной?
– Ты превратишься в демагога, пустослова. Почему, по-твоему, великие лидеры и великие речи совпадают с войнами, революциями, основанием или разрушением государств? Общие интересы настолько очевидны, что произнести речь не составляет труда, но в настоящее время ни фактическая ситуация, ни ее последствия недостаточно однозначны, чтобы превратить речь в закон. Такие войны продолжаются долго и выставляют дураками как их сторонников, так и противников.
Толпа редела.
– И вот что еще. – Адвокат говорил, продолжая работать, правя какой-то документ, уверенный, что разношерстность толпы отвратит от нее сына. – Ты знаешь, как овец гонят через Рим осенью и весной? Все движутся с одинаковой скоростью, у них есть пастухи и вожаки, время от времени они блеют, но делают по существу только одно: ходят туда-сюда с одного пастбища на другое, и больше для них ничего не меняется. Ты можешь предложить людям что-то большее, чем шерсть и отбивные на ребрышках? Не иди в толпу, если не можешь ее возглавить, и не пытайся возглавить толпу, пока не потребуешься ей.
– А что мне делать до этого?
Адвокат поднял голову.
– Разве в этом мире тебе нечем заняться?
– Есть, конечно, но я о выводе войск из Ливии.
– Напиши еще одну статью.
– Я уже сказал все, что хотел.
– Если ты думаешь, что уже все сказал, поговори с оппозицией, – предложил отец.
* * *
Сперва Лиа казалось, что она победила Алессандро, словно действие служило доказательством, словно объявление войны свидетельствовало о ее правоте, точнее, о правоте брата, утверждавшего, что война необходима. Алессандро, однако, не сдавал позиции только потому, что некоторые высокопоставленные мужи приняли неправильное решение. В первом раунде ни он, ни Лиа никаких неприятных последствий не ощутили. Пока не начались боевые действия, ничего не могло считаться доказанным, все зависло в состоянии неопределенности. Элио, брат Лиа, писал с севера Италии, где находилась его кавалерийская часть, что война, похоже, будет выиграна короткой бомбардировкой и он так и не увидит Африку.
Чем больше Алессандро спорил с Лиа, тем сильнее его тянуло к ней. В спорах он забывал, что говорит, и у него голова шла кругом от самых разных желаний: физических, обыкновенных, эфемерных. Временами, даже когда они находились среди других людей, он хватал Лиа за руку, доказывая свою точку зрения, и их разногласия тут же исчезали. Иногда они дразнили друг друга, иногда говорили серьезно: призывали на помощь историю, логику, статистику, но, поскольку война оставалась номинальной, они тоже обходились без сражений. А где-то в октябре, уже после объявления войны, когда от их споров полетели искры, они начали целоваться.
Они отмерили по саду кругов сорок, поднимая головы и глядя, как на фоне серых облаков кружат ласточки и воробьи. В сумерках окна их домов уютно светились мягким желтым светом. У калитки Лиа повернулась к нему.
– Мне очень жаль, Алессандро, что наши взгляды не совпадают.
Под прикрытием темноты, стены и расстояния от дома, он притянул ее к себе, и сначала они оказались близко, как в танце, когда вальсировали в посольстве, но потом его рука скользнула по бархатному плащу вниз до талии, а потом притянула ее к себе. Она ответила на объятие, и они впервые прижались друг к другу, с головы до пальчиков ног, да так крепко, что почувствовали бурление крови. Он целовал ее губы, эту сладкую розу, ее грудь вдавливалась в него, и на полчаса они прилипли к стене. Оторвались друг от друга разгоряченные, с пунцовыми лицами, тяжело дыша. Политика и война, похоже, легко забывались.
В ноябре поля пустовали. В окрестностях Авентино не составляло труда найти сосновый лесок с мягкой хвойной подстилкой или копну сена. Лошади дали бы знать, появись поблизости фазан или охотник, но никто никогда не приближался посмотреть, какие сцены разыгрываются под соснами или на сене.
Но маленькая война не желала оставить их в покое. Элио перевели в Венецию, где он и его бригада тайно погрузились на корабль в предрассветной тьме. Семья не знала, что он в Ливии, до десятого декабря, когда он провел там уже практически месяц.
Эти тридцать дней научили его, что жизнью он обязан прежде всего случаю, а уж только потом – собственным способностям. Судя по тону письма, он словно писал из тюрьмы, зная, что тюремщик обязательно прочитает письмо… но при этом надежда его не покидала.
Они задались вопросом, а что же он там увидел, и начали выяснять. Газеты не только предсказывали близкую победу и писали о наборе добровольцев. Оказалось, что корабль Мальтийского ордена забрал сотни больных холерой и поспешил в Неаполь, оставшись лишь на день, чтобы пополнить запасы воды и продовольствия. Хватало и некрологов. Нашлось место и паническим слухам, источниками которых называли власть имущих.
Итальянские войска застряли на берегу, едва справляясь с болезнями, косившими их ряды. Они недооценили силу врага, полагая, что ливийцы объединятся с ними в борьбе с турецким владычеством, но ливийцы предпочли отойти в пустыню и не сражались как джентльмены. И если итальянцы терпели поражение в бою, солдаты знали, что выжившим отрубают руки и ноги, а потом и голову. Пришла зима, и мало кто в Риме имел представление о том, как тяжела ситуация в Ливии.
* * *
Рафи с Лучаной вели вежливие и осторожные разговоры. Иногда она смеялась, когда он рассказывал о своих попытках найти место в министерствах, набитых бюрократами, но смех быстро стихал, и они принимались разглядывать друг друга. Ни один не знал, что другой в курсе, но однажды, когда она подошла к парадной двери, чтобы открыть ее, их взгляды в изумлении встретились, и с этого момента каждый знал о чувствах другого.
Во дворе испанской синагоги в Венеции был маленький садик, в который редко заглядывало солнце. Седобородый старик узкой киркой прокладывал сложную сеть ирригационных канавок вокруг нескольких финиковых пальм. Его рубашка промокла от пота, и, работая, он говорил сам с собой.
Рафи вышел из-за пальмы – в пиджаке и при галстуке. Рабби поднял голову.
– Похороны или свадьба?
Рафи покачал головой.
– Почему ты так одет? Это для тебя естественно?
– Это привычка, которую я приобрел, когда ходил по государственным учреждениям. Рабби на месте?
Старик посмотрел на небо.
– Все зависит от того, что ты подразумеваешь под местом.
– Вы рабби.
– Ты ищешь работу?
– Могу я поговорить с вами?
– Зачем спрашивать разрешения на то, что уже делаешь?
– Из вежливости.
– Вежливость хороша вначале, а мы уже в середине. Я не цыган и не провидец. Если хочешь поговорить со мной, тебе придется использовать слова.
– Это трудно, – признался Рафи.
– Люди путают понятия времени и трудностей.
– Я влюбился в девушку.
– И что в этом плохого?
– Она слишком молода.
– Насколько молода?
– Еще не женщина.
– Как ты ее любишь?
– Как?
– Да. Ты любишь ее фактически, плотски?
– Нет.
– Почему?
– Она к этому не готова.
– Ты любишь ее как дочь?
– Нет, она для этого слишком велика. Или я слишком молод.
– Так о чем мы говорим? Что там у вас, год разницы в возрасте?
– Восемь.
– Ну, это, конечно, разница, но не такая уж и большая. Ты любишь ее как сестру?
– Нет.
– Почему?
– Я люблю ее слишком сильно.
– Пока все очень хорошо. Именно поэтому ты чувствуешь то, про что сказал «трудно». Без этой трудности вы с ней оказались бы в ужасной беде. По тому, как ты говоришь, мне понятно, что ты очень ее любишь, насколько мужчина может любить женщину. Ты любишь ее достаточно сильно, чтобы прийти ко мне. Ты хочешь знать, что тебе делать. Ты не первый мужчина, который пришел, чтобы задать такой вопрос, и, я должен добавить, не первая женщина. Самым первым спросил себя об этом я сам, и даже тогда знал ответ, давным-давно, когда едва ли вообще хоть что-то знал… как и ты сейчас знаешь ответ.
– Я не задавал вопроса, – возразил молодой адвокат.
– Все зависит от того, что ты подразумеваешь под понятием «задать вопрос». По моему разумению, ты его задал. Ты красный, как хурма, глаза у тебя широко открыты, дышишь ты медленно, застыл, как олень. По мне, это и называется «задать вопрос». Я знаю ответ, как знаешь его и ты: ждать.
– Сколько?
– Три года.
– Три года?
– К тому времени она не будет благоговеть перед тобой, и у нее появится возможность тебя отвергнуть. А у тебя – доказать себе, что ты любишь ее не только такой, какая она сейчас, но и такой, какой она только станет. Чем ты зарабатываешь на жизнь?
– Я адвокат.
– В таком случае ты без труда найдешь, чем занять себя в ближайшие три года.
– Могу я с ней видеться?
– Разумеется, ты можешь с ней видеться. Ты должен с ней видеться. И ты можешь дать ей знать, но вам придется подождать. Это, вероятно, будет трудно. Учиться любить – трудно. Полагаю, она тоже любит тебя. Нам придется начать сначала, если не любит. Но она любит, любит. Да, я это вижу по твоему лицу. Прекрасно! У тебя вид, как у христианского святого, на которого сошла благодать. – Рабби забыл спросить, еврейка ли она. А может, заранее предположил, что еврейка, а, возможно, просто почувствовал, что это не имеет никакого значения.
* * *
Одним августовским днем, ближе к вечеру, Рафи играл с Лучаной в шахматы в саду. Остальные прятались в тени или в доме, обезумевшие от сирокко. Алессандро – так тот читал в ванне с холодной водой.
Не обращая внимания на жару, Рафи с Лучаной сидели на парусиновых стульях в яблоневом саду, шахматная доска стояла на перевернутом ящике для фруктов. Волосы Лучаны цветом напоминали белое золото, лицо и руки покрывал ровный загар, а глаза лучились полярной синевой.
Главным образом из-за нее шахматными часами они не пользовались. На каждый ход у нее уходило пять-десять минут, и она легко терялась. Стоило ей пойти, как Рафи тут же, без паузы, делал ответный ход. Ни разу не задумался. Он просчитывал партию на много ходов вперед, держал в голове несколько вариантов развития игры и разглядывал ее, пока она изучала глазами доску. Ему нравилось наблюдать, как ее взгляд перемещается по полю битвы, разворачивающейся на ящике из-под фруктов. Он был убежден, что она всегда прекрасна, но еще прекрасней она становилась, когда не подозревала, что за ней наблюдают.
– Какие у тебя планы на будущее, Лучана? – поинтересовался Рафи. – В твоем возрасте я решил, что буду изучать юриспруденцию. Вот такая беда…
– Я не хочу изучать юриспруденцию, – ответила она таким тоном, будто хотела сказать: «У меня нет желания превращаться в таракана».
– Семья, конечно, важнее всего, – продолжал Рафи, – но порой надоедает играть по правилам. Я и подумал, а вдруг ты мечтаешь о чем-то таком, что выходит за рамки семейных традиций.
– Например?
– Ну, не знаю. Стать пианисткой. Сбежать в Южное полушарие…
– Нет, но и о замужестве не мечтаю, возможно, потому, что не могу представить, кто будет моим мужем. – Она покраснела и опустила голову. – Как я могу мечтать о замужестве, если не знаю, за кого выйду?
– Тогда как ты представляешь свое будущее?
– Я никому не говорила, но… – Она огляделась, но поблизости не было никого, кроме котов, спавших на нижних ветвях яблонь. – Я не хочу жить в Риме. Я не честолюбива, и мне не нужен честолюбивый муж, который собирается посвятить свою жизнь карьере. И деньги меня не интересуют.
Рафи не знал, от матери это, от отца или от обоих сразу, но дети Джулиани в этом были похожи, как две капли воды.
– Я хочу уехать на север, – продолжила Лучана. – В горы.
Рафи чуть не упал со стула.
– Я еще не продумывала в деталях, но когда-нибудь я туда уеду. Наверно, сперва будет трудно… но как-нибудь все устроится. Не так это и далеко, летом мы часто ездили в Альпы.
– А ты согласилась бы выйти за проводника, или егеря, или местного чиновника… за того, у кого нет таких возможностей, как у жителя столицы, словом… за провинциала?
– Да какая разница! Мне всегда казалось, что нет ничего лучше, чем жить в горах на ферме, с овцами, козами, виноградниками. Ну, то есть выйти за фермера, так? Мне кажется, чем ближе стоишь к кулуарам власти, тем больше ускользает от тебя смысл жизни.
* * *
Рафи нашел комнату в верхнем этаже одного из домов в Трастевере. Маленькую, требующую почти альпинистских навыков, чтобы добраться до нее, поэтому платил он за нее сущие гроши. Другой в его положении мог позволить себе тратить деньги на рестораны, театр, одежду, извозчиков и бесполезные атрибуты, вроде тростей и часов, а Рафи ел с железнодорожными рабочими, одевался скромно и в любое нужное ему место добирался пешком.
Деньги он откладывал на покупку дома на холме, у подножия которого раскинулась альпийская деревушка. Окна его комнаты выходили на Джаниколо, по вечерам он видел светящиеся окна Джулиани и раз в неделю, иногда чаще, приходил туда обедать.
Время шло, объявили войну, деревья сбросили листья, и после Рождества пошел снег. Однажды он привел на обед друга, миланца, а миланец нанял карету, чтобы доставить их на вершину холма и отвезти обратно. Выйдя из дома и сев в карету, Рафи оглянулся и увидел Лучану в окне комнаты Алессандро.
– Подожди минуточку, – попросил он миланца. – Я забыл одну вещь.
Побежал к дому и поднялся по ступенькам. Запыхавшись, влетел в комнату Алессандро. Лучана повернулась к нему, но осталась у окна. Он же застыл у двери.
– Лучана, не знаю, как сказать. Твои родители внизу и решат, что я сошел с ума. Лучана, я тебя люблю.
Ее ответ проявился сначала на лице, потом в дыхании.
– Ты подождешь меня? – спросила она.
– Нам придется ждать два года. Этого достаточно.
Лучана покачала головой, словно журила его, потом подняла правую руку с вытянутым указательным пальцем.
– Один. Что кто подумает, что кто скажет, значения не имеет.
* * *
В феврале 1912 года, когда в Неаполь потянулись корабли с ранеными, больными и умирающими, в Риме зарядили дожди. В раскатах грома и вспышках молний стало понятно, что отбывшие в Африку в солнечном октябре прошлого года попали в ад. Те, кто что-то в этом смыслил, могли определить меру страдании и боли по рассказам о подвигах. Не составляло труда отличить журналистов, которые действительно там побывали, от тех, кто оставался на кораблях и смотрел в бинокль, ведь побывавшие приводили массу деталей. Кто-то написал, что нет ничего печальнее полного ведра воды, когда не остается никого, кто мог бы из него напиться. Кого-то потрясли электрические огни на кораблях, перевозивших раненых. Когда корабли пересекали в шторм Средиземное море, винты то и дело показывались из воды и огни мигали, как бы посылая божественный сигнал тем, кому предстояло здесь умереть.
Сидя один в своей комнате в Болонье – в печке трещал огонь, небо обложили серые облака, – Алессандро не мог оторваться от очерка одного журналиста об артиллерии: «Услышав грохот пушек, вблизи или издалека, ты навсегда поверишь в то, чего никогда не знал в мирной жизни. Это не гром, каким бы громким и угрожающим он ни был, потому что гром доносится сверху и следует за молнией. Хотя артиллерийские залпы иной раз превращают ночь в день, грохот идет с земли, великий и ужасный звук, не имеющий отношения к небесным катаклизмам, с которым он обычно ассоциируется. Нет, артиллерийский грохот доносится снизу, и хотя – если расстояние велико – он напоминает шум прибоя, он низвергает душу в океан тьмы».
С начала нового года имя Алессандро Джулиани стало появляться под статьями в нескольких ведущих газетах страны. Он не был ни лучшим, ни наиболее известным, ни самым эффективным критиком войны, но занимал в их ряду особое место: его материалы отличались необычайной силой и полным отсутствием горечи. Статьи противников войны зачастую звучали так воинственно, что никто не верил, что они ратуют за мир. Алессандро же приводил только аргументы против войны, не пытаясь найти ошибки, никого не обвиняя, не требуя наказать. Он хотел одного: чтобы все делалось правильно и на благо Италии, а не человечества, турок или социализма. Эта четкая позиция и соблюдение некоего баланса привели к тому, что у него появились сторонники, и читатели считали, что он как минимум вдвое старше. В январе его поддержка росла, доводы становились все яснее, и он научился не бояться их повторять, наслаждаясь вновь обретенным влиянием – пусть пока малым – на политическую жизнь страны, которое обретал, сидя на стуле с ручкой в руке, пытаясь открыть истину.
В конце месяца, когда стаи ласточек все еще пребывали в постоянном движении над бульварами, вдоль которых выстроились лишенные листвы деревья, он вернулся домой, прихватив с собой свои статьи в нескольких газетах и журналах. Знал, что родители будут им гордиться, и надеялся, что статьи понравятся Лиа, пусть даже она с ним и не согласится.
Домой он прибыл, когда в Риме только начинало темнеть. Отец вернулся рано, и Алессандро, еще не сняв пальто, положил пачку статей на обеденный стол. Адвокат Джулиани казался уже стариком. Произошло это совершенно незаметно, словно никто не обращал на него должного внимания. Он достал очки для чтения, включил свет, начал читать.
– Рафи сегодня придет? – спросил Алессандро.
– Рафи в Париже, – ответила Лучана.
– Что он там делает?
– По делам фирмы, – ответил отец Алессандро, оторвавшись от статьи. – Итальянское судно, перевозившее уголь, получило повреждения в гавани Шербурга. Мы подали в суд на владельцев французского судна, которое с ним столкнулось.
Мать Алессандро посмотрела на него, и выражение ее лица подсказывало: речь пойдет о том, что только она могла воспринять серьезно, скажем, о его появлении перед профессором в рваной рубашке.
– Ты не получил мое письмо? – спросила она.
– Не получил, – ответил он с искренностью человека, действительно не получившего отправленного ему письма.
– Значит, ты не знаешь.
– Не знаю чего? – По спине Алессандро пробежал холодок, он почувствал, будто оказался на краю бездны. На глаза Лучаны навернулись слезы, отец оторвался от передовицы, которую читал, с таким видом, будто не собирался к ней возвращаться.
– В чем дело? – спросил Алессандро, вставая со стула. Он должен был знать немедленно. – Кто-то умер? Кто?
Синьора Джулиани закрыла глаза и опустила голову.
– Кто? – повторил Алессандро уже мягче.
– Элио Беллати.
Лучана заплакала, и Алессандро не мог понять почему. Ее трясло, будто она видела это собственными глазами.
Когда мать подошла, чтобы успокоить ее, отец поднялся, снял очки, посмотрел на сына.
– Алессандро, его тело разорвали на куски…
Алессандро плюхнулся на стул.
– Откуда ты знаешь?
– Написали. Не только его. Многих.
– А Лиа? Ты ее видел?
– Думаю, тебе придется привыкать обходиться без нее, Алессандро.
– Почему?
– Потому что так устроен мир.
Некоторое время спустя Алессандро вышел в сад, устланный мокрыми и гниющими листьями. Хотя в доме Беллати горело всего несколько окон, он открыл железную калитку. К двери подошел слуга, которого он никогда раньше не видел, старик, который, похоже, устраивался на временную работу в дома, где держали траур. Он знал, как сгладить эмоции и мягко отказывать в просьбах. Если б его попросили принести газету, он бы ответил: «Минуточку. Пойду и посмотрю, доставили ли ее».
Алессандро представился. Слуга ушел, вернулся.
– Может, вы оставите визитную карточку?
– Нет у меня визитки, – ответил Алессандро. – Я живу по ту сторону сада.
Слуга скорбно покачал головой.
– Вас не смогут принять.