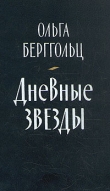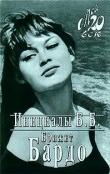Текст книги "Звезды немого кино. Ханжонков и другие"
Автор книги: Марк Кушниров
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
В 1911 году Дранков начинает выпускать первый в России еженедельный хроникальный журнал «Обозрение событий», который монтировался по типу широко распространённых «Пате-журнала» и «Хроники Гомона». Его планы до начала мировой войны и даже несколько позже были широки и многообещающи. Он собирался даже отправить на фронт операторов, чтобы вести съёмку прямо в бою. Но эти планы как-то быстро оказались свёрнуты. Что было тому виной – сказать непросто. То ли конкуренция Скобелевского центра, то ли нарастающая усталость общества от военных поражений, то ли нежелание командования и властей иметь дело с евреем. Скорее всего, всё сразу...
После падения монархии Дранков пытался заработать на модной теме революции и выпустил несколько «революционных» фильмов – например «Георгий Гапон» и «Бабушка русской революции» (оба в первой половине 1917-го). Тут он «попал в струю», но вскоре чутьё ему изменило – буквально накануне прихода большевиков к власти он сваял два (или даже три) резко антибольшевистских фильма. Из-за чего его пребывание в Петрограде становится явно опасным и он бежит из столицы. Многие события следующего периода его жизни достоверно неизвестны. По противоречивым воспоминаниям его знакомых, он возвращается на юг, пытается спекулировать драгоценностями в Киеве, затем занимается в Ялте съёмкой двух или трёх порнографических фильмов – тоже первых в России.
В ноябре 1920 года Дранков эмигрирует в Константинополь, где, по одним сведениям, зарабатывает «тараканьими бегами» (и становится позже героем булгаковского «Бега»), а по другим, устраивает какой-то парк аттракционов. А заодно водит дружбу с Алексеем Толстым, Александром Кусиковым, Аркадием Аверченко и другими популярными эмигрантами. Однако жизнь в занятой войсками Антанты турецкой столице длилась недолго. Лидер турецкой революции Ататюрк, завладев Константинополем, вынудил едва ли не всех эмигрантов покинуть худо-бедно насиженное место. Это произошло летом и осенью 1923 года.
К тому времени Дранков перебирается в США, где покупает киноустановку и устраивает кинопоказы в русских общинах. В 1927 году пытается вернуться в кинобизнес: его желание снять масштабный фильм о любовной связи Николая II и балерины Матильды Кшесинской заканчивается крахом. (Детали этой аферы остались неизвестными). После неудачной попытки утвердиться в Голливуде Дранков открывает кафе в городке Венис (ныне район Лос-Анджелеса), а спустя некоторое время переселяется в Сан-Франциско, где до конца своих дней работает в собственной компании «Фото-сервис» (фирма печатала фотоснимки и худо-бедно продавала их и всякие фотопринадлежности). Скончался он 3 января 1949 года в 19.35 в возрасте шестидесяти двух лет от инфаркта миокарда.
...Он был, безусловно, самой яркой личностью в первые семь-восемь лет русского кинематографа – наряду со своим давним и победительным конкурентом Ханжонковым.
И последнее. Заметных имён в первые годы русского кино было много. Это были не только русские, но и французы, немцы, итальянцы. Я не буду сейчас говорить про те иностранные фирмы и лица, которые связали свои судьбы с Россией в начале XX века. Одни мелькнули мимоходом, не оставив заметных примет. Другие, подобно таким актёрам, как Аста Нильсен, Макс Линдер, Мак Сеннет, Дуглас Фэрбенкс, Мэри Пикфорд, или фирмам типа «Гомон», «Пате» и др., оставили чёткий след в памяти современников.
Но главными российскими именами по этой части стали трое: Ханжонков, Дранков и, пожалуй, очень приметный в первых годах урождённый немец Пауль (по-русски Павел Густавович) Тиман, самостоятельная кинобиография которого началась в 1909 году. Он создал популярнейший и едва ли не самый, так сказать, интеллигентный в тогдашнем кинематографе «сериал» под названием «Русская золотая серия».
Их уникальный вклад в это новое деяние – несколько сотен (если не тысяч) разных кинолент – навсегда останется в нашей памяти. Останется как весомый и самобытный вклад русского кинематографа в мировой.
ГОНЧАРОВ И ГОНЧАРОВА
Что они ощущали, о чём думали эти первооткрыватели горизонтов русского кинематографа? Похоже, что ничего такого ошеломительного, круговоротного, сверхсенсационного. Для них это был просто новый аттракцион, нечто вроде общеизвестного ярмарочного балагана. Ясное дело: чудной, заманчивый, возможно, весьма выгодный – почему же не попробовать! Вон французы да немцы с итальянцами уже который год толпы собирают, а мы что, хуже? Пора и нам рискнуть... Конечно, по первопутку всегда рискованно. Но смелость города берёт!
И что другое могла ощущать Шурочка (Александра Васильевна) Гончарова, молоденькая актриса Введенского Народного дома, дочка одного из актёров этой небезызвестной, хотя и скромной театральной труппы? Симпатичная, даровитая, порядочная, не без лёгкой смазливости. Думаю, что ощущать значимость «чуда XX века» – и то смутно, – она начала лишь с того момента, как приобщилась к нему, то есть с 1908 года, а до этого синематограф был для неё сферой далёкой и чуждой.
Эта мысль – привлечь к киносъёмкам профессиональных актёров – пришла в голову Александру Ханжонкову, когда он, уже набивший руку на производстве хроник, вздумал заняться постановкой сюжетных русских картин. (Сюжетных – то есть игровых, так сказать, художественных). Тем более что один русский сюжетный фильм уже был и оказался весьма успешным. Увы, Ханжонкова опередил конкурент – всё тот же предприимчивый (и жуликоватый) Александр Дранков, а идею – точнее, сценарий «Понизовой вольницы» – ему подбросил сочинитель и фактически автор сюжета этой первой русской игровой киноленты. Звали его Василий Михайлович Гончаров.
Между прочим, именно Гончаров «подправил» лёгший в основу фильма сюжет песни «Из-за острова на стрежень», которую сочинил в 1870-е годы поэт и фольклорист Дмитрий Садовников. Зачем подправил? Наверно, затем, чтобы ярче обрисовать характер героя, показать его мужскую ревность и, так сказать, подчеркнуть значимость – а то в песне он выглядит слишком уж сомневающимся и зависимым от своих казаков. По идее Гончарова, один из приближённых Разина, чтобы убедить его избавиться от княжны, сочинил от её лица фальшивое любовное послание к некоему принцу Гассану. И правда, без этой фальшивки убиение невинной девушки выглядит как-то совсем негуманно...
Гончаров был уникальной личностью – воистину исторической! Его образ в иронико-поэтической форме выглядел так:
Господь, вселенную создав.
Навоз и глину замесил.
Был день шестой, был крут состав,
Немало Бог потратил сил.
Из смеси сделан был Адам —
Достойный сын священных рук
Был жизнерадостен, упрям,
Был строен, весел и упруг.
Добра и Зла запретный плод
Прекрасной смеси гибкость дал.
С тех пор хранит адамов род
Зачатки тех святых начал!..
Добро и Зло смешались в нём,
В нём глина смешана с говном.
Поэт, коль создан твой герой
Из добродетели единой,
Размокнет в дождь он, треснет в зной,
Подобно идолу из глины.
Поэт, героя ты обрёк,
Коль божьим средством пренебрёг!
Гончаров как раз и был таким героем – именно таким «божьим наказанием»... Родившись в 1861 году, довольно долгое время он пребывал в скромных железнодорожных чиновниках. Был не чужд сочинительства. Пописывал то небольшие рассказики, то пьески для театра – комедии из железнодорожной жизни. Их брали редко и не совсем охотно. Какой-то малоизвестный провинциальный театрик, кажется, разыграл две или даже три из них. Таким путём он приобщился к театру и к театральному делу. Видимо, он был не без способностей – и, чувствуя это, провозгласил себя большим режиссёром. Загордился. Стал обидчивым, а подчас даже склочным. Мнения доброхотов и так называемых профессионалов игнорировал. Внезапная смерть жены и одиночество усугубили его нервический нрав.
Однажды, прикатив зачем-то в Париж, он впервые увидел кинематограф и заболел им. Навсегда. Захотел писать и снимать для кино. Сочинил сценарий – ту самую «Понизовую вольницу». Сей опус он всучил Дранкову, рассчитывая, что сам и снимет фильм. Но Дранкову, страстному дельцу, а подчас просто халтурщику, режиссёр был без надобности – он сам справился с этой эффектной «пробой пера». И «Вольница», оказавшаяся первым русским фильмом, прогремела, как говорится, на всю Ивановскую.
Да, Гончаров страдал нездоровым упрямством и капризными припадками (от которых, к счастью, быстро отходил), и впечатление, которое он старался производить на окружающих – всезнающего и всемогущего мэтра – оправдывалось далеко не всегда. В нём, родившемся в Воронеже, было много провинциального апломба и даже прямой хлестаковщины, но надо признать: всё это искупалось фанатичной преданностью делу... говоря попросту – энтузиазмом. Он насмерть поссорился с Дранковым. Затем так же разругался с Паулем Тиманом, другим заметным пионером русского кино. И наконец...
«Ко мне в кабинет, – вспоминает Ханжонков, – вошёл человек среднего роста и средних лет в сером поношенном, но тщательно разглаженном костюме, с гладко выбритой головой. На его закрученных усах и бородке “клинушком” виднелась уже проседь. “Первый русский режиссёр исторических картин для синематографа!” – отрекомендовался он, причём с трудом выговаривая букву “р”, и разложил кучу визитных карточек с приписками от самых известных и влиятельных персонажей. Трудно было без улыбки слышать его детские (хоть отчасти и справедливые) жалобы на Дранкова: “Угрлобил Рлазина по перлвому рлазляду. Никаких эмоций, перлеживаний! Одно только и слышал от этого, извините за вырложение ‘фабрликанта’: ‘крлути да крлути’ – сойдёт!”». (Прошу прощения, я осмелился единственный раз как-то сымитировать забавную особливость речи у Гончарова).
Он основательно приклеился к Ханжонкову, хотя впоследствии между ними также не обошлось без ссор – очень уж неспокойный мужчина был Василий Михайлович. Но в целом их альянс оказался на редкость успешным и плодотворным. Ханжонков умел влиять на Гончарова, укрощать его темперамент, терпеливо поправлять, стараясь не умалить его престижа в глазах актёров и близких сотрудников.
В принципе, Гончаров был человеком добрейшим, компанейским, заводным – к тому же великим трудягой. Он был частенько способен на зависть, на обиду и, наверно, мог бы преуспеть побольше, не заноси его ребяческое самомнение. К его выходкам, закидонам и капризам окружающие относились с юмором, однако далеко не все и далеко не всегда. Актёры, которые больше других страдали от его нрава, часто обижались и раздражались – об этом вспоминала в своём дневнике и юная Шурочка (Александра Васильевна) Гончарова. Но Гончаров был ко всему прочему человеком дела. Он мог закапризничать, но, в конце концов, худо-бедно научился справляться со своими капризами.
Гончаров храбро пообещал Ханжонкову найти для него, для его будущих «сюжетных фильмов» лучших театральных актёров. Стал азартно искать их в знаменитых театральных труппах Корша, Зимина, Незлобина, искал даже в Малом театре, но всюду его высмеяли и фактически выставили за дверь. В этих престижных, избалованных успехом театрах никто не хотел рисковать своей репутацией, даже мизерной: какой там ещё синематограф? Базарная стыдобища!
Тогда-то и возник Введенский Народный дом, заведение недурное, но более чем скромное. Находился он далеко от центра – в Лефортове. Его публикой были в основном мещане, рабочие, мелкие ремесленники, жители городской окраины (в том числе и хулиганье) – словом, толпа, простонародье. Это был в полном смысле народный театр, видевший свою миссию в художественном просвещении – но отчасти и развлечении – народных низов.
Его основателем и хозяином был не кто иной, как сам Алексей Александрович Бахрушин. Потомок купцов-прасолов, известный и популярнейший благотворитель, он был одним из двух почётных граждан города Москвы (другой – князь Голицын, бывший городской голова), единственным купцом, получившим генеральский чин (кажется, за перестройку музея Академии наук), а вместе с чином, само собой, и дворянство. Виднейший меценат, фанатик театрального дела, суровый, требовательный и в то же время тотально справедливый, по-отечески любящий своих актёров. В своём особняке на Кузнецкой улице (где ныне знаменитый музей его имени) он часто устраивал обеды для своей труппы – притом нередко в театрализованной форме. То была некая смесь капустника и застолья. Надо ли говорить, что все актёры бахрушинского театра были патриотами и этого театра, и его хозяина?
Личность Бахрушина воистину была уникальна. Ведь ему наверняка было не очень-то выгодно отпускать своих актёров на «отхожий промысел» (да ещё такой сомнительный, как синематограф). Как всякий патриот театра, он не мог относиться к тогдашней «киношке» не свысока. Тем не менее, будучи разумным и честным купцом – а по сути, доподлинным интеллигентом, – он не стал чинить препятствий зачинателям этого новомодного дела. С осторожным любопытством реагировал на все страстные уговоры Гончарова. Ханжонков поддакивал.
Оба пустили в ход всё своё красноречие, чтобы убедить Бахрушина и его артистов испытать себя на новом поприще. Взахлёб говорили, что кино только-только разминает свои мускулы, что у него небывалое будущее, что пора уже вспомнить о своих великих традициях и начать производство собственных фильмов, отражающих русскую историю, русскую жизнь, русские нравы и обычаи. Ну и не преминули упомянуть про серьёзное вознаграждение.
Несмотря на все уговоры, большинство актёров всё же предпочли не связываться с кинематографом. Зато молодые решили рискнуть. Однофамилица режиссёра, уже известная нам Шурочка Гончарова оказалась в своём роде единственной – самой молодой и самой преуспевшей. Ей – миловидной, начитанной, наделённой добрым покладистым нравом, страстно любящей сцену, – как бы само собой была уготована роль звезды.
Можно представить, каково было ей, молоденькой и неопытной девочке, на этих съёмках. Вот сейчас включатся рампа, юпитеры, затрещит съёмочный аппарат, и Василий Михайлович, теряя всякое самообладание, начнёт кричать, размахивать руками, хлопать в ладоши, хвататься за голову и так остро переживать происходящее, что в какой-то момент вырвется за пределы дозволенного – собьёт с места и оператора, и аппарат, влезет внутрь картинки и, только всласть отведя душу, схватится за сердце и слегка успокоится.
В конце концов оператор Владимир Сиверсен, дабы как-то оградить себя от режиссёра, упросил Ханжонкова приставить к камере специального человека, которому вменялось в обязанность одёргивать Гончарова в самом буквальном и резком смысле – то есть хватать, отталкивать, удерживать за ворот, а часто и за руки...
Так или иначе, но именно благодаря Гончарову попали в кинематограф и юная его однофамилица, и Пётр Чардынин, артист, ставший вскорости одним из виднейших актёров и режиссёров русского кинематографа, и – угадайте кто? – Иван Мозжухин, бесспорно, ставший самым значимым, самым великим из актёров дореволюционной поры. Все они начинали в бахрушинском театре – и отчасти под суфлёрство Гончарова.
ПЕРВАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ
Всё было именно так, начиная с первой же встречи. То есть с первой из трёх картин, положивших начало кинематографу Ханжонкова, – «Русская свадьба XVI столетия».
Съёмки велись прямо на сцене Введенского Народного дома, в подлинных театральных декорациях. (Оценим ещё раз благодушную терпимость Бахрушина).
Что произошло в первый день съёмки, сходно описывают и сама Гончарова, и сам Ханжонков. На генеральной репетиции – непосредственно перед съёмкой – актёры, игравшие новобрачных (Гончарова и Громов), по приказу режиссёра «благословляйтесь!» очертя голову срывались с места и бросались к «родителям» – те, как сумасшедшие, то ли благословляли, то ли оглоушивали их иконой и хлебом-солью, затем вскакивали, точно с горячей плиты, и кидались в свой угол.
Оказалось, что Гончаров вышколил исполнителей таким образом, что весь эпизод умещался в три (!) съёмочные минуты. У Ханжонкова хватило ума моментально упразднить этот тренаж, а заодно убавить чрезмерную гримировку, при которой щёки, губы, глаза актёров выглядели на экране тёмными провалами. (Впрочем, ошибками тогда грешили все, и тайны экранного зрелища познавались, что называется, на ходу).
Отсняв «Русскую свадьбу», приступили к съёмкам «Песни про купца Калашникова» (натурально по Лермонтову). И тут исчезает «жена» главного героя Алёна Тимофеевна (то есть Шурочка Гончарова). Время идёт, но никто не решается войти в её уборную (мало ли что там?). Никого из женщин на съёмке, как назло, уже нет. Наконец самый главный – то есть Ханжонков – решается, подходит к двери и стучит. Просит открыть. Перед ним предстаёт заплаканная актриса с огромнейшим полотенцем в руках. На вопрос, почему она не идёт сниматься, девушка в слезах отвечает, что режиссёр приказал ей с помощью этого полотенца изменить свою... хм... внешность... касательно груди! Он счёл, что её грудь маловата и недостаточно импозантна для русской красавицы, и потребовал срочно восполнить недостающее – с помощью того же огромного полотенца.
Разумеется, Ханжонков тут же освободил её от этой «директивы», от души расхвалил её грациозный облик и быстро, хотя и с трудом, угомонил обиженного Василия Михайловича, начавшего было, как обычно, кричать о попрании своих режиссёрских прав. (Надо сказать, что известную бесцеремонность во время съёмки проявляла впоследствии и супруга хозяина, – притом нередко, – но с Гончаровым предпочитала не ссориться).
...Итак, в 1908 году родились три коротеньких одночастёвки – «Русская свадьба XVI столетия» (на сюжет одноимённой драмы малоизвестного драматурга П. Сухотина), «Выбор царской невесты» (по пьесе Л. Мея «Псковитянка») и «Песнь про купца Калашникова». Эти одночастёвки скромно знаменовали рождение кинематографа Ханжонкова, а заодно и рождение первой русской киноактрисы. И, само собой, первого кинорежиссёра.
Всё было внове для Шурочки Гончаровой на новой стезе. Пришлось познавать принципы игры – когда требовалось утрировать мимику, жестикуляцию, двигаться в ограниченном, строго размеченном пространстве, не выпадая из поля зрения аппарата, работать при слепящем свете юпитеров, входить в образ вне всякой сюжетной последовательности (сначала «умирать», а потом «блаженствовать от счастья»). Иногда одновременно снималось сразу несколько картин, и подчас не было времени и возможности толком понять, где, кого и за что нужно любить и обнимать.
Но труднее всего было играть во время натурных съёмок, хотя именно эти съёмки давали на экране наибольший эффект и были самыми увлекательными. К примеру, «Русалку» (по Пушкину) снимали на Москве-реке, в Крылатском. Поскольку Гончарова не умела плавать, то, бросившись из лодки в воду, она стала реально тонуть – по счастью, из воды её извлекли два молодца, заранее ожидающих в соседней лодке.
Однако не всё кончалось благополучно. На той же Москве-реке и тем же летом 1909 года Ханжонков и Гончаров снимали огромную по тем временам (в двух частях) историческую картину «Ермак Тимофеевич – покоритель Сибири». Ермака играл Пётр Чардынин, его дочь – неизменная Гончарова. По сценарию им предстояло героически переплывать Иртыш (то есть Москву-реку), спасаясь от злобных татар. Актрисе, одетой в бутафорскую кольчугу и панцирь, надо было продержаться на воде хотя бы две-три минуты – разумеется, при поддержке партнёра (Чардынин был отличным пловцом). После нескольких тренировок у берега это стало удаваться. Но когда отплыли подальше и началась съёмка, никто не заметил скрытую под водой рыбачью сеть – как раз на пути актёров. Пробарахтавшись пару метров, оба исполнителя запутались в этой сети и по-настоящему пошли ко дну. Поднялась паника. Утонуть им естественно, не дали, но страху натерпелись все.
Вода и огонь были главными врагами тогдашних натурных съёмок. Но они же создавали самый нужный эффект. И юной актрисе за пять лет пребывания в кинематографе довелось сполна испытать на себе коварство этих стихий. Самой эффектной сценой в «Князе Серебряном» (1911 год) был пожар в доме бояр Морозовых. В самый разгул огня главный герой должен был подскакать к дому, вынести из горящих хором боярышню Морозову (Гончарову), усадить на лошадь и умчаться. Как всегда в последний момент, когда огонь уже заметно разгорелся, выяснилось, что актёр Бирюков не умеет ездить верхом – разве что едва-едва держится в седле. А декорация уже занялась огнём.
Всё было готово к съёмке, актриса растерянно ждала сигнала «падать без чувств», а бедный актёр качался в седле, боязливо пытаясь слезть с него и вцепившись в лошадиную гриву. Все панически завопили, заахали. Не растерялся один Ханжонков (напомню, бывший донской хорунжий): он столкнул актёра с лошади, в два счёта натянул на себя его стрелецкий кафтан и шапку, лихо вскочил в седло и, схватив героиню, буквально бросил её перед собой на лошадиную холку. И всё это в двух шагах самого натурального пламени и дыма. Даже сам Гончаров не выдержал и с облегчением захлопал в ладоши.
Главным врагом Гончарова, то и дело замечает в своих записках Ханжонков, был его темперамент. Как только включался свет и начинал трещать съёмочный аппарат, режиссёр терял всякое самообладание. Стоя около камеры, он вопил, размахивал руками, хлопал в ладоши и так остро переживал происходящее на площадке, что буквально рвался туда, за пределы дозволенного, ничего не замечая вне сцены – в том числе и одёргиваний своего главного «охладителя».
Вот как запомнился – а лучше сказать, врезался в память – Ханжонкову и его жене последний съёмочный день «Ермака». Жена Ханжонкова Антонина Николаевна, будучи верной помощницей мужа, вела подробный дневник, где тщательно записывала хронику режиссёрской работы. Особенно смаковала она красочные эпизоды. К примеру, финальную часть фильма, где покоритель Сибири Ермак и его дочь бросаются с берега в Иртыш и героически гибнут. Ермак – как мы уже знаем – Пётр Иванович Чардынин, дочка – Александра Гончарова. Оба они «спят» в расцвеченном шатре. Гончаров наставляет Чардынина, громогласно шепча ему на ухо: «Смотри, Пётр Иваныч, не подгадь! Руби татарву сплеча! Меч у тебя деревянный, не бойся! А главное, не забудь вынырнуть в последний раз и погрозить на берег кулаком! Этим нюансом мы покажем всю неукротимость Ермакова нрава. И тут же тони!»
И вот раздаётся зычный глас режиссёра – он вопит: «Внимание – начинаем!!! У Ермака кошмар! Он тревожно ворочается во сне! Пётр Иваныч, вздохни поглубже и повороти голову к аппарату! Татары, выползайте из кустов! Передовой татарин, держи крепче кинжал в зубах, а то выпадет! Казаки у костра куняют носом... Татары окружают наших! Александра Васильевна, просыпайтесь! Хватайте поскорее меч! Короткая схватка! Больше жизни! Коли спящих! Души неспящих! Эй, там, старший, умирай поскорее... ещё скорее!., ещё! Второй отряд татар, выползайте! Охрана уничтожена... Окружайте шатёр! Скальтесь больше – зубов не видно!.. Ермак схватывает меч, бросается на нападающих! Руби направо, коли налево! Прокладывай путь к Иртышу! Татары, быстрее падайте и умирайте! Некогда тут с вами! Не мешайте дочке пробиваться! Ермак, бросайся в воду! Татары, засыпайте их стрелами!»
...Я прошу извинить меня за небольшое отступление. Самое интересное, что подобные режиссёрские озвучания были, в сущности, заимствованы у театра и стихийно передались немому кинематографу. Пётр Иванович Чардынин, главный ученик Гончарова, ставший вскоре популярнейшим режиссёром, продолжал следовать этой распространённой методе. Правда, уже не столь темпераментно. Под рукой супруги Ханжонкова – это она быстро, стенографически записывала все словесные детали съёмки – дело выглядело так:
Чардынин у аппарата и говорит: «Входите, Вера Васильевна... Вошла... Оглядела задумчиво комнату... Остановилась около туалетного стола... Увидела письмо... Взяла, распечатала... На лице недоумение, досада... Побейте пальцами по столу... Громче, раздражённей... Так, так, а теперь с горькой усмешкой на губах разорвите письмо...» И так далее. А между прочим, режиссёр в данном разе снимал фильм с самой Верой Холодной...
Невольно хочу сделать ещё одно небольшое, но выразительное отступление в том же духе. Небезызвестный артист Амо Бек-Назаров вспоминал один из первых своих фильмов с Верой Холодной и... Антониной Батаровской (Ханжонковой). Последняя, будучи главой фирмы Ханжонкова, часто брала на себя постановку – разумеется, если это был её собственный фильм (в данном случае это был её «Огненный дьявол»).
Кратко цитирую артиста: «Дело было зимой. Съёмки велись в Нескучном саду, возле маленького домика. Отсюда полагалось мне похитить актрису и нести её на руках метров сто пятьдесят к саням. Я двигался очень медленно, увязая в глубоком снегу, а моя партнёрша, которой по роли полагалось быть в обморочном состоянии, шептала мне на ухо: “Бедненький! Мне вас жалко!” Большей чепухи Антонина, конечно, не могла придумать. Тут я споткнулся, провалился чуть не по пояс в яму, присыпанную снегом, и не смог удержать свою драгоценную ношу... В испуге наклоняюсь к ней, ожидая восклицаний боли, упрёка, но слышу в ответ: “И прекрасно! Так ей и надо!” И вдруг голос режиссёра (Чардынина. – М.К.): “Отлично! Очень выразительно! Блеск! Ну, что ж вы встали! Поднимайте её, несите дальше!”... Оставшуюся часть пути мы преодолели успешно, хотя Холодная смешила меня, шепча на ухо всякие колкости. Но по окончании съёмки мы вдруг удостоились похвалы и режиссёра, и самой хозяйки “за необыкновенную естественность нашей игры”».
...С «Ермаком», как считал Ханжонков, всё тоже кончилось не так уж плохо: Ермак потонул по всем правилам, а без последнего «эффекта» (как назло, отклеившихся у него бороды и усов) можно было и обойтись...
Эти первые русские киносъёмки чуть ли не каждый раз были чреваты или весёлым недоразумением (вроде утонувшей бороды), или подлинным драматизмом. То одна, то другая осечка – нежданная, подчас глупая, нелепейшая... а подчас и опасная для фильма и самих актёров. К ним уже привыкли, притерпелись, относились с юмором, находя в них частенько «жемчужные зёрна». Нисколько не стесняясь, со всей простодушной доморощенностью, снимали русскую классику, русские сказки, русские песни, видя в них живой, беспроигрышный материал.
В это первое и, к несчастью, последнее пятилетие своей кинокарьеры Шурочка Гончарова являла себя на экране чрезвычайно часто: «Боярин Орша», «Власть тьмы», «Женитьба», «Вадим», «Драма в Москве», «Роковое пари», «Ермак Тимофеевич», «Идиот», «Коробейники», «Маскарад», «Пиковая дама», «В полночь на кладбище», «Русалка», «Крестьянская доля», «Преступление и наказание», «Евгений Онегин», «Светит, да не греет», «Чародейка» и т. д. Некое, пусть отдалённое подобие великих творений так или иначе сквозило в этих простодушных «живых картинах». И сквозило оно в первую очередь в персонажах, то есть в актёрах – в их лицах, взглядах, осанке, походке, улыбках, слезах. Именно в Гончаровой впервые угадалась та женская типажность, которая впоследствии будет чудодейственно провоцировать зрительскую любовь к Зое Баранцевич, Ольге Гзовской, Марии Германовой, Марии Горичевой, Софье Гославской, Наталье Кованько, Вере Юреневой, Наталье Лисенко, Вере Каралли... Которая вскоре выявит себя в Вере Холодной.
Выше я произнёс слово «звезда». Тут приходится сделать оговорку. В кинематографе самых первых лет ещё не было наглядной системы «звёзд» – разве что в самом зачатке. То есть никто и ничто не работало «на разогрев» популярности того или иного артиста. Не было действенной кинопрессы. Не было рекламной шумихи. Ни женский, ни мужской фетишизм ещё не показали себя на киноэкране в полную силу. Ещё не обрели они зримой кинотипажности – «маски», которую зритель, полюбив и запомнив, сделал бы объектом своих романтических пристрастий.
Заметим, что понятие «звезды» уже вовсю бытовало в западном кино, обогнавшем нас и здесь. Но что-то подобное брезжило и в нашем раннем кинематографе. Во всяком случае, начав сниматься в кино, Шурочка Гончарова ощутила (и отметила в своём дневнике), как резко возрос интерес к её особе в просвещённой среде – особенно среди студенческой братии и журналистов. А в дневнике её, относящемся к зиме 1912 года, мы находим горьковатые строчки: «У Ханжонкова стало противно. Система кумиров отвратительна». Это уже прямая речь про это самое! Трудно сказать, что вызвало такую реакцию у актрисы – судя по всему, она повздорила с кем-то из других фаворитов (или фавориток) публики, но запись определённо пометила что-то сущее, непременное.
Гончарова ещё три-четыре года продолжала активно сниматься и рассталась с кинематографом в общем бесконфликтно. Об этом красноречиво говорят её дневниковые записи: «Об Александре Алексеевиче Ханжонкове можно сказать как о человеке очень гуманном и по-товарищески относившемся к нам, актёрам, и всегда шедшем нам навстречу во всех случаях жизни. Вплоть до материальной поддержки».
Увы, приходится вчерне помянуть и две печальные странички из житейской и творческой биографии Гончаровой. Одна, пожалуй, скорее забавна, нежели драматична. Это было так: однажды к ней подошла подруга (тоже актриса) и передала просьбу Василия Михайловича Гончарова – узнать у «нашей юной героини», не выйдет ли она за него... замуж? Это было очень серьёзное, хотя и очень потешное предложение. При всей серьёзности, оно вызвало хохот у юной Гончаровой («И менять фамилию не нужно будет!»). Хотя смеяться было ни к чему – впору было пожалеть неугомонного старикана.
Зато другая страница была – будто в отместку – гораздо драматичнее. Гончарова ушла из кинематографа, а вместе с тем и из театра. Ушла в 1915 (или всё же в 1916-м) году. (Кстати, в трёх последних киношных работах её партнёром стал Иван Мозжухин, смело начавший свой триумфальный путь. Занятно, что все три картины были, что называется, из жизни простонародья – две деревенские картины и одна про так называемый рабочий класс. Это были по тем временам довольно длинные картины – каждая в 30—40 минут. Темы их были, судя по названиям, довольно красноречивы: одна «Горе – не беда», другая – «Крестьянская доля», а третья – «Рабочая слободка». Но это к слову).
Столь раннее и резкое расставание актрисы со своей театральной и экранной профессией (а ведь ей было всего 26 лет) не может не удивлять и невольно заставляет думать о наличии неожиданных и бесповоротных обстоятельств. Действительно, из дневника её можно узнать, что перемену судьбы обусловила драматичная любовная история. Она таки полюбила. Не знаю всех подробностей: знаю только, что любимый человек (не актёр) фактически бросил её. Назло себе и всем она вышла замуж. Муж был едва ли не сказочно состоятелен, но, как часто случалось, поставил условием бросить актёрскую карьеру. Навсегда... О дальнейших перипетиях её судьбы распространяться не обязательно. Скажем только, что умерла Александра Васильевна в Москве в 1969 году.