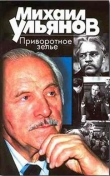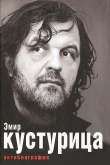Текст книги " Контакты на разных уровнях."
Автор книги: Марк Захаров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Мы играли каждый день, но наши парижские спектакли так и не превратились у нас в механическое действо, не обросли чисто техническими имитациями жизненных процессов. Мы ощущали себя представителями русской театральной школы и очень гордились нашим запасом сил и вдохновения.
{378} Во второй половине гастролей у нас появилось много постоянных зрителей, которые смотрели наш спектакль по многу раз, некоторые русские парижане приводили детей, иногда даже пяти-шестилетних, и объясняли им, что все, что они видят, надо запомнить, потому что на сцене – настоящий русский язык и настоящая русская поэзия.
Однажды после второго выстрела артиста Павла Смеяна в нашего дирижера Геннадия Трофимова, когда тот, трагически взмахнув руками, грохнулся на авансцене, одна солидная дама вывела из зала плачущего ребенка и строго сказала:
– Да!.. Я не знаю, почему мсье постоянно стреляет в дирижера. Я этого не знаю. Но у него отличный русский язык, и мы должны досмотреть это до конца!
Присутствующий рядом режиссер-постановщик, во-первых, потерял серьез, потому что вдруг осознал, что и сам до конца не очень понимает, зачем мсье постоянно стреляет в дирижера, а во-вторых, глядя на своего испуганного и плачущего собрата, кажется, впервые пожалел о некотором переизбытке постановочных эффектов. Режиссерам тоже иногда свойственно критическое отношение к собственному творчеству. Хотя такое случается нечасто.
Мы увидели в Париже все то, что уже так хорошо описано другими людьми, побывавшими здесь до нас. В этом смысле ездить в Париж необязательно. Тем не менее мы тщательно осмотрели уникальные музеи, соборы, ансамбли Версаля, Шартра, Латинский квартал, Большие бульвары, Монмартр, лавки букинистов… Словом, впечатлений было предостаточно. Карден организовал для нашего коллектива роскошную экскурсию по Сене на плавучем ресторане, потом не раз приглашал всех нас к себе на приемы, в том числе в знаменитый ресторан «Максим», где {379} цены не поддаются осмыслению и повергают нормальных людей в ужас. Ресторан «Максим» с недавних пор принадлежит Кардену. Мы с интересом осматривали его стены – почти музейное достояние. Именно здесь рождался архитектурный стиль модерн начала века. Здесь он еще не определился окончательно, это первые, ранние поиски и тем не менее – точка отсчета. Позднее у нас в России этот некогда презираемый аристократическими кругами общества купеческий «моветон» обрел большое великолепие и особый дизайнерский изыск. В таком стиле был построен не только Художественный общедоступный театр в Камергерском переулке, но и дорогое нашему сердцу здание бывшего Купеческого клуба, где ныне работает московский «Ленком».
Как все зарубежные рестораны, «Максим» не совмещен с дискотекой, и там можно разговаривать. Хорошо слышно друг друга, только иногда в одном зале играет тихая музыка, и мы пользовались этим обстоятельством и разговаривали. С легкой руки Александра Абдулова весь коллектив мучился в догадках: будет Карден платить за ужин или не будет? Если свой ресторан – зачем, спрашивается, платить? И кому? Потом мы отвлеклись от этой неразрешимой для нас проблемы, потому что, когда из «Максима» ушли все посторонние посетители, знаменитая французская певица Мирей Матье пела специально для нас. В этот вечер она пришла на наш спектакль со своим красивым седовласым импресарио, несколько напоминавшим Раймонда Паулса, что усиливало наши симпатии и к импресарио, и к самой Мирей Матье. Когда начались долгие финальные аплодисменты, Мирей Матье поднялась на сцену «Эспас Карден» с огромным букетом роз и вручила их, к большому удовольствию зала, Елене Шаниной, исполнительнице роли Кончитты. Ныне заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина имела в Париже большой успех, и, что интересно, несколько {380} больший, чем у себя дома. Думаю, в Москве огромная популярность Николая Караченцова несколько отвлекает зрителей от других актерских работ, но, возможно, это мое поверхностное суждение и я не учитываю других, неизвестных мне факторов, до которых не дотянулся мой режиссерский разум. Но даже когда режиссерский разум и не дотягивается до чего-либо, тренировать его надо постоянно.
Седовласый импресарио в этот вечер обратился ко мне с громогласной просьбой – зачислить в нашу труппу звезду французской эстрады Мирей Матье, чтобы приучить ее наконец к порядку и дисциплине. Слухи о том, что у нас очень строгое заведение, быстро разнеслись по Парижу. Мы иногда тоже умеем кое-что преувеличивать.
Конечно, мы осмотрели все достопримечательности Парижа, посетили все музеи, чтобы потом с чистой совестью ходить по магазинам и чувствовать себя интеллектуалами, которые иногда снисходят и до земных, чисто бытовых проблем. Мы побывали также на очень красочных и изобретательно поставленных шоу в эстрадных театрах: «Фолибержер», «Мулен Руж», «Лидо». Нас поразило обилие лазеров, дымов, разного рода световых эффектов, богатых костюмов, живых слонов, дрессированных дельфинов, прыгающих, на зависть Абдулову, прямо с потолка, и объятых пламенем каскадеров; обрушилось на нас и множество других ослепительных неожиданностей.
Небольшая группа артистов была приглашена Карденом в очень дорогое варьете «Крези хоре» («Бешеная лошадь»), предназначенное для особо богатых гостей Парижа. В этом всемирно известном заведении приблизительно двенадцать очень красивых и актерски одаренных танцовщиц создавали в течение часа изощренные и по-своему изящные эротические фантазии. Лично меня поразила не столько высокая пластическая техника и красота исполнительниц, сколько {381} необыкновенная ловкость и филигранность режиссерского мышления. В середине каждого номера кажется, что дело вот‑вот обернется банальным стриптизом, но в самый последний момент постановочное искусство совершало едва заметный зигзаг – и вместо заурядного стриптиза на сцене возникало нечто вроде смелого решения любовной темы. Даже в том случае, когда исполнительница обходилась в своем творчестве совершенно без одежды, – все равно за счет мощных световых проекций тело ее принимало облик достаточно обобщенный: женщина – вообще. Появлялись даже мысли о красоте человеческой пластики во всех ее проявлениях, в том числе и сугубо интимного характера.
Вообще в Париже нас достаточно часто посещали противоречивые чувства. Например, в метро. Не очень приятная (точнее, непривычная для нас) традиция – побирающаяся молодежь. Правда, лица у ребят, как правило, обаятельные, глаза смышленые, заходят по очереди в каждый вагон с музыкальными инструментами и играют. Как нам потом объяснили, это в основном студенты готовятся к сессии. Как бы репетируют и попутно зарабатывают на кофе, а некоторые еще и на сандвичи. Играют не только в вагонах, но и в подземных переходах и кассовых вестибюлях. Играют прилично, иногда даже виртуозно, и в репертуаре никакой разнузданности и оглушительности. Все очень чинно, благородно, осмысленно. Никакого эстрадного засилия. В парижском метро музыка звучит разная. Очень запомнились мне две девочки лет по четырнадцать. Стояли в переходе перед пюпитрами, одна с флейтой, другая со скрипкой, и приучали людей к хорошей классической музыке. Кто хотел – бросал им под ноги монеты, а кто не хотел – проходил мимо. Мы тоже бросали, и не раз, чтобы развеять миф о том, что советские люди за рубежом якобы очень экономят деньги. Мы действительно то очень {382} их экономили, то совершенно переставали их экономить. Дружно и не сговариваясь.
Словом, везде в Париже нам было интересно, неинтересно было только в парижских театрах. Раза три-четыре ходили мы смотреть спектакли, которые наши французские друзья рекомендовали нам посмотреть как наиболее интересные, и каждый раз уходили в антракте. Дружно и не сговариваясь. Те наилучшие спектакли в Париже, которые мы видели, в значительной степени уступали наилучшим московским, ленинградским, тбилисским и другим советским спектаклям. Сказал я об этом своим товарищам, и товарищи не стали со мной спорить, не потому что я главный режиссер, а потому что насквозь прав. Правда, в период нашего пребывания во французской столице не работал театр Питера Брука. Это существенно. И досадно.
Во время одного из таких малоудачных театральных походов посетила меня еще одна мысль. На этот раз патриотическая. Спектакль, который имеет неоспоримую ценность в Москве, вовсе не домашняя радость. Такой спектакль – объективная ценность современной театральной культуры. Сказал я об этом товарищам, и снова товарищи со мной согласились, чувствуя мою все возрастающую правоту. У нас очень много людей, умеющих работать отлично, на уровне самых высоких мировых стандартов. Надо быть скромным, но не скромничать излишне. И эту мысль тоже никто из товарищей оспаривать не стал, не потому что я надоел товарищам, а потому что опять оказался правым.
Лишь одно театральное впечатление Парижа прочно задержалось в моей памяти и, более того, вызвало чувства сложные и опять-таки противоречивые. Впечатление неоднозначное и не театральное в чистом виде. Речь идет о своеобразном «массовом зрелище» на окраине {383} Парижа, поставленном в закрытом спортивном стадионе, рассчитанном на четыре тысячи человек. Называется зрелище «Человек по имени Иисус». Мизансцены Робера Оссеина.
Известный французский актер и режиссер Робер Оссеин специализируется в последние годы на постановках такого рода зрелищ в больших концертных и спортивных залах. Несколько лет назад он явился автором и постановщиком спектакля о революционных событиях на броненосце «Потемкин», потом им был поставлен «Собор Парижской Богоматери» по Гюго и вот теперь – пользующаяся огромным успехом современная мистерия из жизни Христа.
Не сразу сумели администраторы Кардена достать нам билеты на это представление. Второй месяц игралось оно ежедневно, и ежедневно в огромном спортивном зале – аншлаг.
Первое приятное ощущение – легкая дымовая завеса над трибунами – похоже на наше начало в «Юноне и Авось». Правда, через каждые три-четыре минуты голос диктора торжественно объявляет по стадиону, что дым, который стелется над трибунами, состоит из специальных органических веществ и не представляет никакой угрозы для здоровья. В связи с этим через каждые три-четыре минуты диктор просит соблюдать полное спокойствие. Мы таких торжественных заявлений, естественно, делать не можем, спокойствия у нас вообще не бывает. А из чего состоит наш дым, мы толком не знаем, хотя привыкли к нему и он нам нравится. Понравился он также и французам. Когда мы уезжали, дирекция «Эспас Карден» попросила у нас для сценических нужд театра, а также на память о нашем пребывании немного нашего дыма. Мы торжественно преподнесли дирекции целый полиэтиленовый мешочек с порошком. У них во Франции многое есть, но вот такого именно дыма нету. Не могут такого выдумать. И мы были очень горды этим обстоятельством.
{384} Дым французского производства понемногу стелился, трибуны парижского стадиона заполнялись.
На том месте, где располагается обычно ледяное хоккейное поле, – выжженная солнцем земля; там, где обычно электронное табло, – огромное пространство с величественными декорациями: далекий гористый пейзаж, а на переднем плане мрачноватый скалистый холм – Голгофа. Декорации выполнены с кинематографической тщательностью и размахом. По всему периметру стадиона – ряды мощной электроосветительной аппаратуры, большое и богатое разнообразие приборов.
Спектакль начинается весьма выразительным образом и вместе с тем просто. Является на стадион чувство тревоги. Не сразу ясно – откуда именно. Медленно нарастает далекий гул, как поток извергающейся лавы, сначала едва слышный рокот (очень низкие частоты), потом все более мощный и тревожный звуковой вал приближается к нам медленно и неотвратимо, меркнет свет, и после короткого затемнения на выжженной солнцем земле появляется фигура в светлой одежде. В самом центре стадионного пространства стоит рослый и красивый человек. Он выглядит так, как представляет себе Иисуса Христа подавляющее большинство живущих на Земле людей. Человек по имени Иисус долго смотрит на заполненные трибуны стадиона и потом произносит имена двенадцати апостолов. Произносит тихо, выразительно, знакомые, чуть видоизмененные в произношении имена: «Симон, Петр, Филипп, Иуда…» Произносит медленно, так же медленно на переполненных трибунах среди опоздавших и уже спокойно восседающих зрителей начинают подниматься и пробираться вниз молодые люди. Некоторые охотно, некоторые неохотно, неуверенно, словно раздумывая, стоит идти к Нему или не стоит, спускаются они по лестнице вниз, выходят на открытую площадку выжженной библейской {385} земли и не слишком дружно приближаются к Христу.
Спустившиеся с трибун люди – молодые ребята, самые что ни на есть типичные среднестатистические французы, без головных уборов, в потертых куртках и таких же штанах. Уж очень не похожи они на артистов. И в этом все дело. А прием, конечно, старый – цирковая «подсадка», это понятно, а вот какое-то новое, неуловимое своеобразие в нем все же есть. Может быть, оттого, что дело происходит на стадионе и все последующие мизансцены, все постановочное мышление режиссера целиком и полностью рассчитаны на этот масштаб, на это обильное заполнение трибун. И это движение людей самых реальных, обыкновенных, ничем не примечательных в центр стадиона к человеку, чье имя небезразлично сегодня каждому из нас, вне зависимости, верующий он или атеист, – это движение к позвавшему их создает какую-то особую магию. Движение собирает наше зрительское внимание и вызывает в нас чувство доверия к тому, что будет происходить с этими людьми.
Потом молодые люди удалятся и явятся чуть позже уже в длинных библейских одеяниях, и вообще все участники спектакля будут одеты сообразно эпохе и сольются с очень добротным, я бы сказал, академическим оформлением, рассчитанным на массовое, среднестатистическое восприятие событий Нового Завета. Никаких особых усилий зрителю делать не надо – все очень понятно, ясно, зримо, диалогов мало, как в хорошем кино. И полнейшая сюжетная ясность, вне зависимости от знания французского языка. В представлении используется радиозапись, как на наших новогодних елках, где Дед Мороз только рот открывает, а вместо него звучит давно записанная фонограмма. Но фонограмма у Оссеина добротная, и музыка подобрана со вкусом, звучит и Бах, и Моцарт, и Чайковский, есть и цыганские напевы и {386} немного современной музыки. На очень высоком уровне свет, на каком уровне артисты – понять трудно. Их очень много, свыше ста пятидесяти, одеты в красивые исторические костюмы, как в хорошей и богатой опере. Когда римские легионеры волокут по стадиону сочувствующих Христу людей, волокут прямо по лестницам, сверху вниз, мимо переполненных трибун, видно, как хороши и натуральны латы легионеров, как звенит настоящий металл и как остро наточены мечи. Само представление складывается из отдельных красочных картин, с большими массовками, где каждый статист или артист (что неясно) работает очень выразительно и добросовестно, как у нас на премьере детского спектакля работают стражники, медведи, простой народ. Особых достоинств пластического или какого другого характера за французскими артистами не числится. Но уж если кто побежал – то изо всех сил; если уж остановился – то как вкопанный.
Робер Оссеин замечательно чувствует огромное пространство, и жанр его режиссерского сочинения точно вписывается в это громадное спортивное сооружение. Его режиссура рассчитана на эту геометрию и на это количество зрителей. Последний раз такого рода радость от подобной постановочной гармонии я испытал в 1967 году в Театре Советской Армии на памятном всем нам спектакле Леонида Хейфеца «Смерть Иоанна Грозного», где все невообразимые архитектурные сложности этого театра были обращены режиссером в сильнодействующие средства современной сценической выразительности. Но спектакль Леонида Хейфеца был актом настоящего искусства, а что делать со спектаклем Робера Оссеина и куда его отнести – я до сих пор не очень понимаю. С одной стороны, добротный, коммерчески выверенный коктейль из режиссерских построений, рассчитанных на усредненное восприятие массового зрителя. Тема Христа, {387} его движение к Голгофе и сама Голгофа – все это на уровне хороших иллюстраций. Иногда на уровне детских переводных картинок. И я бы, конечно, не тратил столько времени на описание этого представления, если бы не один момент в режиссуре Робера Оссеина, который потряс меня, вызвал большое количество раздумий о том, что есть наша профессия и какими рычагами воздействия она обладает.
Речь идет об одном библейском чуде, а именно о том, как Христос накормил четыре тысячи человек семью хлебами. Это событие воссоздано режиссером следующим образом: тоскливая и заунывная музыкальная тема, Христос с апостолами движется через пустыню, за ним следует толпа голодных людей Апостолы напоминают Христу об этих голодных. Он останавливается и, обернувшись к апостолам, достает из складок своих одежд небольшую стандартную французскую булочку. Потом, разломив ее, передает апостолам с каким-то пояснительным текстом. У апостолов тоже появляется несколько булочек, и они, разламывая их на части, передают голодным и страдающим. И несмотря на то, что толпа голодных людей весьма внушительна, а булочек всего семь, хлеба хватает на всех. Наверное, не ахти какой сложности фокус, но делается он очень грамотно, и мы не замечаем никакого добавления хлеба. Но потом наступает момент режиссерского прозрения. Христос оборачивается к трибунам стадиона и, подумав, указывает рукой в сторону сидящих зрителей. Он просит поделиться хлебом и с сидящими на стадионе зрителями. Он просит всех имеющих хлеб поделиться этим хлебом с другими людьми. Участники спектакля расходятся в разные стороны, приближаются к трибунам. Небольшие кусочки хлеба протянуты первым рядам. И вот они поплыли вверх. Стадион замирает. На всех трибунах зрители получают хлеб, надламывают его и передают выше, следующим рядам. Ощущение ни {388} с чем не сравнимое: француз, сидящий передо мной (амфитеатр на стадионе крутой), протягивает мне кусочек булки, я медленно принимаю из его рук этот неожиданный и ни с чем не сравнимый дар, жую свежий и душистый хлеб и оставшуюся часть передаю в руки тех, кто тянется ко мне сверху. На стадионе – благоговейная тишина, четыре тысячи людей делятся друг с другом хлебом. И хлеба хватает всем. Мы все становимся свидетелями какого-то первозданного и великого человеческого ритуала. Он длится достаточно долго и протекает в абсолютной тишине. От нахлынувшего волнения и режиссерской зависти я не могу запомнить, как долго длится пауза на французском стадионе. В эти мгновения я прощаю Роберу Оссеину все его дальнейшие не слишком ловкие и достаточно заурядные постановочные картинки, ибо это – прекрасный и неожиданный, опрокидывающий меня, вводящий в состояние шока урок современной режиссуры. Не хочется называть это сочинение с хлебом трюком. Но с точки зрения нашей профессии это трюк. Что делать? Придуман такой достаточно простой фокус. Простой по мысли и исполнению. И в этой простоте – его режиссерское величие.
А дальше, я уже говорил, дело складывается хотя и добротным, но достаточно банальным образом. Может быть, уже в самом конце снова проявляется высокая режиссерская одаренность Оссеина. Распят Христос вместе с двумя разбойниками на Голгофе. Финал. Три креста с кровоточащими телами безмолвно возвышаются над стадионом, и вдруг врывается сюда рев реактивных двигателей, гудки автомобилей и прочие звуки современной урбанистической среды, является на поле группа нынешних туристов с фото– и киноаппаратами, почти как в нашем спектакле «В списках не значился». Тот же самый сюжетный ход – на место кровавой трагедии приходит новое поколение людей. У нас туристы приходят на развалины {389} Брестской крепости. И эти новые люди не обязательно должны рыдать по поводу случившегося – они туристы, и в том нет ничего плохого, нет ничего кощунственного. Связь времен осуществляется в нашем мире не всегда зримо и по прямой, наша духовная взаимосвязь с ушедшими ценностями прежних эпох рождается в сложном зигзагообразном построении, и надо быть терпеливым, не раздражительным человеком, чтобы не спеша распознать тоненькую, витиеватую, с временными обрывами цепочку духовной преемственности. Цепочку, связывающую нас с космосом нашей общей истории.
Самое выразительное в финале Оссеина – появление одиннадцати уцелевших апостолов, снова, как и в самом начале спектакля, в своих современных костюмах. Они расходятся в разные концы света, точнее, направляются в разные концы стадиона и зовут туристов с собой. И кое-кто пускается в путь вместе с ними, кто-то уверенно, кто-то осторожно раздумывая и неуверенно оглядываясь по сторонам, но кто-то и не следует их зову, кто-то остается стоять на месте, полный сомнений. А молодые апостолы в современных костюмах поднимаются вверх на трибуны и как-то незаметно теряются в человеческой массе, растворяясь в огромном зрительском муравейнике.
Потом звучат аплодисменты, и внушительная по количеству компания артистов долго раскланивается. Артисты они или просто статисты, понять действительно сложно. Но мы тоже не боги, с нами тоже не все до конца ясно, и поэтому мы их долго благодарим и даже заходим к ним за кулисы. Что делать? Коллеги.
Самое сильное мое впечатление во Франции – это посещение русского православного кладбища Сент-Женевьев-де-Буа, что в тридцати километрах от Парижа.
{390} Сравнительно небольшое пространство, ряды одинаковых прямоугольных плит с крестами или миниатюрными полутораметровыми моделями церковных маковок. Никакого соревнования по части изощренных надгробных монументов. Никаких увесистых калиток и оград с замками, собственными столами и скамейками. Царит дух сурового и вместе с тем заботливого посмертного равенства. В единстве умерших на чужбине заложена какая-то сильная идея, может быть, комплекс идей, в которых не так просто разобраться. Есть и свои немаловажные особенности: просьба не оставлять на могилах живые цветы. Это правило оборачивается в конечном счете определенным устойчивым настроением – на Сент-Женевьев-де-Буа нет никакого мусора, нет увядших, погибших растений, нет забытых, неухоженных могил с сухими стеблями бывших букетов. Не пахнет тленом. Нет кладбищенского сумрака. Деревьев не больше, чем следует. Пространство открыто небу. Очень чисто и опрятно. Настроение поначалу возникает отнюдь не кладбищенское, но это лишь поначалу. Потом возникает не просто печаль, а нечто большее, что, возможно, не удастся мне до конца передать словами.
Кладбище – место, где на психику человека обрушивается лавина очень сильных и разнородных ощущений. Режиссер, наверное, обязан задумываться обо всем на свете, обязан он размышлять и о тех смутных ощущениях, что возникают порой в недрах его подсознания и незаметно до поры до времени существуют там в процессе какого-то тайного созидания. Что именно созидается в тайниках нашего разума, когда сам разум еще не контролирует подобный процесс, – загадочно. Вопрос притягательный и пока неразрешимый, так же как не ясен, скажем, механизм сверхскоростных подсчетов астрономических цифр, что демонстрируют нам отдельные феномены на эстраде, немогущие толком объяснить, каким образом они совершают свои подсчеты. {391} Такой подспудный загадочный процесс можно распознать мгновенным озарением, но можно и мучиться бесконечно от долгих и неясных предчувствий. На кладбище Сент-Женевьев-де-Буа я очень скоро начал испытывать нечто подобное.
Теперь все чаще нас посещают мысли о том, в какой сложной многообразной взаимосвязи пребываем мы в своем временном поселении на нашей маленькой планете, как витиевато переплетаются на ней судьбы живых и уже покинувших ее жителей. В каком странном взаимодействии противоборствующих идей и конкретных судеб формируется наша общая земная история. Похоже, что история наша, в том числе новейшая, фиксируется не единожды. Не сразу. Похоже, что формируется она медленно, не одним-единственным поколением очевидцев, формируется неторопливо, поэтапно, усилиями многих умов и совсем не грех подключать временами к этому глобальному вселенскому осознанию и наш скромный театральный разум. Разум, располагающий собственными исходными данными, не столько фактологического характера, сколько мотивациями психологического и эмоционального плана. Но ведь все человеческие эмоции – реальность вполне объективная, точнее, могущая таковой стать. Прозорливый писатель иногда видит дальше и глубже прозорливого историка. А театральный сочинитель во многом сродни ответственному за свои мысли литератору. Будем надеяться, что наши театральные фантазии состоят не из одних только ошибок и малозначащих субъективных эмоций.
Волнение – слово в театральном мире истертое. Чуть что, говорим: «с большим волнением», «извините, я очень волнуюсь» (оставаясь при этом предельно спокойным). Но здесь меня посетило Волнение. Истинное. Отчасти непонятное. И пытаясь его разгадать, не умея это сделать строго и просто, я в предыдущих абзацах своего писания достаточно пометался {392} между космосом, земной историей, вечностью и Вселенной. Как ни странно, но все эти высокие категории продолжают вращаться в моем сознании, когда я думаю о русских людях, похороненных под Парижем.
Отдельные участки кладбища – словно застывшая в своем печальном и торжественном безмолвии история гражданской войны. Та самая история, которую изучал я когда-то в школе. Офицеры старой русской армии лежат во французской земле отдельными «боевыми» соединениями. Впервые в жизни я видел настоящую, не бутафорскую военную символику великой Российской державы. Знаки отдельных воинских образований, ведущих свою историю с петровских времен. Есть такие магические словосочетания: «Гвардейский Преображенский полк…» До этого мгновения я видел лишь их кинематографическую имитацию. Теперь передо мной была моя живая история, ставшая мертвой. Неужели это и есть то самое, что принято называть свалкой или кладбищем истории? Поспорить с этим не могу. Но очень хочется.
На некоторых каменных плитах выбиты миниатюрные изображения полосатого военно-морского Андреевского флага. В нашем спектакле Резанов отправляется в «Первое кругосветное путешествие россиян» под этим легендарным полотнищем петровского военного гения. В «Оптимистической трагедии» капитан Беринг говорит нам о том, что его семья служила русскому флоту двести лет. Время, если оно заполнено работой человеческого разума, постепенно стирает не только старые условные, но, по-моему, и безусловные рефлексы. Я помню, с чем в предвоенные годы ассоциировалось у нас слово «офицер». Помню тот шок 43‑го года, когда на солдатах уже не Красной, а Советской Армии появились первые погоны и сверкнула на глазах изумленных людей золоченая офицерская портупея.
{393} И вот теперь на земле Франции передо мной выбитый на русских военных надгробиях древний византийский орел – двуглавый красавец, с которым связаны не только наши исторические печали, но и слава, дерзость наших предков, наш древний византийский дух Третьего Рима, отвага русских чудо-богатырей.
В двадцати пяти процентах моей крови намешаны еврейская и отчасти татарская кровь. В семидесяти пяти процентах моей крови – чистая славянская старомосковская основа. Вот она-то, наверное, не объясняя толком почему и зачем (она всегда так), сжала меня за горло и застучала в висках. Я помню, как ноги стали ватными, когда я ощутил эти запахи трагической и родной российской истории. Как захотелось вернуть этих людей если и не к жизни (они уже не могут в нее вписаться), то хотя бы в родную землю, как вернулся в нее совсем недавно прах великого Шаляпина.
Возможно, некоторые из похороненных здесь стреляли в моего отца. Он принимал участие в гражданской войне. Возможно, в кого-то из этих людей стрелял он. Не исключено, что здесь лежат возможные, потенциальные его убийцы (тогда, возможно, и мои?).
Впрочем, XX век преподнес нам и более яркие примеры послевоенных эмоций, когда наши фронтовики встречались с бывшими немецкими фронтовиками, воевавшими с ними на одних и тех же участках фронта. Наверное, это источник еще большего волнения, но я этого не знаю, мне хватает своего собственного. Я стою на русском кладбище под Парижем и плачу как дурак по чужим людям, а на могилы близких людей хожу редко и, похоже, не плачу. Я стою на чужой земле, чувствуя, что со мной происходит что-то неладное, стою и догадываюсь, что на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во мне пробуждается генетическая память, если таковая вообще существует {394} (что проблематично). С неописуемой скорбью взираю я на могилы моих земляков, сделавших все возможное, чтобы меня не было на свете. Испытывать к ним ненависть или хотя бы неприязнь? В 1983 году – трудно. Виновные давно отбыли сроки земных наказаний. Смерть уравняла их с безвинно пострадавшими, отброшенными историческим вихрем от родной земли, и они вместе спят теперь на чужбине. Само упоминание их полного воинского звания или титула, их имени, фамилии и отчества – во многом ушедшая от нас музыка русской словесности.
В отдельных воинских захоронениях – пустые, незанятые могилы для тех, кто еще задержался в этом мире, кто доживает свои последние дни. Им оставлены места. И, кажется, даже их ждут. Здесь не так плохо, здесь хорошо, но страшно. Потому что и после смерти эти люди уже не воссоединятся с землею своих предков. Умирая, они это понимали, и некоторые из них выбили на своих могилах слова… Прекрасные, трагические, бьющие наотмашь: «Любите Россию. Нет ничего прекрасней нашей России. Мы это знаем, мы спим на чужбине». «Русские, любите Россию всегда, какой она была, какая есть и какая будет. Только тогда вы – русские». И еще одно, самое страшное начертание: «Мы погибли за честь и свободу России, в борьбе за ее державность и независимость».
Да, XX век преподносит нам сюрпризы! Как много людей на земном шаре умирало и еще, вероятно, умрет за свободу, и сколь по-разному воплощалось и воплощается ныне на нашей планете это красивое и звучное понятие! Какой многоголовой гидрой оказалось оно! Сколько крови и слез отдано людьми во имя этой человеческой мечты, так часто оказывающейся призраком.
Наши предки, впрочем, давно предупреждали: свобода есть самая тяжкая ноша для человечества.
{395} Русское кладбище во Франции наводит на самые разные мысли, и в частности: скольких мы потеряли! Здесь похоронено много известных писателей, поэтов, артистов, философов, священнослужителей и просто хороших, умных, добрых русских людей. Многострадальная история наша познала не только кровавый океан братоубийственной бойни, гигантский невосполнимый урон был нанесен и нашей генетике. Надо так много думать, так сильно-сильно умнеть, освобождаясь от суетности, чтобы мы смогли восполнить тот пробел, который возник в космической буре, пронесшейся над нашей землей.