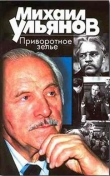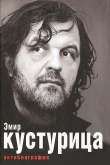Текст книги " Контакты на разных уровнях."
Автор книги: Марк Захаров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Режиссура в конечном счете – система программных импульсов, обязательно задевающих и воздействующих на психику возможных зрителей. Я говорю «возможных», потому что существует, правда в ограниченном количестве, и такая режиссура, которой зритель вообще не нужен. Он может только помешать режиссерскому таинству, и в этом случае его зрительская энергия – лишняя помеха.
Мое личное, очень сильное впечатление от «сектантской» режиссуры я получил в студии суперодаренного современного режиссера Анатолия Васильева. О его собственных сочинениях писать очень трудно, и делать это надо глубоко и обстоятельно. Сейчас мне это не под силу. Может быть, и не только сейчас. Лучше несколько слов о приехавшем к нему в гости одном из последователей Гротовского некоем Джонсоне с небольшой группой единомышленников, для своеобразной акции (спектаклем такого рода действие назвать – значит расписаться в собственном невежестве). Так вот, «action» начался с телефонного звонка Анатолия Александровича с поздравлениями по {290} случаю того, что я утвержден зрителем на предстоящем «экшене». Таких достойных посмотреть «экшен» обнаружилось в Москве всего четверо, все остальные были забракованы.
В назначенный час мы, четверо, по-моему, не совсем нормальных и уравновешенных людей, собрались в студии на Поварской, где получили долгий и подробный инструктаж – как себя вести на «экшене». Боже сохрани высказывать какое-либо одобрение «экшену» (его качество и так остается вне всяких сомнений). Ни в коем случае нельзя хоть как-то зримо сопереживать тому, что увидишь, например, засмеяться или заплакать. Об аплодисментах вообще не может быть речи. Задача наша состояла в незаметном присутствии и таком же незаметном наблюдении.
Джонсон оказался человеком невзрачным и маленького роста (иначе он занимался бы чем-нибудь другим). С собой он привез таких же маловыразительных людей, но босиком. Они ходили по полу в разных хороводных комбинациях и самозабвенно напевали самые древние на земле мелодии, записанные в районе Карибского моря. Ходили часа полтора, разумеется без антракта. Не могу сказать, что пели и ходили плохо. Во-первых, получали от собственного нения удовольствие, что уже немало. Во-вторых, временами, по-моему, погружались в своеобразный транс, что тоже приятно. Назвать это театральным искусством мне очень трудно, но какой-то этнографической ценностью привезенный «экшен», бесспорно, обладал.
Несмотря на некоторую иронию, без которой я практически обойтись не могу, о чем бы ни писал, – то, что делает Анатолий Васильев с Джонсоном или без него вызывает у меня безграничное уважение и интерес. А. А. Васильев один из тех, кто, с моей точки зрения, имеет право за государственный счет заниматься такого рода суперэкспериментальной режиссурой. Она крайне благотворно воздействует на {291} формирование новых режиссерских идей в отечественном театре. Его система режиссерского поиска оригинальна и самодостаточна. И хотя он не сумел пока воспитать нормальных выразительных актеров, занимается А. А. Васильев очень важным аспектом современного театра – формированием невидимого энергетического потока, гипнотически воздействующего пусть на немногочисленных, но завороженных зрителей. Может, и не все окончательно заворожены, но тот, кто не имеет влечения к завораживанию, к нему в театр и не пойдет.
Театры-студии, подобные Васильевскому, я, повторю еще раз, уважаю, почитаю, признаю (в очень ограниченном количестве), но не люблю. Хотя очень и очень интересуюсь той методологией, которая подчас весомо и мощно укрепляет энергетический потенциал актерского организма.
Я не приемлю одностороннего энергетического потока, как у Джонсона и, возможно, у гениального Гротовского. Меня интересует и влечет совместный энергетический экстаз актера и зрителя. При этом он может быть очень тихим, вкрадчивым, но и буйным, экзальтированным, даже шокирующим и непременно непредсказуемым. Зрительский прогноз сегодня – самое большое зло на театре. Почему и уходят так часто зрители в антракте. Время берегут. Оно теперь, извините за повтор, стало много дороже, но не только… Уходят, потому что приблизительно (а иногда довольно точно) представляют, что будет дальше. Умный режиссер, который умеет объективно оценить свое сочинение, при самых малейших сомнениях в увлеченности зрителя делает свой спектакль без антракта. Что правильно. Наличие или отсутствие антракта для меня всегда важнейший показатель режиссерской самооценки.
Мое излишне долгое отвлечение в сторону Джонсона и проблемы антракта связано с важнейшими для меня аспектами режиссуры как суперпрофессии.
{292} Энергетика театрального зрелища – наверное, самое важное в современном психологическом театре. Что это такое, по-моему, мы до конца не знаем – иногда можем только почувствовать. Все углубленные раздумья о материальной основе нашего искусства ведут в глубины современной биохимии и даже философии. Я все чаще говорю об актерском организме на клеточном уровне. Человеку дано изменять биохимический состав своих клеток. Сегодня полноценное, мощное, непредсказуемое воздействие актера на своего сценического партнера, а стало быть, на зрителя, возможно только с привлечением тех возможностей человека, которые граничат с элементами сверхчувственного восприятия.
Однажды в Киево-Печерской лавре для меня сделали индивидуальную экскурсию. И человек, ощущающий разную степень излучения святых мощей, рассказал, что обычно в глубокой древности все монахи уходили из жизни примерно одинаково. Ритуал не нарушался. Разница была в молитвенном экстазе, его интенсивности и протяженности. Сверхнапряженная молитва в предсмертные годы изменяла облик людей. (Нимб над головами святых – не выдумка художников.) В некоторых случаях людям удавалось, как бы сказали сегодня ученые, изменять свою биохимию. Молитва изменяла свойства умирающего тела. Всех монахов хоронили рядом и в одинаковых условиях, однако через три года захоронение обязательно вскрывалось. В одних случаях обнаруживался обыкновенный скелет умершего, в других – нетленные мощи.
Ресурс человеческого организма, сила и целенаправленность мысли, лежащей в основе молитвы, – мощная энергетическая величина. Мысль, не выраженная словами, в некоторых режимах человеческого существования несет осязаемую информацию. Мысль способна преобразовать тело. Здесь возникает много {293} вопросов. Какова материальная основа мысли и чем измеряется ее сила? Экранирует ли она от плоскости или это для нее безразлично? Можно ли переносить информационный энергетический поток в режиме молчания с одного объекта на другой? Когда мысль обладает гипнотическим воздействием (и почему), а когда высказанная мысль – всего лишь рабочая переброска информации?
Знаю ли я ответы на эти вопросы? Если бы не знал бы, то и не писал бы. Могу ли объяснить? Могу, но не хочу. Боюсь погрузиться в околонаучное шаманство.
В качестве примера (почему не пускаюсь в пространные объяснения): в каком помещении лучше, приятнее играть – в театре с долгой историей или в удобно скроенном новом цементном «аквариуме»? Девяносто девять процентов артистов предпочтут старые стены. Уж не хотят ли они этим сказать, что стены помнят? Хотят. Как помнят и почему? Вопрос к бабушке Ванге или тибетскому далай-ламе.
От этой и некоторых других тем пока уклонюсь.
Предатели
Мозг человека подарен ему Всевышним для интенсивной работы. С его помощью человек обязан постоянно корректировать собственное поведение в связи с меняющимися обстоятельствами жизни. Но не только поведение человека обязано видоизменяться; человек не должен бояться изменять собственные воззрения и даже убеждения. Сразу возникает вопрос: а что человек менять не должен? Веру?.. Хочется ответить утвердительно, но лучше воздержаться. Если бы немецкая принцесса Анхальт-Цербстская не изменила бы свою веру и не приняла православия, Россия не имела бы императрицы Екатерины Великой со всеми последующими {294} ее блистательными свершениями для российского Отечества.
И все же есть категории человеческого бытия и духа, которые не должны предаваться: честь, совесть, наконец, десять библейских заповедей. Во всем остальном полезно сомневаться. Конечно, не всем и не всегда хватает ума для сомнений и, тем более, для углубленного анализа.
Долгие годы мне не приходило в голову, что герб бывшего СССР, мягко говоря, бестактен, груб и, похоже, агрессивен. Меня, как и моих школьных друзей, долгое время вполне устраивал государственный флаг. Потребовалось время, обилие новой информации, чтобы я с нескрываемой симпатией стал воспринимать русский исторический триколор и с такой же радостью взирать на византийского двуглавого орла. Возможно, сами по себе американские пятиконечные звезды совсем неплохи, как неплох и по-своему красив исламский полумесяц, но какое отношение имеет к русской национальной геральдике? К российским историческим традициям?
Вышеобозначенный прорыв из подкорки на бумагу продиктован, вероятно, особенностями моего режиссерского характера. Каким бы важным ни казался мне человек на сцене, с его вибрирующей клеточной системой, как бы ни интересовали меня бесконечные в своем многообразии нюансы человеческих взаимоотношений – нет‑нет да и прорывается наружу социально-политический подтекст многих моих сценических сочинений. Впрочем, не считаю это зазорным. И. Бунин чурался политики, пока не грянул 1918 год и возникли его опаляющие душу «Окаянные дни».
Российский театр всегда был плотно связан с общественным накалом страстей, которых в России всегда хватало и которые всегда били через край. Русский театр, как ни один другой, всегда отражал общественные бури, надежды и тревоги.
{295} Мы до некоторой степени так устроены. В этом наша сила. Впрочем, возможно, и слабость. Если не слабость, то, во всяком случае, некоторый наив.
Не скрою, совсем недавно я знал буквально все, что надо немедленно сделать со страной, чтобы жизнь в ней стала прекрасной. Как Ленин, когда взбирался на броневик с четкой программой счастливого будущего. Теперь я, как Плеханов, в растерянности. О чем ни задумаешься – все тревожит. Очень большое внутреннее беспокойство доставляют раздумья об известном астрономе Николае Копернике, которые стали посещать меня с завидной регулярностью. Несмотря на свое польское происхождение, Коперник долгое время почитал, хуже того, любил геоцентрическую систему грека Птолемея. Любил почти сорок лет, искренне полагая, что в центре мироздания находится Земля, а не Солнце. А потом взял и предал. В 1543 году издал книгу, где утверждал, что, как ни странно, планета Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. В данном случае, мне думается, не столько важно, что вокруг чего вращается, важно другое: если ты всю жизнь поддерживал Птолемея, уж сделай доброе дело – останься человеком, не предавай учителя! Мне скажут: Коперник раскрыл истину. Как будто, не будь Коперника, люди в конце концов не разобрались бы со своим единственным Солнцем; смущает моральный аспект.
Конечно, тратить последние аналитические усилия на польского Коперника, когда своих коперников целая дивизия, не резон: слишком понятен его поступок. Труднее понять ликвидацию на первых страницах наших газет святого интернационального лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Конечно, не так просто понять, как могут люди, работающие на разных промышленных предприятиях Австралии, Америки, Японии, неожиданно побросать работу и соединиться? (Кстати, о России, по-моему, вопрос никогда не стоял, потому что ради этого дела мы {296} всегда были готовы бросить работу раз и навсегда.) Но захотят ли бросить работу остальные? И как это вдруг соединиться между собой и, главное, зачем? Впрочем, для чего рабочим объединяться, Ленин рассказал и показал достаточно подробно. Соединяться надо для того, чтобы физически уничтожить все другие непролетарские классы и социальные группы. С перечислением, кого именно полезно убивать, 17 декабря 1922 года на страницах «Известий» выступил легендарный чекист Петере. Оказалось, что на первом этапе пролетарского единения надо перебить всех офицеров, духовенство, интеллигенцию, обязательно всех торговых работников, представителей других партий, аристократию, профессуру и всех их родственников. Очень важно тщательно рассортировать крестьянство: если работал умело и приобрел достаток – расстрелять или выслать. Если ни гроша за душой, если все, скажем прямо, просвистел или пропил – значит, свой. Значит, отношение к такому однозначное: с классовой симпатией.
А вот к современному историку, генерал-полковнику в отставке Д. А. Волкогонову, очень многие его сверстники отнеслись настороженно и, более того, враждебно. Волкогонов принадлежал к старшему поколению советских ученых, был воспитан на идеях марксизма-ленинизма, преуспел в их изучении и даже преподавал эту дисциплину. Однако со временем, изучив многие труды и архивные материалы, пережил мучительный процесс нового постижения большевистской истории. Этот новый для Д. А. Волкогонова поиск исторической истины привел его в бывшие секретные архивы, в результате чего он создал несколько замечательных книг о большевистских вождях: Троцком, Сталине, Ленине.
Признаться, я много читал о вожде мирового пролетариата, в том числе самое обширное и серьезное исследование американского советолога Л. Фишера, {297} изданное в 1970 году. Должен сказать, что в своих двух книгах о Ленине Д. А. Волкогонов, бесспорно, но всем статьям обошел американского коллегу и, пользуясь гигантским объемом засекреченных ленинских распоряжений и писем, издал самый глубокий, лишенный публицистического налета научный труд, который читается, однако, как детектив Агаты Кристи. Выдающемуся историку в последние годы жилось интересно, но несладко. Некоторые его бывшие товарищи, а также сограждане с плохим образованием посылали в адрес ученого проклятия, хотя он слышал и много добрых слов благодарности. В русском языке есть слова «изменение» и «измена». Обращаться с ними надо осторожно. Опасно перепутать.
В третьем классе я урыдался на спектакле о Павлике Морозове, а сейчас, высушив слезы, думаю не только о нем, Копернике, Волкогонове, но и о том безвестном человеке, который, отбросив однажды волоком волочившиеся по земле полозья, изобрел колесо, бросив тем самым традициям отцов и дедов дерзкий вызов: дескать, смотрите, не желаю жить вашим умом! Не желаю следовать вашим традициям! Предатель.
Контакты с пространством
Мои первые сценографические впечатления связаны с тем далеким временем, когда на сцене чаще всего располагалась дачная терраса в окружении радующей глаз зелени и забора. За забором всегда висел прозрачный тюль, за тюлем – живописный задник с нарисованной природой. Когда занавес (такое специальное устройство, которое вешалось раньше перед декорацией) открывался – зрители долго аплодировали. Когда же перед одним из электроприборов крутилось специальное колесико с дырочками и на сцене возникала иллюзия идущего снега, в зале начинались {298} не просто аплодисменты, а нескончаемые овации. Я не уверен, что вышеперечисленные аксессуары и построения навсегда вычеркнуты из современного сценографического искусства. Подозреваю (почти уверен), что все театральные приемы возвращаются к нам на новых витках спиралеобразного восхождения. Если, конечно, убедить себя и других, что наше развитие происходит всегда вверх по спирали, а не напоминает подчас иные малоприятные графические начертания.
Возвращаться к нам может буквально все. И даже иллюзорные задники, и даже пни из папье-маше, окруженные пыльными травянистыми коврами. Не может только вернуться прежняя наивная радость зрителей. Телевизионная революция нанесла жестокий удар по многим визуальным радостям и, как объяснил Ф. Феллини, «обесценила изображение». Однако магия театра не может пострадать оттого, что у нее отняли некоторые иллюзии. Мы будем питать другие. Потеряли одно, будем наращивать другое. Судьба, Провидение или любая иная инстанция, поставив в определенном месте барьер, только стимулирует наше сценографическое и режиссерское воображение.
Я уже размышлял на страницах этой книги о том, что малоизученные процессы нашего подсознания тесно связаны с пространственной средой – источником многих явлений, происходящих в глубинах нашего естества. Существует гипотеза, что ни один контакт человека с миром и, вероятно, ни одна мысль не уничтожается полностью – все остается, все фиксируется в великом творении мировой эволюции – человеческом мозге, а может быть, и в более надежном месте – во Вселенной. И подобно тому, как электродное вторжение в мозг может вызвать в памяти человека объект, казавшийся забытым, так и комбинация некоторых материальных построений может привести к сильным и отчасти непредвиденным реакциям.
{299} Здесь много неясного, спорного, неисследованного. Ученые доказали, что цвет, например, как таковой, вызывает у человека определенные эмоции. Стало быть, интенсивность цвета и смещение одного цвета с другим могут подарить нам миллиарды нюансов.
Сценография вступила в принципиально новую фазу своего существования, когда, образно говоря, счет пошел не на метры, а на миллиметры и микроны. Спектакль начинается с изощренной визуальной атаки, и не столько литературного характера, сколько с организации серии импульсов. Талантливый сценограф конструирует (подчас интуитивно) на театральных подмостках своего рода зоны, от которых идут связующие нити к сознанию и подсознанию зрителя.
Организация «магической зоны» со своей особой энергетикой – вот, пожалуй, истинная цель современного сценографа. Бытописательство и этнография допустимы как частный случай, как составные элементы, как ритмическая и литературная деталь.
Не надо все раскладывать по полочкам, всего не рассчитаешь, но изучать современному сценографу воздействие пространственных построений на психику зрителя стоит. Интересно. Тем более, что сюда примешиваются традиции, рефлексы, штампы, исторический опыт, изменчивость моды на одежду, цвет, материалы, музыкальные ритмы и нормы поведения.
Когда сценограф был просто художником, его можно было сравнить с древним кинооператором, который только и делал, что крутил ручку съемочной камеры. С годами эта наипростейшая функция превратилась в важнейшую и определяющую профессию. Разрушение первозданной иллюзорности на театре привело к бурному развитию сценографии. Сценограф будущего окончательно завершит свое историческое превращение из иллюстратора-оформителя {300} в режиссера-сценографа. Такие люди уже встречаются. Всех назвать сразу не сумею. Но перед глазами прекрасное трио – Д. Боровский, Э. Кочергин, О. Шейнцис.
С двумя первыми именами знакомство у меня поверхностное, с Олегом Шейнцисом пройден достаточно долгий путь. Он – соавтор многих моих режиссерских сочинений, соавтор в самом широком смысле слова. Я писал эти заметки, когда мы с О. Шейнцисом еще не имели в своем репертуаре «Поминальной молитвы», «Безумного дня, или Женитьбы Фигаро», «Чайки», «Мистификации». Я попытался проанализировать наши первые контакты с пространством, но, полагаю, в них уже было заложено многое из того, что вывело О. Шейнциса в лидирующую группу современных театральных художников.
Шейнцис возник где-то на исходе 1977 года. Сначала по слухам, потом непосредственно. Передо мной. Я никогда не видел его работ и доверился нашему режиссеру Ю. А. Махаеву. До встречи с О. Шейнцисом я имел достаточно солидный опыт общения с театральными художниками. Я уже говорил о контакте с Валерием Левенталем. Потом в моей жизни появился Александр Павлович Васильев.
Он не только подарил счастливые мгновения в совместных работах, из которых «Темп‑1929» в Театре сатиры мне представляется особенно удачной, – Александр Павлович преподал мне урок высокого и редкого свойства – необыкновенную широту воззрений. Он – сценограф старшего поколения, который с течением времени неожиданно помолодел, подобно легендарному Сен-Жермену, остановил свои «биологические» часы, стал на удивление плодовитым, неугомонным и, что самое приятное, непредсказуемым. В нем обострилась художническая интуиция {301} и появился, я бы сказал, веселый авантюризм.
А. П. Васильев – один из немногих наших сценографов – давно догадался, что на одних театральных декорациях можно быстро истощить свою фантазию и иссушить мозг. Чтобы не заклиниться, не закомплексоваться, не заштамповаться и не занемочь, он бросился вон из театра на пленэр. В 50‑е, отчасти 60‑е годы его пейзажи казались достаточно заурядными. Это был вроде бы необходимый и полезный для профессии тренаж сценографа, подспорье для основной деятельности, а потом, не знаю точно в какой именно момент, А. П. Васильев вдруг поймал за хвост жар-птицу и начал с невиданной скоростью рисовать удивительные картины. Особенно заворожили меня его странные натюрморты, сделанные в графической манере и жухлой гамме.
Александр Павлович подарил лично мне, кроме дорогой моему сердцу сценографии, еще две собственные картины, несколько замечательных острот и небывалый запас художнического и человеческого оптимизма.
Есть множество примет, по которым мы пытаемся определить личность, ее творческую и чисто человеческую значимость. Я не знаю всех примет, не берусь сейчас определить и перечислить все необходимые критерии, но применительно к А. П. Васильеву хотел бы упомянуть особо важный показатель человеческой широты и щедрости художника: отношение к молодым коллегам и вообще к другим художникам, что трудятся на том же достаточно тесном участке театрального пространства.
В отношении к своим коллегам многие из нас, увы, грешники. Частенько брюзжим, скептически ухмыляемся, злословим. Не всегда умеем обуздать свою ревность к успеху товарища. А. П. Васильев – живой пример того, как мало говорить о своих товарищах по {302} искусству, как надо уметь ценить их и сопереживать чужим успехам. Он первым сообщил мне о появлении молодых театральных художников О. Твардовской и Вл. Макушенко, людей талантливых, самобытных, догадался, что они хотя бы за счет молодости ближе мне, чем он сам, и как-то весело направил нас друг к другу.
С Олегом Шейнцисом связано что-то другое. У американского режиссера Спилберга есть фильм с прекрасным названием: «Контакты в четвертом измерении». И непонятно, и красиво. С Шейнцисом так же.
Его сценографические сочинения сразу же поразили меня своим многоголосьем. Декорационные объемы на наших подмостках стали звучать подобно трубам концертного органа. Композитор Шейнцис научился извлекать музыку из немых металлических сочленений, прозрачной стеклоткани, из подобранного на свалке металлолома, обыкновенной фанеры и деревяшек. Это было очень вовремя и очень кстати. Но самое главное все-таки заключалось в другом.
С Шейнцисом была открыта система неоднородного пространства, то есть пространства с разными свойствами. Этот странный и достаточно новый (по крайней мере, для меня) поиск впервые осуществил он в спектакле «Жестокие игры».
Пьеса, как известно, имела места действия, достаточно удаленные друг от друга (дело происходило то в Москве, то в Сибири). Обычно в таких случаях производится либо «чистая перемена», когда с помощью круга, движущихся фурок или просто через затемнение (закрытие занавеса) на сцене происходит некоторое декоративное изменение, либо на сцене сразу, изначально организуется несколько мест действия. Казалось, что именно так случится в «Жестоких играх». Уж очень не хотелось создавать равноценное «объективное» {303} изменение обстановки, мерещился какой-то единый «поэтический» сгусток сценической жизни. Поначалу как будто бы так и формировалась сценография спектакля, но только поначалу. Шейнцис очень скоро разрушил равноправное существование «московских» и «сибирских» сцен. Зона (слева от зрителя), отведенная «сибирским» сценам, стала набирать собственную загадочную «энергетику», таинственным образом проникая в смежное («московское») сценическое пространство. И это был не просто чисто эстетический, живописный монтаж, за этим я усмотрел нечто большее – «контакт четвертого измерения»!
В своей рационально сформулированной «диспозиции» мы договорились, что главное действующее лицо – Кай, молодой художник, объединяет в своем сознании все, что происходит в пьесе. Прием, конечно, не революционный, но элементы некоторой революции (опять-таки, по крайней мере, для меня) стали вскоре возникать сперва в очень небольших дозах, потом поток загадочных атомов нового вещества стал настоятельно и упорно «облучать» «московское» пространство. Левая сторона сцены, «сибирская зона», неожиданно стала чернеть, теряя реальные границы, распространяясь безбрежно вглубь, превращаясь в конце концов в своеобразную «черную дыру», бесформенный «черный кабинет» с какими-то отростками и урбанистическими деталями. В сценографии спектакля появилась зона, которую захотелось называть не местом действия, но пространством.
Небольшое отступление в сторону пространства, как такового, этой таинственной философской категории, которая с приходом О. Шейнциса стала интересовать меня во все возрастающей степени.
С каждым десятилетием происходит усложнение научных представлений о строении пространства, его происхождении, свойствах; появились идеи о развитии этих свойств во времени, о разных способах пространственного {304} измерения и т. д. Это касается не только чистой теории, это имеет, по-моему, еще и отношение к человеку.
Появились предположения, что в ряде случаев привычное измерение пространства не играет той роли, которую мы ему отводим в повседневной жизни. Короче говоря, расстоянием можно иногда пренебречь, и мы вовсе не зависим от него так, как казалось прежде. (Мне, по крайней мере. Извините.) Психотроника (новое наименование парапсихологических явлений) накопила некоторые сведения о контактах, где понятие «расстояние» должно уступить место каким-то новым способам отсчета и взаимодействия. Впрочем, если не нравится психотроника, можно подумать о геометрии Лобачевского, о кривизне пространства, о закономерностях микрокосмоса, о пространственных «выкрутасах» элементарных частиц…
Конечно же об этом думать необязательно, но для меня это все означает, что человек может и должен обращаться с пространством не как муха, ползущая по абажуру, а как творец, взаимодействующий со Вселенной на нескольких осях координат. И чтобы навсегда покончить с философией или, наоборот, чтобы с нею никогда не расставаться, полезно забраться в такие дебри, из которых потом не очень-то просто будет выбраться. (Нагрузки необходимо увеличивать не только на бицепсы, но и на мозги.)
Образы материального мира, всплывающие в памяти с помощью поражающих мое воображение электродов, свидетельствуют о том, что, казалось бы, навсегда забытые вещи, слова, люди, события благополучно существуют в нас. Они есть. Они будут. Где именно – мы не знаем. Зато знаем другое: материя порой ведет себя так, что не поддается бытовому осмыслению, как некоторые принципы теории относительности понять еще можно (поверить), а представить – никогда.
{305} Боюсь предположить, но предполагаю, что информация и любовь – изобретения Вселенной, а не человека. От любви готов отречься, так же как от информации, но одно маленькое отступление.
Мы хорошо знаем, что, как только появляется в природе зачаток разума, тотчас начинают формироваться законы бытия, связанные с его существованием и развитием. Возникают принципиально иные механизмы взаимообмена, взаимодействия и, наконец, взаимопонимания. Без взаимопонимания вселенский разум не совершит эволюции. Без любви не обойтись. Поэтому я не мог не полюбить Шейнциса, прежде всего во имя эволюции нашего театрального дела. Однако справедливости ради следует отметить, что помимо эволюционных намерений в нем сидит и ярко выраженный революционный дух, и это сказалось не только в сценографии «Оптимистической трагедии», это сказывается каждый раз при составлении им сметы.
Я не знаю, что думает по этому поводу философ Шейнцис, но когда я о нем задумываюсь, то сразу же погружаюсь в бездны мировых проблем, в этом смысле работа с ним обременительна.
Сценографию «Жестоких игр» он не просто поделил на две части, а создал посредством такого пространственного двумерного членения мощный самоорганизующийся театральный агрегат со своими динамическими способностями. «Черная дыра», например, стала очень скоро засасывать в свое чрево объекты и субъекты, ей не принадлежащие. Шейнцис тем не менее позаботился и о мотиве, объединяющем обе зоны, отчасти примиряющем две несовместимые пространственные среды. Его прекрасное изобретение – огромное красное колесо из металла – внесло недостающую гармонию в сценографическую структуру {306} спектакля и тотчас обернулось источником новой напряженности.
По воле Шейнциса нам дано было узреть лишь половину колеса. И это неспроста. Исполинский овал всего лишь выглядывал из-за «московской» сферы, его истинное расположение и устройство осталось для нас тайной.
До Шейнциса колесо было изобретено в глубокой древности, подозреваю, не менее талантливым человеком, но изобретено сразу, полностью, во всей своей радующей глаз округлости. Олег Аронович Шейнцис изобрел в 1978 году половину колеса. Для сценографии «Жестоких игр» это оказалось фактором, во многом определяющим. Мы вознамерились не объяснять до конца зрителю, как устроен мир, на чем и за счет чего он держится. Зритель слишком многое знает о нас и наших сценических построениях. Так пусть не всегда и не везде прослеживает причинно-следственные связи, пусть иногда мучается, недоумевает по поводу отсутствующих звеньев и вообще – пусть работает!
Мир, до конца познанный, останавливается в своем развитии и неминуемо гибнет. (Прошу отнестись и к этому моему размышлению не как к научному, а как к чисто эмоциональному и отчасти безответственному заявлению, хотя и допускаю, что в нем замешаны не одни только мои фантазии.)
Вселенная постепенно отучает нас от первобытного оптимизма, связанного с понятием бесформенного и бесконечного процесса. Она все чаще «толкует» нам о циклах и зигзагах. В этом смысле конец мира – всего лишь гигантский суперисторический цикл (по восточной философии – «Сутки Брамы»), После этого наступит что-то другое. Не то, что было прежде. Применительно к театру – закроется занавес; сочиненный автором текст и режиссерский замысел будут исчерпаны.
{307} Если мы заранее узнаем про сценическое сочинение все, что в нем заключено, если слишком быстро соберем все сведения о его структуре, спектакль завершится неожиданно и досрочно. Зритель останется неудовлетворенным и обидится на короткометражность нашего зрелища. Сценическая история окажется недомерком. Чтобы сочиненное нами зрелище имело бы многоактное построение, информацию о сценографических процессах мы должны умело распределить во времени. Мир сценического пространства должен пребывать в процессе своего постепенного видоизменения.