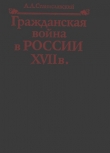Текст книги "Дело академика Вавилова"
Автор книги: Марк Поповский
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Самой значительной фигурой из тех, кто нашел в себе мужество открыто выступать за академика Вавилова, был Дмитрий Николаевич Прянишников. В 1940 году ему исполнилось семьдесят семь лет. Крупнейший агрохимик, он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, в следующем году получил Сталинскую премию. Но все эти "милости" не изменили правдивого и решительного характера старого ученого. Разыгравшаяся в Черновцах беда потрясла его. Не боясь подслушивающих ушей и подсматривающих глаз, Прянишников везде – в Академии наук, в ВАСХНИЛ, в Тимирязевской академии, беседуя со студентами, коллегами-учеными, чиновниками Наркомзема, – не уставал твердить, что Николай Иванович ни в чем не виновен. Весной 1941 года он написал Берии письмо, где разоблачил Лысенко как ученого и руководителя ВАСХНИЛ. Маленькая хитрость этого послания заключалась в том, что Прянишников надеялся подорвать кредит доверия, которым Лысенко пользовался у верховной власти, и тем повернуть фортуну лицом к Вавилову. Берия, однако, от научной полемики уклонился. Письмо Прянишникова осталось без ответа. Из Самарканда, куда его загнала военная эвакуация, Дмитрий Николаевич снова напомнил о своем ученике: в начале 1942 года он отправил в Москву телеграмму, в которой представил работы Н. И. Вавилова на соискание Сталинской премии. Такая дерзость могла стоить ему жизни. Сталин никому не позволял открыто вступаться за "государственных преступников". Но нарушение этики и на этот раз сошло с рук. Может быть, ученого спасла неразбериха военных лет, а возможно, телеграмму семидесятисемилетнего академика попросту сочли стариковским чудачеством.
Осенью 1942 года, когда воюющая страна отмечала свой четвертьвековой юбилей, в Свердловске состоялась праздничная сессия Академии наук. В начале ноября на Урал съехались рассеянные по городам и весям российские академики. Приехал и Прянишников. По свидетельству помощника президента АН СССР А. Г. Чернова [229]229
Личное сообщение А.Г. Чернова 4 апр. 1967 г.
[Закрыть], Комаров любезно принял Дмитрия Николаевича у себя в кабинете, а Лысенко, наоборот, отказал в аудиенции. Во время беседы Прянишников открыто заявил Комарову, что Лысенко убил Вавилова, чтобы захватить его должности и положение в науке. Он призывал президента немедленно обжаловать в ЦК действия НКВД. «Что я могу сделать, – разводил руками Комаров. – Вот приедет Вышинский, попрошу его помочь». Андрей Януарьевич Вышинский, академик и Генеральный прокурор СССР, организатор знаменитых сталинских процессов конца тридцатых годов, вскоре действительно приехал в Свердловск. В самой деликатной форме Комаров попросил академика-прокурора вникнуть в дело Вавилова, принять во внимание… учесть былые заслуги… Ходатайство президента, однако, успеха не имело. В служебных и личных отношениях с людьми академик-прокурор Вышинский знал лишь одну заповедь – «падающего подтолкни».
Прянишников узнал о неудаче, но атак на Комарова не прекратил. Полгода спустя он снова настиг Владимира Леонтьевича в Алма-Ате. И опять, по словам А. Г. Чернова, Дмитрий Николаевич настаивал на том, чтобы президент послал от имени Академии наук письмо в Центральный Комитет партии. "Родина не простит нам преждевременной смерти Николая Ивановича, – несколько раз повторял Прянишников. – Поймите же, Владимир Леонтьевич, не простит". Комаров, однако, писать не стал. В подобных обстоятельствах он предпочитал устные переговоры. Когда Прянишников явился к нему снова (дело было уже в Москве, после возвращения академии из эвакуации), президент согласился поговорить о судьбе Вавилова с Молотовым. Такой разговор состоялся, но Молотов, едва услышав фамилию Вавилова, раздраженно бросил: "Сейчас этим заниматься не буду, некогда". Возможно, всевластный Вячеслав Михайлович действительно был в тот день занят неотложными государственными делами. Но будь у него в запасе даже вечность, он едва ли стал бы выручать опального академика, арест которого лично санкционировал три года назад.
В начале 1943 года не только Комаров, но и Прянишников поняли, молох не собирается отдать свою жертву.
Всякий другой на месте Дмитрия Николаевича счел бы свой долг выполненным: плетью обуха не перешибешь. Но учитель Вавилова был человеком особого склада. Постукивая палкой, прихрамывая, он снова и снова появляется в кабинете президента академии, просит, уговаривает, настаивает. Речь идет теперь о письме, адресованном лично товарищу Сталину.
Письмо к Сталину – ultimum refugium [последнее средство (лат.)] общественной жизни 30-40-х годов. В стране, где попраны законы, гражданин ждет от власти не соблюдения своих прав, но лишь послабления, не справедливости, но милости. В пору сталинского террора всеобщий страх и незащищенность породили слепую веру в чудо, веру в спасительную силу писем на высочайшее имя. Возникло нечто вроде всенародной почтово-телеграфной эпидемии. На адрес «Кремль. Сталину» были отправлены десятки миллионов жалоб. Родственники невинно осужденных, жертвы чисток, высланные, снятые с работы, исключенные из партии, лишенные пенсии, права голоса, доброго имени – все, кто так или иначе попали под колесо сталинской государственной машины, многократно писали родному, дорогому, любимому товарищу Сталину. И хотя, в отличие от слезниц на монаршье имя, письма Генеральному секретарю ВКП(б), как правило, оставались без ответа, год от года их становилось все больше. И одновременно росла легенда о сталинской отзывчивости, доброте, внимании к малым сим. Алчущие надежды охотно передавали из уст в уста рассказы о том, что по сталинскому слову выпущен на свободу уже приговоренный к расстрелу юноша, что кому-то отдали незаконно отнятую жилплощадь, кого-то вернули из ссылки. И все это благодаря письмам, которые (это подразумевалось как нечто само собой разумеющееся) открывали вождю народов глаза на своеволие местных начальников.
Стихия надежды на сталинское милосердие захватывала в 30-40-е годы не только темных обитателей провинции. Столичная интеллигенция обращалась к "последнему средству" столь же истово, с той же верой, что вождь "многого не знает". Зимой 1943 года, когда Прянишников уговаривал Комарова писать о судьбе Николая Ивановича в Кремль, к президенту пришел еще один проситель Сергей Вавилов. Какими-то окольными путями академик Вавилов-младший узнал о том, что брат Николай жестоко голодает в тюрьме, что здоровье его пошатнулось и сама жизнь в опасности. Разговор двух академиков происходил без свидетелей, но помощник президента видел: из кабинета Сергей Иванович ушел в слезах. Комаров тоже выглядел расстроенным: то, что до сих пор оставалось государственной тайной, стало явным – Николай Вавилов, человек, давший своей стране миллионы тонн хлеба, умирал в тюремной камере от голода. Сергей Иванович просил о том же, что и Прянишников: от имени Академии наук немедленно известить обо всем Сталина. Он даже, набросал проект письма. По словам А. Г. Чернова, в нем говорилось примерно следующее: величайший ботаник нашего времени Николай Иванович Вавилов находится в тюрьме. Здоровье его подорвано. Президент АН СССР готов взять академика Н. И. Вавилова на поруки. Если же выпустить ученого на свободу не представляется возможным, президент просит предоставить арестованному возможность вести исследования в области растениеводства.
Шли месяцы. Канцелярия Сталина по своему обыкновению отмалчивалась. Осенью 1943 года Прянишников снова пришел в президиум академии напомнить о злополучном послании. Комаров захлопотал, заохал, помощнику тут же было приказано связаться по "вертушке" с личным секретарем Сталина Поскребышевым. Ответ Поскребышева был краток: письмо переправлено Берии. Круг замкнулся.
Рассказ о дальнейших событиях дошел до меня в нескольких вариантах. Но и дочери Дмитрия Николаевича Прянишникова, и А. Г. Чернов, и некоторые ученики Вавилова сходятся на одном: в конце 1943 года Прянишников добился приема у Берии. Очевидно, устроить встречу помогла жена Берии, сотрудница Дмитрия Николаевича по Тимирязевской академии. Берия принял престарелого академика в своем великолепном кабинете на площади Дзержинского. Заместитель Председателя Совнаркома СССР, комиссар государственной безопасности первого ранга держался отменно любезно, даже предупредительно. На столе были разложены тома следственного дела Н. И. Вавилова. Дмитрию Николаевичу предоставили возможность беспрепятственно читать показания подследственного и свидетелей. "Вот видите, – сказал якобы Берия, раскрывая очередной том "дела", – вот он сам своей рукой пишет, что продался английской разведке". Прянишников полистал документы, оттолкнул от себя толстые тома и заявил, что бумагам не верит. Он знает своего ученика почти сорок лет и убежден, что Николай Иванович не может быть ни шпионом, ни вредителем. "Поверю, если только он мне все это скажет", – заключил старик и, не прощаясь, пошел к двери. Еще с полчаса, не разбирая дороги, ничего не видя перед собой, шел, пока "добрые люди" не помогли ему отметить пропуск и вывели из ворот.
Профессор Александр Иванович Купцов (также ученик Прянишникова) вспоминает, что в январе 1944 года, навестив учителя на кафедре агрохимии в "тимирязевке", слышал от Прянишникова о неудачных хлопотах за Вавилова. "Берия, – сказал Дмитрий Николаевич, – заодно с теми, кто хочет нажить капитал на деградации нашего сельского хозяйства и нищете крестьянина. Вавилов им мешал. Его нет. И против них мы ничего не в силах сделать". "При этих словах, – пишет в своих воспоминаниях профессор Купцов, – Дмитрий Николаевич заплакал и долго утирал старые глаза платком, хотя мы перешли к другим сюжетам разговора" [230]230
Цит. по: Купцов А.И. Памяти Николая Ивановича Вавилова. Рукопись.
[Закрыть].
Глава 10
КОСТЕР
Пойдем на костер, будем гореть, но от убеждений своих не откажемся.
Н. И. Вавилов.
Из речи в ВИРе 15 марта 1939 года
В 1927 году тимирязевцы провожали в последний путь своего старого товарища Сергея Жегалова. Талантливый селекционер, один из наиболее одаренных учеников профессора Рудзинского, он умер, не дожив до сорока пяти лет. Вавилов шел за гробом с однокашницей Лидией Петровной Бреславец. Обоим было тяжело: с Жегаловым уходил мир их юности, светлая пора студенчества и первых научных исканий. Лидия Петровна плакала, плакала о молодости Жегалова, о том, что этот подававший большие надежды ученый умер, не свершив и малой доли того, что задумал.
"И тут, – вспоминает Бреславец, – к моему изумлению, Николай Иванович убежденно произнес: "Ученый должен погибать рано. Крупному ученому и человеку не следует жить слишком долго".
"А Дарвин? – растерянно спросила Бреславец. – Ну, матушка, тоже сказала, Дарвин, – с грустной улыбкой ответил Вавилов, – другого-то Дарвина ведь нет…"
В 1927 году Николаю Ивановичу не исполнилось еще и сорока лет. Действительно ли он верил, что все ценное ученый дает миру только в молодости, а старость только окостенение, пустота, мучительное приближение к смерти? Думается, что в вавиловском парадоксе таится другая мысль. Как часто у гроба близкого мы думаем о себе!
Страстный, всегда увлеченный Вавилов на миг представил себе жизнь старца, бытие с холодным сердцем и умом. И ужаснулся. Нет, это ему не годилось. Вернувшись к той же теме в беседе с другим близким товарищем, Николай Иванович выразил надежду, что умрет мгновенно. Вот так споткнется и все… Он оказался скверным прорицателем. И хотя погиб Вавилов действительно молодым, но умирал он долго, тяжело, мучительно…
Его не расстреляли в подвалах Бутырской тюрьмы. Приговоренный к смерти получил отсрочку на полтора года. Благо? Для такого труженика, как Вавилов, восемнадцать с половиною месяцев – 565 дней – срок огромный. На свободе за такое время можно перечитать уйму литературы, написать не одну книгу, организовать несколько экспедиций, поставить множество опытов. А доклады, беседы с друзьями, учениками, семья… Пятьсот шестьдесят пять дней – это целое богатство. Клад! Но для тюремного узника клад, как в известной сказке, обернулся глиняными черепками. Мгновенная смерть от пули была заменена мучительным умиранием, унизительным и бесконечно долгим. И если с той или иной степенью достоверности можно указать людей, которые довели ученого до тюрьмы, и тех, которые вершили над ним неправедный суд, то найти конкретных виновников медленного убийства его в течение последних восемнадцати месяцев попросту невозможно. Это сделал сталинский режим, сталинско-бериевская машина уничтожения, система, которая ценность человеческой жизни довела до самого низкого стандарта, какой был известен в первой половине двадцатого века.
Впрочем, сначала перед смертником мелькнуло даже некое подобие надежды. Николай Иванович писал впоследствии Берии:
«Первого августа 1941 года, то есть три недели после приговора, мне было объявлено в Бутырской тюрьме Вашим уполномоченным от Вашего имени, что Вами возбуждено ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР об отмене приговора по моему делу и что мне будет дарована жизнь. Четвертого октября 1941 года по Вашему распоряжению я был переведен из Бутырской тюрьмы во Внутреннюю тюрьму НКВД и пятого и пятнадцатого октября я имел беседу с Вашим уполномоченным о моем отношении к войне, к фашизму, об использовании меня как научного работника, имеющего большой опыт. Мне было заявлено 15 октября, что мне будет предоставлена полная возможность научной работы как академику и что это будет выяснено окончательно в течение двух-трех дней» [231]231
Следственное дело № 1500, т. 1. Письмо от 25 апр. 1942 г. из Саратовской тюрьмы № 1.
[Закрыть].
Что могли означать эти беседы? Очевидно, только одно: с Вавиловым готовились повторить «туполевский вариант». Уже с конца 20-х годов в стране стали возникать тюремные институты (заключенные называли их «шарашками»), где сначала десятки, а потом сотни инженеров, техников, ученых выполняли научные задания властей. В тюремных институтах проектировали и строили самолеты, конструировали боевое оружие. Ученые-арестанты производили математические и инженерные расчеты, связанные с индустриальным строительством; по заказам ОГПУ– НКВД экспериментировали в тюремных лабораториях химики, физики, бактериологи, строители военных самолетов и кораблей. Специалисты такого высокого класса, как академик Туполев, сидя в заключении, руководили целыми исследовательскими коллективами, которые опять-таки состояли из заключенных. «Шарашки» действовали и в тридцатых, и в сороковых, и в пятидесятых годах [232]232
См. роман А.И. Солженицына «В круге первом».
[Закрыть]. В секретных лабораториях, в глубокой тайне совершались порой открытия огромной научной важности, но им так же не суждено было влиться в поток свободной науки, как большинству открывателей стать свободными людьми. В начале войны и академика Вавилова решили определить в одну из таких «шарашек». Уполномоченные Берии, вероятно, имели задание выяснить не столько настроения ученого, сколько размеры той конкретной пользы, которую можно получить от живого Вавилова. Николай Иванович без труда разгадал планы тюремщиков. В тот момент он и сам не мог желать для себя большего. Жизнь и любимая работа – что еще может просить человек, приговоренный к смертной казни?
8 августа 1941 года Вавилов подал заявление на имя Берии:
"В связи с возбужденным Вами ходатайством о моем помиловании и отмене приговора Военной коллегии, а также учитывая огромные требования, предъявляемые всем гражданам Советского Союза в связи с военными событиями, позволяю себе ходатайствовать о предоставлении мне возможности сосредоточить работу на задачах, наиболее актуальных для данного времени по моей специальности – растениеводству. [Выделено везде Вавиловым. – М. П.]
1) Я бы мог закончить в течение полугода составление «Практического руководства для выведения сортов культурных растений, устойчивых к главнейшим заболеваниям».
2) В течение 6–8 месяцев я мог бы закончить при напряженной работе составление "Практического руководства по селекции хлебных злаков применительно к условиям различных районов СССР".
Мне также близка область субтропического растениеводства, включая культуры оборонного значения, как тунговое дерево, хинное дерево и др., а также растения, богатые витаминами.
Весь свой опыт в области растениеводства, все свои знания и силы я бы хотел отдать полностью Советской власти и моей Родине, там, где я бы мог быть максимально полезен.
Николай Вавилов
8/VIII-1941 г.
Бутырская тюрьма, к[амера] 49." [233]233
Следственное дело № 1500, т. 1.
[Закрыть].
Прошел август, сентябрь, половина октября. Громоздкая и медлительная бюрократическая машина на Лубянке все еще не решила окончательно, убить ли Вавилова сразу или он может пригодиться. Возможно, что в конце концов машина пришла бы к разумному выводу, но вмешались непредвиденные обстоятельства.
15 октября 1941 года, когда посланец Берии в очередной раз явился в камеру Николая Ивановича с тем, чтобы продолжить собеседования о войне и фашизме, немецкие танки подступили к окраинам Москвы. Положение столицы стало критическим. Официальная пресса продолжала скрывать действительную обстановку на фронте, но слухи о близости немцев просочились в город. Утром 16 октября в Москве вспыхнула паника, жители устремились из города на Восток. В середине дня разладилась работа городского транспорта, кое-где начали громить магазины. Беспокойство усилилось еще больше после того, как учреждениям было приказано жечь архивы. Органы НКВД начали массовую эвакуацию заключенных. Академик Вавилов был среди тех тысяч обитателей Внутренней тюрьмы НКВД, Бутырок, Таганки, Лефортова, которых свезли на вокзалы для отправки в тюрьмы Саратова, Оренбурга и Куйбышева.
Мне удалось разыскать несколько бывших заключенных, которые провели эту осеннюю ночь на вокзальных площадях. Доцент Андрей Иванович Сухно вспоминает: "Нас привезли из Бутырок на Курский вокзал что-нибудь около полуночи. Стража с собаками оцепила всю привокзальную площадь и приказала нам стать на четвереньки. Накануне в Москве выпал первый снег, он быстро растаял, и жидкая холодная грязь растеклась по асфальту. Люди пытались отползать от слишком больших луж, но этому мешала теснота, да и стража, заметив движение в толпе заключенных, принимала крутые меры. Сколько нас там стояло? Думаю, что не менее десяти тысяч, а может, и больше. По одежде и по внешнему облику все те, кого я видел ночью, с кем ехал потом в поезде, были московские интеллигенты. Так на четвереньках простояли мы часов шесть. Рассвело. На улицах стали появляться прохожие. Поднимать голову было настрого запрещено, но мы явственно слышали по своему адресу выкрики: "Шпионы! Предатели!"
Наконец подали вагоны, те самые "столыпинские", которые каждый русский знает по знаменитой картине Ярошенко "Всюду жизнь". На картине, как вы помните, арестанты через зарешеченное окно бросают хлебные крошки разгуливающим по перрону голубям. Идиллия! Ни о чем подобном мы, арестанты 1941 года, и помыслить не могли. Во-первых, потому, что в "купе", где царские жандармы возили пятерых заключенных, стража с красными звездами на фуражках набивала по 20–25 человек. Сидеть приходилось по очереди. От духоты и усталости люди теряли сознание" [234]234
Личное сообщение А.И. Сухно 9 окт. 1968 г.
[Закрыть].
Доктор биологических наук Михаил Семенович Мицкевич, арестованный на пятый день войны, добавляет: "До Саратова поезд шел недели две. В дороге мы голодали так, что к концу пути стали настоящими скелетами".
Две недели ехал и Вавилов: пытка поездом закончилась для него только 29 октября.
В Саратове заключенных снова поставили на четвереньки, потом, раздевая догола, обыскивали и, наконец, после "санобработки" под душем с ледяной водой, развели по камерам. Вавилов попал в корпус номер три, где содержали наиболее крупных общественных и политических деятелей. В 1941–1942 годах в третьем корпусе сидели: редактор "Известий" Ю. М. Стеклов, один из старейших коммунистов, основатель и первый директор Института Маркса Энгельса академик Д. Б. Рязанов, философ и литературовед, директор Института мировой литературы академик И. К. Луппол, писатель Михаил Левидов и много других коммунистов и некоммунистов такого же ранга.
Некоторые одиночки третьего корпуса были превращены в следственные камеры. Там приехавшие из Москвы следователи вели допросы. Из этих камер круглые сутки доносились удары и стоны избиваемых.
Сначала Вавилов сидел в одиночке. Здоровье его к январю 1942 года пошатнулось, но, по словам очевидцев, он все еще производил впечатление человека в высшей степени значительного, не сломленного голодом и тюремным режимом. Таким увидала его и Ирина Пиотровская, шестнадцатилетняя саратовская школьница, осужденная за "попытку организовать покушение на товарища Сталина".
"Я не могу точно назвать дату, но очень хорошо помню, что это было в январе 1942 года, – пишет она. – Увидела я его, вернее сказать, он со мной познакомился не в саратовской тюремной больнице, а во дворе Саратовской тюрьмы (3-го корпуса, так называемого "спецкорпуса" для политических заключенных). Нас поодиночке выводили из разных камер и собирали во дворе тюрьмы для отправки, как потом оказалось, в тюремную больницу. Говорю "как потом оказалось" потому, что система была такова: никто из заключенных не должен знать, куда его ведут или везут. Просто тюремный надзиратель открывал "кормушку" и объявлял: "Собирайся с вещами…" Душу наполнял ужас – такой вызов мог означать самое страшное… Когда вывели меня, во дворе уже лицом к забору стояли люди, держа руки назад. Меня тоже подтолкнули к этой группе, и я оказалась рядом с Николаем Ивановичем. Безусловно, в тот момент я не знала, кто стоит со мной рядом, и не старалась узнать, занятая своими переживаниями, страхом неизвестности, слезами и соплями. Вдруг я услышала очень спокойный голос: "Почему ты плачешь?" – и повернулась на него. Человек в черном пальто, очень худой, с бородкой и интеллигентным лицом сделал два шага в мою сторону. Я ответила, что очень боюсь, не знаю, куда повезут, что у меня все болит и я хочу домой. Он спросил меня, сколько мне лет и какая у меня "статья". Я ему все ответила, и он мне сказал: "Слушай меня внимательно и постарайся запомнить, ты наверно выживешь, запомни мое имя, я – Вавилов Николай Иванович, академик. А сейчас не плачь и не бойся, нас везут в больницу. Даже меня перед тем, как расстрелять, решили полечить… Я сижу один в камере смертников. Не забудь мое имя". Потом он еще рассказал мне анекдот про евреев, которые, когда их обложили непомерными налогами, сначала плакали, а затем, когда уже нечего было отдавать, начали смеяться… Вскоре нас всех втолкнули в "черный ворон" и повезли. Вся поездка заняла несколько минут, так как тюремная больница находилась на территории тюрьмы, только в другом корпусе, но попасть в нее можно было только через улицу. Из "ворона" нас высаживали по одному. Больше я Николая Ивановича не видела.
В больнице меня держали недолго, и когда я вернулась в камеру, то через некоторое время "по тюремному радио" (я имею в виду перестукивание, спускание "коня" и массу других средств связи между заключенными) услышала, что академик Вавилов умер в тюремной больнице… возможно, конечно, что "тюремное радио" – не самое Главное Бюро Информации, но в том, что я с ним встречалась в январе 1942 года, я абсолютно уверена" [235]235
Письмо И.К. Янковской (Пиотровской) из Владивостока от 18 апр. 1967 г.
[Закрыть].
Тюремное радио на этот раз ошиблось. Николай Иванович из больницы вернулся. Но теперь он оказался не один. Многоэтажная и многокорпусная саратовская тюрьма номер один была в годы войны перегружена сверх всякой меры. Журналистка и врач Ангелина Карловна Pop вспоминает, что зимой 1942 года из-за тесноты заключенные спали только на боку [236]236
Личное сообщение А.К. Pop.
[Закрыть]. Ночью, на нарах люди не могли перевернуться с одного бока на другой поодиночке, переворачиваться должен был весь ряд.
В душной спертой атмосфере камеры арестанты то и дело теряли сознание. В ответ на жалобы тюремное начальство после прибытия очередного эшелона загнало в одну из таких переполненных камер еще пятьдесят человек! Так было не только в "общих" корпусах, но и в "спецкорпусе". В подвале, в узкой каменной щели, которую в мирное время использовали, очевидно, как карцер-одиночку, Вавилов застал двух обитателей. Его соседями оказались академик Луппол и саратовский инженер Филатов, оба приговоренные к расстрелу.
Автора книг о французских энциклопедистах, философа И. К. Луппола арестовали почти одновременно с Вавиловым, судили их в Москве тоже в одно время, одинаковым был и приговор. Сорокачетырехлетний красавец, в советское время сделавший блестящую научную и служебную карьеру (в сорок лет академик, директор института), Иван Капитонович не переставал удивляться бедам, которые на него обрушились. Тем не менее тяготы тюрьмы сносил он стоически и товарищем оказался неплохим. Во всяком случае, третий обитатель камеры, Иван Федорович Филатов, говорил впоследствии, что счастлив оттого, что хоть в конце жизни, в тюремной камере повстречал таких душевных, отзывчивых и умных людей, как Вавилов и Луппол. Личность Филатова, саратовского уроженца, инженера по обработке дерева, нас интересует прежде всего потому, что именно он сохранил рассказ о жизни в камере смертников.
Как Филатов попал в тюрьму? Все, кто его помнит, говорят, что трудно представить человека более скромного и работящего. Должность в лесосплавной конторе занимал что ни на есть самую скромную и низкооплачиваемую. Но у этого работяги был с точки зрения властей серьезный изъян: дядя Филатова имел в Саратове до революции собственную лесную пристань. Ярлык "из бывших" был достаточным основанием для того, чтобы в первый месяц войны Филатова-племянника схватили как тайного врага Советской власти. Среди тринадцати арестованных по фальшивому "делу" был и молодой шофер Георгий Лозовский. Большинство "заговорщиков" никогда прежде в глаза друг друга не видели, но следователей это не смутило. Они неделями таскали арестованных на очные ставки, стремясь во что бы то ни стало сколотить "групповое дело". Шофер Лозовский, несмотря на побои и пытки, подписывать протоколы допросов не стал и был отправлен на фронт. Слабовольный и физически слабый Филатов лживые показания подписал, и в феврале 1942 года его приговорили к расстрелу. Пока апелляция ходила в Москву и обратно, прошло несколько месяцев, все это время Иван Федорович провел в камере смертников. Расстрел в конце концов заменили ему десятью годами лагерей, но к этому времени бедняга-инженер так ослаб и отощал, что его отпустили умирать домой, или, как тогда говорилось, "сактировали".
К весне 1944 года из трех обитателей камеры смертников не осталось в живых ни одного. Филатов на свободе прожил не дольше, чем Луппол, которого перевели в Мордовские лагеря. (В последнем письме из лагеря академик умолял жену прислать ему немного сухарей.) Вавилов погиб еще раньше. Вместе с этими троими должны были сойти в могилу им одним ведомые подробности жизни в тюремном подвале, их переживания, их разговоры в ожидании вывода на расстрел. Казалось бы, ничто не могло спасти от забвения судьбу трех смертников. И тем не менее произошло чудо, одно из тех маленьких чудес, которые во все времена мешали Злу безнаказанно утаивать свои преступления. Незадолго до смерти, уже находясь на свободе, Филатов встретил своего однодельца шофера Лозовского и рассказал ему все. Наконец, Лозовский солдат Советской Армии – мог погибнуть на фронте. Но случилось так, что Лозовский не погиб и ничего не забыл. В воскресенье 12 февраля 1967 года механик саратовского таксомоторного парка Георгий Матвеевич Лозовский принял в своем домике на окраине Саратова представителей Академии наук СССР и по их просьбе продиктовал на магнитную ленту то, что двадцать три года назад ему рассказал Филатов. Тайное стало явным.
«…Тысяча девятьсот сорок четвертый год. Январь или февраль. Приехал я в Саратов с фронта, в краткосрочный отпуск. В доме – холод, топить нечем. Вся семья, пять человек, в одной комнате. Пошел я в Волго-Камский лесосплав похлопотать о дровах. В конторе увидел я человека, которого сначала даже не узнал. Он сидел за столом, правой рукой доставал из ящика кусочки черного хлеба и с жадностью его жевал. Это был Иван Федорович Филатов, точнее – его тень. Подсел я к нему, завязалась беседа. Я был настолько потрясен его рассказом, что забыл, что моя семья сидит в холодной комнате: на дворе был крепкий мороз. Просидели мы с ним часов пять, а после работы я проводил его домой…»
Как же, по словам И. Ф. Филатова, выглядел «быт» смертников?
«…Камера была очень узкая, с одной койкой, прикованной к стене, окон не имела. Находилась эта камера в подвальном помещении тюрьмы. Тюрьму эту многоэтажную арестанты по сходству со знаменитым многопалубным кораблем, погибшим в Атлантике, звали „Титаник“. В камере круглосуточно горела лампочка. Жара, духота. Температура доходила до тридцати градусов. Сидели потные. Одежду свою – холщовый мешок с прорезью для головы и для рук заключенные называли хитоном. На ногах лапти, плетенные из коры липы. Луппол говорил, что такую одежду носили рабы в Древнем Риме. Питание было трехразовое: две ложки каши и миска супа из тухлых помидоров соленых с кусочком ржавой селедки – обед и ложка каши на ужин. Кроме того, полагалось триста или четыреста граммов черного хлеба из ячменной муки. Передачи и приобретения для этой категории заключенных были запрещены. Все попытки жены Филатова помочь мужу оставались напрасными».
Оставим на минуту магнитофон. Сравним рассказ Филатова – Лозовского с тем, что вспоминает о тюремном питании в те же месяцы другой узник саратовской тюрьмы, преподаватель Московского университета А. И. Сухно: «Питание? Утром теплая водичка с солью вместо сахара. Хлебная пайка на сутки – триста граммов. Хлеб был, как правило, сырой, недоброкачественный. В обед получали мы баланду – болтушку из муки, откуда иногда удавалось выудить рыбью голову. Из-за этой „гущи“ в камере то и дело вспыхивали ссоры и даже драки. На ужин давали похлебку из зеленых помидоров. И совсем уже редко заключенным доставался сахар: что-нибудь чайная или столовая ложка. Засыпали прямо в ладонь. Кашу и селедку давали только тяжелобольным по назначению врача» [237]237
Личное сообщение А.И. Сухно 9 окт. 1968 г.
[Закрыть]. По всей видимости, «меню», описанное по личным впечатлениям Андрея Ивановича Сухно (он, как и Вавилов, сидел в третьем, «специальном», корпусе «Титаника»), более достоверно, нежели то, которое запечатлелось в памяти Лозовского.
Но, как говорится, не единым хлебом жив человек. Чем же занимались смертники в течение долгих месяцев пребывания в каменном мешке? Сухно вспоминает, что неинтеллигентные люди, даже очень здоровые, погибали в тюрьме подчас быстрее, чем те, кто находил занятие своему уму. Сам Сухно начал в камере сочинять стихи, хотя на свободе никогда стихотворством не занимался. Когда в его одиночку бросили еще одного узника, то они вдвоем договорились поголодать сутки, чтобы из сэкономленного хлебного мякиша смастерить шахматные фигурки. Доской служила расчерченная гвоздем столешница. Этой малости оказалось достаточно, чтобы два человека, беззаконно арестованные и отбывающие срок в условиях, каких мир не знал со времен инквизиции, успокоились, забыли о своих печалях и даже повеселели. Шахматная игра наполняла их жизнь несколько дней кряду, пока вновь подселенный третий арестант-доходяга не сожрал ночью всех коней, слонов и ферзей…