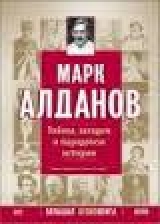
Текст книги "На "Розе Люксембург""
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
– Я отроду не мог придумать ни одной рифмы и с итонских лет не читал ни одного стихотворения. Но если бы я был, избави Бог, писателем, то непременно научился бы писать стихи. Рифмованный вздор запоминается гораздо лучше нерифмованного и обеспечивает автору бессмертие на несколько большее число лет. Над мыслями великих поэтов производятся глубокомысленные исследования даже тогда, когда их стихи были написаны в пьяном виде, – быть может, всего больше в этих случаях. Если бы те же мысли были выражены яснее и точнее в прозе, они были бы забыты на второй день,
Гамильтон слегка пожал плечами и взял со столика раскрытую книгу.
– Можно? – спросил он. – Сэр Вальтер Ралей… Знаю, что это нужно хвалить, но» каюсь, я не читал Ралея.
– Это наша семейная драгоценность. Здесь упоминается об одном моем предке. («Так и думал, он даже не найт{12}, но, может быть знатнее герцогов, это у них бывает», – почему-то с некоторой досадой сказал себе Гамильтон.) Кстати, об этом моем далеком предке я больше ничего не знаю. У него, конечно, был большой жизненный опыт, свой образ мыслей, свой круг наблюдений, – быть может, больше моего, – вставил Деффильд, – и от всего этого не осталось ничего, ровно ничего. Странно, правда? А перед большой опасностью бывает не только странно, но и жутко... Знаю только, что он ненавидел испанцев так же, как я ненавижу немцев, хотя, разумеется, с неизмеримо меньшим правом, чем я.
– Почему непременно надо ненавидеть врага? Достаточно его разбить. Можно отлично воевать без всякой ненависти.
Нет, нельзя. Il faut avoir l'esprit de haïr ses ennemis{13}, – сказал Деффильд, плохо выговаривая французские слова. – Вы понимаете по-французски? Я где-то вычитал эту фразу умного писателя, она не в стихах и потому малоизвестна. У вас, у американцев, не хватает, к сожалению, этого рода ума. А вот у русских он сейчас есть. Этот их комиссар, быть может, гангстер, но я от него в восторгу: когда он заговорил со мной о немцах, у него перекосилось от ненависти лицо. И те другие изверги, что висят на стене в небольшой комнатке, где происходят их комические лекции, они тоже умели ненавидеть: и злодей в белом воротничке с галстучком, и злодей в рубашке без галстучка... Эта смена туалета, кстати сказать, символична для их новейшей эволюции... Вот только зачем они повесили на стену портрет той курчавой пацифистки, в честь которой названа наша старая калоша?
– Извините меня, не могу с вами согласиться! – сказал, вспыхнув, Гамильтон. – Не говоря о том, что они наши союзники и что они нас теперь спасают... Но ж не могу называть злодеями великих революционе ров! Я уверен, что через пятьдесят лет им будут воз двигнуты памятники во всех столицах мира! Я убежден и в том, что высшая социальная правда с ними.
Коммандэр Деффильд высоко поднял брови. «Он и брови поднимает так, как на сцене актеры, играющие лордов, – подумал сердито Гамильтон. – И мне совершенно все равно, что обо мне думает он и ему подобные потомки Ралеев. Я не потомок Ралеев! Он, вероятно, и меня считает существом второго разряда, если не полудикарем...»
– Конечно, обо всем этом трудно судить, – сказал коммандэр, видимо, пожалевший о сказанных им словах. – И нам, иностранцам, особенно трудно судить о России. Быть может, русский народ лучший в мире после… – Он хотел было сказать: «после английского», но сказал: – …после англосаксонской расы. Однако вы тогда, на катере, правильно сказали: «русские – самые лучшие актеры на свете». Они хорошо играют, и они еще лучше молчат… Я пробыл в России три месяца и ничего не понимаю. Решительно ничего не понимаю. Быть может, нам и невозможно их понять. Разве мы с вами могли бы прожить 25 дней так, как они живут 25 лет?
– Я мог бы! Я могу.
Коммандэр Деффильд посмотрел на него.
– Поверьте мне, этому народу предстоят еще долго удивлять мир. Русские и до сих пор удивляли человечество много больше, чем другие народы. Они будут продолжать. Вопрос в том, как они нас удивят в ближайшие годы.
– Я могу жить так, как живут русские, – решительно повторил Гамильтон. – Скажу больше: я буду жить так, как живут они, и я буду участвовать в...
Он не докончил фразы. В дверь постучали, В каюту быстро вошел капитан Прокофьев. Он был бледен и взволнован. В руках у него был листок бумаги.
– Получено важное известие, – сказал Сергей Сергеевич. – Подводная лодка U-22 потоплена английским контрминоносцем.
Лейтенант Гамильтон вскочил в восторге.
– О!.. Я так рад!.. Это... Я поздравляю вас так много! – воскликнул он, протягивая руку Прокофьеву. И в ту же секунду он почувствовал, что говорит совсем не то, что нужно. Коммандэр Деффильд, изменившись в лице, внимательно читал радиотелеграмму. У русского капитана лицо было такое, точно случилось большое несчастье. Лейтенант понял не сразу, но понял: «Они упустили добычу! Им надо было потопить лодку самим!»... .
–Все-таки я очень рад, – нерешительно сказал он, показывая, что как солдат вполне понимает их переживания. Он чувствовал себя так, точно оказался в обществе двух психопатов.
XII
Марья Ильинишна плакала, лежа на койке в своей каюте. Она мысленно расставалась с Россией, и ей казалось, что в этом есть некоторое подобие измены.
Лейтенант Гамильтон сделал ей предложение на третий день их плавания. Она приняла это предложение на пятый. Теперь был седьмой. Было решено, что он съездит в Америку и вернется (как предполагал и раньше). Надо было испросить согласие отца. На робкий вопрос Марьи Ильинишны, даст ли его отец согласие, Гамильтон отвечал, что в этом не может быть ни малейшего сомнения. Однако по особой бодрости его ответа она почувствовала, что сомнение может быть. Ей казалось странным, что взрослый человек хочет просить отца о согласии на брак, еще более странным, что можно съездить » Америку и вернуться в Россию. Она ему верила: видела, что он не умеет лгать, ни даже скрывать правду. Но она ему и не верила: видела: что положиться на него нельзя. Он сам (на второй день) сообщил ей, что уже два раза делал предложения; из этого почему-то ничего не вышло ни в первый, ни во второй раз: не то он передумал, не то она передумала; выходило как будто, что скорее он передумал.
Она (с первого дня) называла его Чарли, – всякому было ясно, что нельзя называть его ни мистер Гамильтон, ни тем менее товарищ Гамильтон. Вначале ей показалось, что это несерьезное имя, что так же невозможно называться Чарли, как называться Гарун-аль-Рашидом. О делах своих и об образе жизни он покаянно говорил со второго дня. Марья Ильинишна до сих пор мало интересовалась деньгами, – но нельзя же ими не интересоваться совершенно? Сначала она слушала его рассказы так, как слушала бы путешественника, приехавшего с Сандвичевых островов, – сама это ему сказала. И все-таки не совсем так, эти Сандвичевы острова имели свою прелесть. Он говорил, что у них квартира из девяти комнат на трех человек, – это на жилплощадь просто невозможно перевести, – что у отца есть имение и два автомобиля.
«У X. три автомобиля!» – обиженно возразила она, называя известного советского писателя. «Нет, мы только два», – ответил он, не поняв ее чувства. «У вашего отца есть текущий счет?» – спросила она, видимо щеголяя этим выражением. Он опять не понял, как не понял бы, если бы его спросили, есть ли у его отца носовые платки.
Гамильтон рассказывал о балах, об охотах, об обедах в гостинице с тремя тысячами комнат, о поездах, из которых можно говорить по телефону с любым городом мира. «И из жесткого вагона?» – строго спросила она; тут же сама себя назвала дурой, и в том, что она себя назвала дурой, была уступках буржуазному миру. Слушая его рассказы, она еще вскрикивала от негодования, но ее негодование слабело. Он негодовал больше, чем она. Рассказывал он отлично, хотя на языке, очень ее забавлявшем. Только о платьях он ничего толком рассказать не мог, – не понимал и даже не знал самой обычной терминологии, которую знает любая женщина в мире, хотя бы патагонка. Слушая его смущенные ответы на ее вопросы, она только укоризненно на него смотрела, – вот ведь, кажется, и умный, а идиот, – и старалась дополнить то, что можно было из него высосать, своим воображением и эрудицией; за год до войны видела парижский модный журнал: по-французски она понимала плохо, но поняла все и была заворожена музыкой слога.
На шестой день она его спросила, что же будет, если отец все-таки не даст согласия на их брак. Он горячо ответил, что все равно уже принял твердое решение: он переедет в Россию и будет жить трудовой социалистической жизнью. На это она ничего не сказала.
У них было решено, что она купит самоучитель и будет учиться английскому языку. Он отнесся к этой мысли с восторгом, – как, впрочем, ко всему, что она говорила, – и посоветовал, в дополнение к самоучителю, брать частные уроки. Теперь в порту столько английских и американских судов, учителя найти будет очень легко. Она вздохнула, изумляясь его наивности: точно она могла в здравом уме и твердой памяти пригласить к себе учителем иностранного моряка, да еще в такое время! «Я не знаю, выпустят ли меня, когда мы поженимся?» – нерешительно сказала она. Он сначала не понял, потом опять не понял, потом рассыпался в уверениях, что выпустят: теперь между Россией и Соединенными Штатами будут новые, совершенно новые отношения. Оказалось также, что американский посол в Москве хорошо знает их семью, что он учился с его отцом в университете, что при поддержке посла в разрешении ей выезда не может быть ни малейшего сомнения. Для него ни в чем не могло быть ни малейшего сомнения.
На «Розе Люксембург» уже кое-что замечали. Капитан Прокофьев был мрачнее тучи и всячески избегал их. Младший офицер Мишка деликатно спешил уйти, когда оставался в их обществе. А комиссар Богумил, почему-то бывший в восторге от этого романа, как-то, встретив Марью Ильинишну на палубе, ни с того ни с сего выпалил: «Полюбил Наташу хлебопашец вольный, – да перечит девке немец сердобольный». Слова эти не имели никакого смысла, непонятно было даже, кто тут немец, кто хлебопашец, но Марья Ильинишна прямо с палубы направилась в каюту и там, запершись, залилась слезами. Несмотря на свою энергию и жизнерадостность» она вообще плакала часто.
Ей было мучительно жаль Сергея Сергеевича. Между ними никогда ничего не было, он не делал ей предложения, не говорил, даже намеками, что любит ее. Но она прекрасно понимала, что в любую минуту может стать его женой: стоит только сказать одно слово. И хотя знала она его очень давно – полгода, – она этого слова не говорила. Марья Ильинишна уважала Прокофьева, он был Герой Советского Союза – и действительно герой, и прекрасный человек. «Отчего у него такие ногти? И отчего он, бедняжка, так некрасив?» Марья Ильинишна часто слышала от своих приятельниц, что для мужчины красота не имеет никакого значения, и даже обычно с этим соглашалась, но ей всегда казалось, что ее приятельницы врут и что она сама врет. Актеры-красавцы, которых она видела в американских фильмах, ей очень нравились – и не только игрой. Ей нравилось и то, что они были так неправдоподобно-изумительно одеты, что каждый из них мог в минуту необходимости на руках перенести вверх по лестнице, да еще ступая через две ступеньки, красавицу среднего сложения и что у каждого из них было, по-видимому, неограниченное количество денег (ей самой неизменно приходилось прибегать к займам или к авансам за несколько дней до получки). У всех этих людей был, несомненно, текущий счет.
Теперь, лежа на койке, глотая слезы, она старалась вспомнить, были ли у нее знакомые или знакомые знакомых, которые вышли бы замуж за иностранцев. Это случалось, но чрезвычайно редко. Обычно мужья в этих случаях были иностранные коммунисты. Им действительно удавалось вывозить русских жен за границу. «Однако, если посол друг его отца?» Марья Ильинишна была реальный политик и понимала, что если американский посол друг его отца, то, быть может, ее и выпустят. Но больше ничего реального в его словах не было. Ей мучительно не хотелось расставаться с Россией, которую она любила больше, чем говорила, и даже больше, чем сама думала. Но ей приходило в голову и то, что люди живут один раз и что хорошо было бы хоть немного пожить так, как живут эти изумительно одетые, веселые, беззаботные, красивые люди на экране. И сам он, Чарли, был тоже человек с экрана, встретившийся ей непонятным чудом. Потом можно будет вернуться. «Конечно, я вернусь. Только немного там поживу и вернусь... Может, к тому времени и у нас станет легче... И что же делать, если я люблю его? Я полюбила», – говорила она себе, и было что-то, удивлявшее ее формой, чуть ли не звуком, в этих двух словах.
Утром седьмого дня, случайно (так ей казалось) проходя по коридору мимо его каюты, Марья Ильинишна почти столкнулась с Гамильтоном: в своем темно-красном халате он выбежал в коридор за горячей водой для бритья. Из приличия он отшатнулся, прикрыл голую шею рукой, прокричал по привычке: «Хелло» и побежал дальше, очень довольный встречей: знал, что халат ему к лицу. Она пошла дальше, грустно улыбаясь. Почему-то при виде этого халата она опять усомнилась в том, что выйдет за него замуж, – как усомнилась бы, что может стать женой человека » пудреном парике и в золоченом красном мундире, вроде Германнов, Томских, Елецких, которых показывали в «Пиковой даме». «А может, я и не влюблена? Разве можно влюбиться в Германна?» – спросила она себя растерянно. Больше она сама ничего в своих чувствах не понимала.
За обедом все выражали радость по поводу того, что подводная лодка U-22 потоплена английским контрминоносцем; все в один голос говорили, что важен, конечно, лишь самый факт уничтожения пирата, – а кто его уничтожил, не имеет никакого значения. Но лица при этом были злые и у Сергея Сергеевича, и у штурмана, и даже у Миши. Комиссар говорил, что поход можно считать конченным, что в четверг они встретятся с английской эскадрой, а в будущую среду уже вернутся в Мурманск. Но он больше не называл поход Сталинским и про себя что-то сердито бормотал, обещая кого-то «съездить в Харьковскую губернию».
XIII
По любезности младшего офицера, иностранным гостям приносили утренний чай в их каюты. Молодой матрос, тот самый, который встретился Гамильтону в первый день, и на этот раз с детским изумлением оглядел четвертую за неделю шелковую пижаму лейтенанта и его темно-красный халат. Гамильтон вначале рассчитывал прочесть во взгляде матроса-социалиста классовую ненависть (это, пожалуй, можно было бы вставить в поэму «Север», – Байрон вклеивал и не такое); но никакой ненависти он, при своей безошибочной чуткости, ни во взгляде, ни в душе матроса не прочел. «Да, прекрасный, добрый, чуждый зависти народ!» – это, впрочем, тоже годилось для поэмы. Матрос поставил поднос на чемодан, снял со столика часы, портсигар, зажигалку, две книги, десяток исписанных листков, записную тетрадь в кожаном переплете («к плану поэмы «Север»), ключи, самопишущее перо и много других предметов. Глядя на них с тем же детским любопытством, он все бережно разложил на чемодане, перенес на столик поднос, раздвинул складной стул. У него было такое впечатление, что этот очень нравившийся ему чудак в шелку и в бархате ничего своими ручками сделать не в состоянии.
Утренний завтрак, как всегда, был обильный и хороший. От Марьи Ильинишны Гамильтон знал, что русские офицеры получают не все из подававшегося иностранным гостям, и, хотя Мэри добавила: «Мы этих ваших мармеладов не любим, а питаемся мы сытно», лейтенанту ее сообщение было не совсем приятно. Тем не менее он ничего на подносе не оставил. У него все время был зверский аппетит; он приписывал это морскому воздуху. Море по-прежнему было совершенно спокойно: немного качало только раза два под вечер. Штурман говорил, что не помнит в Баренцевом море такой хорошей погоды в это. время года. Лейтенант огорченно думал, что со времени потопления подводной лодки их плавание, несмотря на боевую обстановку и всевозможные предосторожности, почти превратилось в увеселительную поездку, столь же мирную, как увеселительные поездки по рекам и озерам Америки.
Оставив поднос на чемодане, Гамильтон занялся делом. На этот раз дело у него было довольно неприятное и непривычное: он производил подсчет денег.
Гамильтон отлично знал, что его сообщение о желании жениться на русской коммунистке, на чьей-то разведенной жене, на 25-летней докторше, вызовет бурю в родительском доме. Родители не могли запретить ему жениться на ком ему угодно; с тех пор как он достиг семнадцатилетнего возраста, они вообще никогда ничего ему не запрещали. Но в их враждебности его плану, даже в их негодовании, сомневаться было невозможно. Отец принадлежал к правому крылу республиканской партии. В дни уплаты подоходного налога мрачно называл президента Рузвельта большевиком и лишь в июле 1941 года согласился прочесть первую из вновь выходивших восторженных книг о России. Мать, боготворившая сына, ревновала его к всякой девице, бывавшей в их доме, и не раз откровенно говорила,, что ранняя женитьба Чарли была бы для нее большим горем. Как горе она приняла и первую его серьезную любовь, хотя он тогда сделал предложение молоденькой хорошенькой барышне, которая принадлежала к их обществу и никаких возражений вызвать не могла. О втором своем предложении он матери не сообщил: вторая барышня к высшему американскому обществу не принадлежала; а главное, он тогда жил в университете, сравнительно далеко от родителей: в письмах Чарльз Гамильтон еще мог кое-как скрывать правду.
Неизбежная семейная буря сама по себе его не пугала. Ой очень любил родителей, но в этой буре было то, что ему нравилось: борьба за принципы, за убеждения, то самое, ради чего он после Пирл-Харбора подал заявление о желании поступить на военную службу (которая до того казалась ему варварской глупостью). Однако он чувствовал: после бури просить отца о деньгах не годилось, да это и не обещало никакого успеха.
Гамильтон вынул записную книжечку, в которой ему полагалось заносить расходы, взял бумажник, пересчитал деньги и убедился, что их у него оставалось 162 доллара и несколько сот рублей. Затем он со вздохом книжечку закрыл: собственно, имел ведь значение только итог: подсчет расходов представлял лишь теоретический интерес, да и то небольшой. Перед отъездом из Америки он получил от отца две тысячи долларов. Было просто непонятно, куда же ушли деньги? Правда, очень дорого стоил прощальный ужин, устроенный им товарищам по выпуску и продолжавшийся с разными переездами до следующей ночи. Затем был еще прощальный вечер, устроенный друзьям, не бывшим его товарищами по выпуску, – две трети их были девицы. Много стоили подарки и цветы, особенно корзина цветов очень сложного значения, посланная им последней герл-фрэнд, Минни, за полчаса до отъезда на пристань. Были не подлежащие записи в книжку расходы во время краткого пребывания в Лондоне. Но важно было только то, что оставалось 162 доллара и несколько сот рублей. Рубли при обмене в России поглотили у него немало долларов; на вопрос же о том, что можно будет за их остаток получить в Нью-Йорке, один американский моряк в Мурманске ответил ему сухо и кратко: «Только в морду».
На жалованье младшего лейтенанта жить с женой было, очевидно, невозможно. У него промелькнула мысль, что можно было бы сначала поговорить с отцом о деньгах – с сыном, героем и ветераном, отец, конечно, будет очень щедр, – а затем сообщить родителям о невесте. Но он тотчас отогнал от себя эту мысль, как нечестную; вдобавок знал, что все равно не удержится и расскажет родителям о своем плане женитьбы еще по дороге с пристани домой. На жалованье младшего лейтенанта жить было невозможно, но можно было вернуться, при бесплатном проезде в Россию – разумеется, без подарков и цветов – кому же теперь посылать цветы! Он не без грусти вспомнил о Минни и смущенно представил себе предстоящую встречу с ней.
«Да, вернуться в Россию будет легко, – подумал Гамильтон, – а это все разрешает! До окончания войны буду воевать. Жениться на Мэри можно будет раньше...» Он вспомнил о двух товарищах, которые, будучи простыми солдатами, успели жениться, один – в Австралии, другой – на Филиппинских островах. «После окончания войны мы поселимся навсегда в России. Я куплю ферму на... там, где родилась Мэри (он забыл название Украина). Мы будем работать! Все равно прежняя жизнь вернуться не может, и слава Богу! Капиталистический строй кончается во всем мире, но в других странах великие социальные преобразования только начнутся, а у них уже есть готовая налаженная счастливая жизнь. Труд на земле – самый чистый и самый благородный! (Он с восторгом вспомнил, что писали о труде и о земле Tоpo, Эмерсон, Генри Джордж.) Да, скоплю немного денег и куплю ферму с садом... Будем с Мэри обрабатывать землю, а вечером, в свободное время, я буду писать, как это делали многие, как это делал Толстой, как это делал...» Он не мог вспомнить, кто еще, кроме Толстого, днем пахал землю, а вечером, в свободное время, писал. «Мэри будет помогать мне...»
В нем неприятно шевельнулось незначительное воспоминание. Накануне он зашел за Мэри в аптеку «Розы Люксембург», служившую и больничным покоем. В каюте стоял тоскливый больничный запах. Марья Ильинишна отпускала слабительное одному из матросов. На стене висел сосуд для промывания желудка. Лейтенант Гамильтон поспешно вышел, сказав Марье Ильинишне, что подождет ее на палубе. Она видела, что он чем-то недоволен, но не могла понять, чем именно. Гамильтон и себе не сознавался, что профессия врача кажется ему оскорбительной для женщин. И он теперь не сказал себе, что Мэри будет лечить крестьян в соседних деревнях. «Да, она будет помогать мне в моей работе!»
Мысль о покупке фермы на юге России, на той благословенной, залитой солнцем земле, о которой ему рассказывала Мэри, мысль о небольшом, крошечном, из четырех комнат, домике так взволновала его, что он вскочил бы и стал бы расхаживать по каюте, если бы по ней можно было расхаживать. «Она говорила о вишнях! Вокруг домика будет вишневый сад – какая чудесная пьеса Чехова! – я буду работать в этом саду!» (Он очень любил вишни.) «Там, на юге, я напишу свою поэму о Севере – «как лучшие песни о свободе рождены в тюрьме!» Конечно, капиталистический мир кончается, и если кто о нем не пожалеет, то это именно я. Да, настоящая жизнь будет только в России, и в эту жизнь я войду, я приму участие в строительстве социализма!»
Вдруг раздался сигнал, какой-то очень странный, неприятный сигнал. Отрывисто и грозно трубила труба. К ней почти в ту же секунду присоединился электрический звонок.
XIV
На палубе было столпотворение. Матросы носились по ней в беспорядке, надевая спасательные пояса. Все орали истерическим голосом. Крики смешивались с трубными звуками, с гудками, с ревом свистков. «Да ведь это паника», – разочарованно подумал лейтенант Гамильтон, сразу немного обалдевший от дикого шума. Он уже слышал о панике немало рассказов – «а я думал, что они тогда репетировали панику в последний раз»: Гамильтон имел в виду учение, на которое из-за Марьи Ильинишны опоздал в первый день плавания; с той поры репетиции паники на «Розе Люксембург» больше не было. «Не переигрывают ли они, однако?» – с недоумением спросил себя он. У спасательных лодок два матроса с бледными лицами старались большими кухонными ножами перерезать толстые канаты; один из них отчаянно рубнул канат. Немного дальше штурман что-то рвал с остервенением. Лицо у него было искажено. Из рассказов за обедом Гамильтон знал, что это был тот номер программы, который по мастерству выдумки считался вторым: «уничтожение судовых документов». Лучшим номером было появление младшего офицера с клеткой: Мишка «спасал свою любимую канарейку». «Отлично играет штурман! И все очень хорошо играют! Необыкновенные актеры!» – подумал Гамильтон. Он окинул взглядом палубу – и оцепенел с подавленным криком: слева, на небольшом расстоянии от «Розы Люксембург», из воды быстро, наклонно поднималось чудовище.
Лейтенант Гамильтон бросился к борту. Он на бегу с кем-то столкнулся, зашатался и чуть не упал. Мимо , Него, подняв к небу руки, пробежал комиссар Богумил, тоже что-то оравший. Мишка пронесся по палубе поперек судна, держа в одной руке клетку, вцепившись себе в волосы другой рукой. Замирая от волнения, Гамильтон достал бинокль, приставил его к глазам и завертел валик. Подводная лодка шла к ним почти под прямым углом. В бинокль и даже простым глазом можно было увидеть людей в немецких мундирах – до сих пор он их видел только на экране в фильмах, в которых показывались ужасы гестапо и подвиги Интеллидженс Сервис. Лейтенант быстро перевел взгляд на полосу моря между лодкой и «Розой Люксембург». Ему показалось, что на судно идет мина, с ее каемочной пены на поверхности. Он закрыл глаза, больше потому, что это условное движение из литературы прочно вошло в человеческую физиологию, и тотчас снова их открыл. «Неужели сейчас взрыв?!» Гамильтон не потерял самообладания, он был физически храбр, он просто не знал, что ему нужно делать. Подумал, что если мина сейчас взорвется, то силой взрыва его выбросит в море, и он будет увлечен на дно водоворотом вокруг тонущего судна. Подумал было об акулах и успел с облегчением себе ответить, что в Баренцевом море акул нет, – хуже такой смерти он ничего себе представить не мог. «Если водоворот не затянет, надо выплыть вон туда и вцепиться в какой-нибудь обломок. Будут обломки, вот и это упадет... Я плаваю недурно, могу продержаться и час, и два... Нет, в ледяной воде двух часов не продержусь... Ну, что ж, надо умереть с честью, как подобает американскому офицеру», – книжными словами, но с совершенной искренностью подумал он, все ожидая взрыва: он полуоткрыл рот, лицевые мускулы сбоку от ушей у него чуть шевельнулись вверх. Взрыва не последовало, полосы с пеной он не видел и больше не сводил глаз с чудовища. Лодка вдруг изменила направление: Германские артиллеристы возились у орудий. На борту показалась белая цифра 2, за ней опять 2 дальше тире и буква. «U-22! – воскликнул он с изумлением. – Но ведь она потоплена!»
Лишь в эту секунду (затем не мог ни понять, ни простить себе, что так поздно) Гамильтон с невыразимой радостью вспомнил, что ведь «Роза Люксембург» не просто пассажирский пароход, что это судно-ловушка, что она будет защищаться, что есть люда, которые об этом думают. Он оглянулся и ахнул. Шагах в пятнадцати от него, у трапа, ведущего на мостик, стоял, опустив бинокль, коммандэр Деффильд. Его бескровное лицо поразило Гамильтона выражением напряженной хищной страсти, знакомым лейтенанту по охоте. Коммандэр чуть наклонил вперед свою гигантскую фигуру. Из его ушей странно торчали болтающиеся цепочки. Правое плечо его загибалось вперед, точно инстинктивно отвечая чьему-то чужому движению, – позднее Гамильтон понял, что коммандэр плечом помогал подводной лодке повернуться и стать мишенью для огня русских орудий. Лодка действительно поворачивалась. «Отчего же они не стреляют?!» – с отчаянием подумал лейтенант. Коммандэр Деффильд быстро повернул голову назад и вверх. Гамильтон последовал за ним взглядом и с восторгом увидел главное действующее лицо. Капитан Прокофьев неподвижно стоял на мостике, не отрывая глаз от бинокля. По лицу Деффильда что-то пробежало. Он подумал, что сейчас или никогда: через минуту будет поздно. В это самое мгновение Прокофьев бросил бинокль, висевший у него на ремне, и поднял обе руки. Вдруг настала мертвая тишина. Командир шагнул к поручням и надавил кнопку. У борта, на разных томах, зловеще завыли ревуны. Прокофьев что-то прокричал страшным голосом. Слов лейтенант Гамильтон не разобрал.
Макетные ящики взвились на веревках. Лейтенант, никогда туда не заходивший, увидел орудия. В ту же секунду оглушительно загремели выстрелы. Заткнув инстинктивным движением уши, Гамильтон бросился к борту. Он хотел было навести бинокль на лодку, отвел руки от ушей, но тотчас снова зажал их, – так нестерпим был почти беспрерывный сливающийся грохот трехдюймовок. Простым глазом он увидел впереди бившую очень высоко пенистую струю воды, за ней столб черного дыма« Совсем близко от него сверкали красные искры. Он бросился в сторону, чтобы сбоку увидеть лодку. Вверх по мачте что-то поползло очень быстро и развернулось (позднее он узнал, что это был военный флаг, поднятый в ту секунду, когда командир приказал открыть огонь). Грохот орудий все рос, став совершенно слитным. С конца палубы тоже ничего не было видно, кроме огоньков, фонтана пены и черного облака. Гамильтон перегнулся через борт, отшатнулся, бежал назад и вдруг прямо перед собой увидел то, что представить себе никогда не мог бы и что казалось противоречащим законам природы: коммандэр Деффильд, ударив себя по ляжке левой рукой, танцевал на месте от восторга. В его ушах быстро болтались цепочки.
Грохот выстрелов стал слабеть и оборвался, сменившись внезапным, быстро нарастающим, бурно-радостным воем. На коммунальной палубе в общем вопле и гуле штурман обнимался с комиссаром, с кем-то обнимался Мишка, обнимались другие люди. Коммандэр Деффильд, уже без цепочек, не обнимался ни с кем. Стоя у борта, от неторопливо протирал белоснежным платком стекла бинокля.
– Потоплена? – спросил лейтенант, подбегая к коммандэру. Тот удивленно на него взглянул. Он не успел ответить. К ним быстро, с протянутой рукой, подходил, улыбаясь, капитан Прокофьев, Коммандэр крепко пожал ему руку.
– Это было красиво, – медленно сказал он. – Паника была первый класс. Артиллеристы были первый класс. Вы были совершенно первый класс» Я желал, вы были английский моряк, моряк Его Величества, – сказал он, видимо, не удержавшись. Сергей Сергеевич оценил высшую похвалу и радостно улыбнулся.
– Все-таки для верности я велю пустить несколько глубинных снарядов, – сказал он.
– Это красиво, – одобрил коммандэр. – Всегда красиво глубинных снарядов. Но он кончен, кончен капитан Лоренц.
– Здесь глубоко? – спросил Гамильтон, невольно глядя в ту сторону, где недавно находилась подводная лодка.
– Совсем не глубоко, – ответил Сергей Сергеевич. – Тут мели. Думаю, что он на мели и ночевал. На ней ему и оставаться до конца дней... Но как же ваше официальное сообщение, будто британск. миноносец потопил его? – спросил коммандэра Прокофьев, и на лице его, несмотря на радостную минуту, появилась лукавая улыбка. Коммандэр пожал плечами, видимо, недовольный этой историей. Они заговорили о радиотелеграмме, которую следует послать. Гамильтон отошел от них с недоумением.






