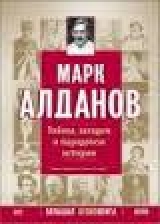
Текст книги "На "Розе Люксембург""
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
VII
Капитан Лоренц проснулся задолго до сигнала: всегда ложился последним, вставал первым. Надев кожаную куртку, он впустил в ноздри капли, ослаблявшие насморк, и вышел в контрольную камеру, где у гидрофона сидел ночной дежурный, радиотелеграфист, с желто-зеленым лицом, с воспаленными глазами. При появлении капитана он вскочил, сорвал с себя наушники, вытянулся и доложил, что не слышно ничего. Лоренц принял доклад с видом полного недоверия и, ткнув рукой в сторону (это означало приказ уступить место), сам сел за гидрофон. Радиотелеграфист с ужасом на него смотрел: всем было известно, что капитан владеет каждым из бесчисленных приборов лодки лучше, чем приставленный к прибору специалист.
Лоренц тоже ничего не услышал, радиотелеграфист вздохнул свободнее. Капитан встал с недовольным видом, точно говорил: «Да, на этот раз верно, но это ничего не доказывает». Он обошел контрольную камеру, внимательно вглядываясь своими бесцветными глазками в бесчисленные аппараты, трубки, рычаги, – было поистине непостижимо, как люди могут в них разбираться. Все было в полном порядке, нигде не было ни соринки, медь была натерта до золотого блеска. Эта чистота составляла странный контраст с ужасным, почти нестерпимым воздухом. Затем Лоренц вышел в машинное отделение. Радиотелеграфист радостно проводил его глазами. Сзади всегда казалось, что у капитана Лоренца в костяке что-то искривлено или сломано.
Через минуту радиотелеграфист услышал сумасшедший крик. По коридору пробежал матрос с перекосившимся от ужаса лицом. У него что-то оказалось не в порядке. Вдобавок в минуту входа капитана в его отделение он вполголоса напевал песенку, пришедшую зимой с русского фронта: «Oh, weh, oh weh im, tiefen Rußlands Schnee»{5}.
Проверив ночные дежурства, заглянув в полутемную минную камеру, где на стойках были прикреплены запасные торпеды, он направился назад к себе. Брезгливо морщась, прошел мимо батарейной, откуда доносился тяжелый храп: над электрическими батареями койки висели так тесно одна над другой, что сесть было бы невозможно. Лоренц вошел в каютку, зажег лампочку, увидел фюрера и сел за работу. Как всегда с утра, ему мучительно хотелось курить, но об этом до подъема не приходилось и думать.
Через несколько минут послышался сигнал. Люди, не разбуженные страшным криком командира, засуетились, слезая с коек. Повар, тоже желто-зеленый, как все, принес капитану Лоренцу на подносе термос с кофе, сахар и сухой бутерброд с не очень свежим салом: эти Schmalzstullen{6} были под водой главной пищей экипажа; горячие блюда готовились лишь в надводном плавании.
– Скажи Шмидту, чтобы собрал хор, – приказал Лоренц повару и, размешав сахар, морщась выпил залпом стакан полутеплой бурды. Вид бутерброда вызывал у него отвращение, однако он заставил себя съесть все до последней крошки. До подъема оставалось еще много времени. Дела на дне не было никакого. Музыка предназначалась для того, чтобы занять людей, и для мысленного общения с фюрером. Ею на лодке ведал матрос Шмидт, пользовавшийся относительной благосклонностью Лоренца. Капитан давно вывел бы его в люди, если бы не одно препятствие: Шмидт в свое время был. коммунистом. Правда, он давно покаялся на допросе в гестапо, но к нему еще доверия не имели. Сам Лоренц вначале тоже не доверял Шмидту и обращался с ним еще гораздо строже, чем с другими. Но потом этот матрос ростом в два метра приобрел его расположение своей распорядительностью, знанием службы, огромной физической силой и музыкальностью: у него был превосходный слух. Капитан назначил его дирижером (у каждого матроса лодки было по нескольку побочных занятий).
Люди в батарейной превратились в статуи при появлении командира. Он хмуро их оглядел. Лица у всех были совершенно измученные, у многих больные. Он понимал, Что иначе и быть не может при их ужасной, нечеловеческой жизни; но знал также, что еще на неделю-другую сил у людей хватит. Лоренц накануне подучил по радио предложение – не в форме приказа – вернуться на отдых в базу: ему предоставлялось решить этот вопрос по своему усмотрению. Он рассчитывал, что за одну-две недели потопит на этом пути еще двадцать, а то и тридцать тысяч тонн, – о сорока четырех тысячах лишь мечтал в жизнерадостные минуты. Место для охоты на одиночные суда он избрал очень удачно, а по опыту, искусству и чутью с ним могли соперничать лишь немногие подводники.
Из всех статуй в батарейной самой неподвижной был гигант с перебитым носом,с двумя шрамами на щеках, с громадными, волосатыми, страшными руками. Он держал у шва короткую толстую дубинку, заменявшую ему дирижерскую палочку. Капитан Лоренц его одного окинул взглядом без неудовольствия, Сухо поздоровавшись с людьми, командир приказал начинать. Шмидт быстро взмахнул палкой, высоко подняв ее над головой, и почему-то на мгновение капитану Лоренцу стало не по себе: при тусклом свете батарейной (ток берегли, где только возможно) не ему одному показался жутким этот стремительный взмах руки великана.
Три матроса заиграли на незатейливых инструментах тему радости из Девятой симфонии. У капитана Лоренца защипало в носу, – отчасти от насморка, отчасти от того, что он никогда не мог слушать эту тему без волнения. Капли плохо помогали. Он сдерживал чиханье, чтобы не подрывать своего величия в глазах матросов: командир подводной лодки чихать не может; Лоренц В обедая всегда отдельно, в своей каютке, чтобы матросы не видели, как он ест. На нижней части его худого лица мускулы обозначались еще резче обычного. Шмидт, встретившийся с ним глазами, поспешно их отвел: он подумал, что если бы сейчас пройтись кулаком по скуле командира, то одним ударом можно было бы превратить всю его челюсть в кровавую костяную кашу: в свое время Шмидту не раз случалось наносить такие удары в уличных стычках с расистами и с республиканцами.
В хоре принимали участие все матросы лодки, за исключением занятых на дежурстве, да еще совершенно лишенных слуха (таких было мало). Под взглядом бесцветных глазок капитана хор запел очень стройно:
Junge Kraft und alte Groesse,
Hackenkreuz und Schwarz-Weiss-Rot —
Feierlich dein Haupt entbloesse
Wo dis herrliche Zeichen loht!
Jubelnd mit Fanfarenstoesse
Klingt es hell nach Schmach und Not:
Junge Kraft und alte Groesse,
Hackenkreuz und Schwarz-Weiss-Rot...{7}
VIII
Капитан Лоренц угрюмо взглянул на вытянувшегося радиотелеграфиста, надел наушники и убедился, что радиотелеграфист прав: гидрофон передавал очень неясный звук, шедший как будто издалека. Лоренц подумал с минуту и приказал подняться.
Люди радостно бросились к аппаратам: все так задыхались на дне бухты» что готовы были на любую опасность, лишь бы глотнуть свежего воздуха. Что-то загудело, лодка мягко отделилась от дна и пошла вверх. Капитан сам вертел ручку перископа. Темно-синее, почти черное пятно в окуляре стало понемногу светлеть. Вдруг брызнул яркий, ослепительный сноп света, – Лоренц невольно отвел на мгновение мигнувший воспаленный глаз. Он, щурясь, стал вращать призму. Ничего тревожного не было видно, Повернув призму вверх, он отшатнулся от перископа и прокричал:
– Спуск! Живо!
Почти отвесно над лодкой, не очень высоко летели аэропланы, по всей видимости английские. Перископ быстро пополз под воду. Минный офицер уставился на Лоренца с немым вопросом: спросить вслух он не смел.
– Аэропланы, – сказал Лоренц нехотя; его рас поряжения не касались людей, они должны были ис полнять что им приказывалось, ни о чем не спрашивая даже немым взглядом. – Но, конечно, шум был не от них. Поблизости бродит англичанин. Вероятно, контр миноносец.
Вдруг раздался глухой, довольно далекий грохот. Лодку сильно толкнуло, электрические лампочки мигнули, что-то упало на пол. За первым взрывом последовали второй, третий, четвертый. «В одну минуту заметили», – с уважением к английским летчикам подумал командир. Глубинные снаряды падали, удаляясъ. Лоренц чуть не улыбнулся от радости: летчики не угадали направления, в котором теперь шла лодка. Глядя на него, просветлели и другие люди, которым полагалось стоять недалеко от командира« При всей своей общей глухой ненависти к командиру они знали, что в часы опасности их спасет он один; его чутье, опыт, знание моря и лодки внушали им суеверное благоговение.
– Шум усиливается, – сказал радиотелеграфист, не снявший наушников и во время разрыва снарядов. Командир поспешно подошел к гидрофону. Действительно, шум стал гораздо сильнее, отчетливей и нарастал очень быстро. Теперь Лоренцу было ясно, что навстречу ему на всех парах идет контрминоносец, очевидно, работающий в связи с аэропланами. Это была самая опасная комбинация для подводной лодки. Он немного подумал и указал новое направление. «Кажется, не будет ни 150-й тысячи, ни 107-й», – сказал он себе. Радиотелеграфист шевельнулся у аппарата, как бы выражая желание занять свое место,
– Я сам, – кратко сказал капитан.
В начавшейся борьбе вслепую все лежало на нем. Люди неясно понимали, что именно происходит, но все чувствовали, что лодка находится в смертельной опасности. Капитан сидел, наклонившись над гидрофоном, и изредка, не отрываясь от прибора, отдавал короткие приказания. Как только лодка изменила направление, изменил направление и враг. Лоренц понимал, что гидрофоны англичанина слышат его лодку так же хорошо, как он слышит контрминоносец. Уйти было невозможно: неприятельское судно шло втрое скорее. Он подумал было, не подняться ли настолько, чтобы можно было выставить перископ и пустить торпеду. Но ему было совершенно ясно, что если высунуть хоть кончик перископа, то аэропланы, теперь, верно, летящие почти над самой водой, мгновенно уничтожат лодку. Шум в приборе все усиливался. Он приказал выключить моторы. Минный офицер изумленно на него взглянул. Через минуту моторы остановились. Наступила тишина.
– Ни звука! Ни дыхания! – прошептал он, оглядев красными глазами людей в контрольной камере. Его шепот мгновенно побежал дальше. Гидрофоны новой системы улавливали решительно все: голоса, шаги, самый слабый шорох. Инструкция предписывала снимать в таких случаях сапоги. Но ему это было не нужно, он знал, что у него в лодке никто не шевельнется. Наклонившись еще ниже над прибором, он слушал напряженно. «Ну и ищите, ищите, где я!» – подумал он, впрочем без иронии: этого чувства капитан был совершенно лишен. Контрминоносец приближался, но Лоренцу казалось, что англичанин идет все-таки не совсем прямо на лодку. «Сейчас! Сейчас начнется!»... Кто-то в комнате чихнул. Капитан взглянул на виновного ужасным взглядом, тот обеими руками зажал нос и рот. Раздался очень сильный удар. Лампы опять зловеще мигнули. Все наклонилось. Люди попадали на пол. Сам капитан свалился с табурета и мгновенно поднялся на колени, оглядываясь по сторонам. Он поспешно нацепил сорвавшийся наушник и, не вставая с колен, припал к прибору. «Это конец! Они почти над нами!»...
Жизнь лодки теперь зависела только от этого почти. Страшный удар повторился, что-то опять повалилось, зазвенело, треснуло. Лампочки погасли. В темноте пронесся стон людей, передавшийся из контрольной камеры в другие отделения судна. Капитан не вскочил, но приподнялся на коленях, вытащил карманный фонарик и надавил пуговку. В бледно-желтом свете перед ним промелькнуло, совсем близко от него, искаженное страшное лицо Шмидта. Кто-то ахнул в углу. Он высоко поднял фонарик, оглянулся, соображая, и понял, что лодка еще цела. «Но следующий снаряд нас потопит!..» «Ни звука!» – опять прошипел он и на цыпочках пробрался к доске.
Водя вдоль нее фонариком, он разыскал нужный рычажок. Лоренц знал, что сейчас последует третий, вероятно еще более близкий, взрыв. Вцепившись правой рукой в трубу, зажимая фонарь между ней и большим пальцем, он положил на рычажок левую руку и опять еще ближе увидел Шмидта: тот стоял, нагнув туловище, подняв голову, точно готовящийся к прыжку зверь. «Если третьим не потопят, выждать ровно минуту и надавить...» В это мгновение раздайся третий удар, лодку подбросило и швырнуло в сторону, все опять повалилось. Капитан устоял на широко расставленных ногах и, крепко держась за трубу, принялся мысленно считать: один, два, три... Дойдя до шестидесяти, он повернул рычажок.
Из подвешенного снаружи к лодке большого сосуда на поверхность воды поползла громадная струя масла. В сосуде было то, что могло бы всплыть в случае гибели лодки: какие-то щепки, обуглившаяся доска, фуражка, что-то еще. Люди стояли, кто в обыкновенном положении, держась за устойчивые предметы, кто согнувшись вдвое, кто на коленях. Приложив указательный палец к углу рта, командир прокрался к гидрофону. Матросы с ужасом и благоговением смотрели на его тускло освещенную развинченную фигуру. Гидрофон не действовал, но, приблизив фонарь, Лоренц увидел, что все в порядке, только сорвался контакт. Прошла еще минута. Глубинные снаряды больше не падали. «Кажется, спасены!» – подумал он.
IX
Прошло еще минут пять. Минный офицер, который аккуратно вел дневник, вечером записал, что эти пять минут «показались ему вечностью». Теперь было ясно, что англичане дались в обман. «Зажечь свечи! Тихо!» – прошептал капитан Лоренц, возившийся с гидрофоном. Контрольная камера осветилась желтоватым светом. Второй офицер шепотом доложил командиру, что никаких повреждений нет: он обошел все отделения, Лоренц кивнул головой и, наладив контакт, надел наушники гидрофона. Он услышал удаляющееся уже довольно далекое, гудение: это было лучше Девятой симфонии. На мгновение у него мелькнула мысль: подняться и пустить вдогонку торпеду. Он вздохнул: «Невозможно!»
Так в освещенной свечами камере они сидели молча довольно долго. Капитан изредка надевал наушники. Радиотелеграфист возился с электрическим освещением, вставлял новые лампочки вместо разбившихся. Люди уже перешептывались, бегали, все на цыпочках, из одного помещения в другое, исправляли то, что нужно было исправить.
Еще минут через десять гудение в гидрофоне прекратилось. Почти одновременно зажегся электрический свет. Несмотря на то что приказ капитана об абсолютной тишине еще не был снят, по камере, затем по всей лодке, пронесся радостный гул. Лоренц хмуро оглядел людей и первым делом потушил свечи: кислорода оставалось уж совсем мало. Только теперь все почувствовали, что совершенно задыхаются. Командир отдал приказ: подняться. Радостный гул повторился с еще большей силой. На глубине десяти метров капитан заглянул в перископ: ничего тревожного не было видно.
Подавая людям пример терпения, он вышел на залитую светом палубу последним. Несмотря на привычку, Лоренц, мигая и щурясь, чуть пошатнулся и остановил дыхание. Затем медленно, как гастроном пьет дорогой коньяк, стал пить глотками холодный воздух. Люди носились по палубе, ошалев, дыша полной грудью, перекрикиваясь, на мгновение забыв о жестокой дисциплине. Это было неприятно капитану, но он понимал, что все-таки необходимо дать людям маленькую передышку после случившегося. Лоренц с наслаждением закурил сигару.
Минный офицер, толстый, благодушный баварец, по наружности представлявший собой нечто среднее между Вотаном и Герингом, подошел к нему и поздравил, восторженно отозвавшись о его искусстве. Этот офицер, недавно назначенный на лодку, все не мог найти верного тона с командиром: где уж лезть в равные, но не становиться же лакеем. Лоренц и ему внушал непреодолимое отвращение. Он при каждой встрече ждал если не скандала, то неприятности и старался избегать встреч без дела. На этот раз восторженные похвалы у него вырвались невольно. Капитан хмуро на него взглянул и поблагодарил довольно сухо. Он тоже терпеть не мог этого баварца, который не просил о зачислении в партию, каждый день молился, на берегу по воскресеньям ходил в церковь. К лести Лоренц был нечувствителен. Минный офицер поспешно отошел.
Покуривая сигару, капитан обдумывал то, что произошло. Его беспокоил вопрос: не следовало ли все-таки подняться и принять бой? Разум и опыт говорили ему, что он поступил совершенно правильно; тем не менее дело не доставило ему удовольствия: ничего потопить не удалось, ни одна тонна не прибавилась к 106 тысячам. «Да, были на волосок от гибели. Если бы дурак англичанин догадался наудачу бросить для верности еще несколько снарядов, было бы кончено...» Он думал об этом равнодушно. Как ни приятно было, что англичанин оказался дураком, все же радости он не испытывал. Думал, что и фюрер не испытывал бы радости на его месте.
Шмидт (хоть это было не его дело) на подносе принес командиру чашку кофе. Лоренц благосклонно кивнул ему головой и даже сказал: «Данке». Потом что-то неприятное смутно связалось в его памяти с видом этого человека, но он не мог вспомнить, что именно. «Нет, ничего не было. Очень хороший матрос...» Капитан залпом проглотил кофе. Выкурив половину своей сигары, он дотушил ее, спрятал вторую половину в портсигар и обошел все отделения лодки.
Минный офицер с другими следовал за ним и думал, что если бы Лоренца разбил удар, то, быть может, лодку при нынешнем недостатке в специалистах дали бы ему. «Но я не мог бы сегодня сделать то, что сделал он... Почему у этого замечательного моряка такой характер, такие манеры, такое отсутствие психологического чутья? Неужели он не понимает, что теперь надо поговорить с матросами, пошутить с ними, похвалить их!.. Конечно, он исключение и среди пруссаков». Минный офицер представил себе, как он бы себя вел, если б был командиром лодки. Когда обход кончился, он незаметно отстал от капитана. На кухне уже готовились горячие блюда. Он заглянул туда, отщипнул кусочек чего-то и с наслаждением запил холодным пивом.
Вдруг с палубы донесся дикий крик, столь хорошо знакомый всему экипажу подводной лодки. Минный офицер вздохнул, обменялся смущенным взглядом с поваром и побежал на палубу. Капитан Лоренц, вернувшись с обхода, увидел, что беспорядок еще продолжается; люди смеют хохотать в его присутствии. Он подумал, что команда злоупотребляет его снисходительностью, и заорал, выпучив красные глаза:
– Вниз! Бриться! Привести себя в порядок!..
На палубе мгновенно наступила полная тишина. Это – в тысячный раз – доставило ему удовольствие. Он победоносно оглянулся на офицеров, и что-то в выражении его лица показывало, что доля разноса относилась к ним. «Уж когда пруссак хам, то большего хама не сыскать в целом мире!» – оскорбленно подумал минный офицер.
Люди, крадучись, спускались вниз. Им навстречу по лесенке, шагая через три ступеньки, шел Шмидт. На том же подносе он принес командиру записку от радиотелеграфиста, который в надводном плавании возвращался к своим нормальным занятиям. Капитан Лоренц распечатал конверт и прочел перехваченное открытое сообщение врага: британский контрминоносец в полярных водах уничтожил германскую подводную лодку. Есть все основания предполагать, что это лодка U-22, которая уже давно орудует в этих водах; ею командовал – по крайней мере, еще недавно – капитан Лоренц, тот самый, что, по уверению германского командования, уничтожил 106 тысяч тонн флота Объединенных Держав.
Капитан Лоренц прочел записку, перечел ее и, в виде исключения, протянул подошедшему минному офицеру. Лоренц достал из портсигара вторую половину сигары и стал раскуривать ее от зажигалки. Хотя было совершенно светло, он по привычке прикрывал огонек рукой точно так же, как это делал капитан Прокофьев. Неожиданно у него от смеха затряслось всё тело. Минный офицер взглянул на командира с изумлением: на лодке говорили, что капитан Лоренц улыбается раз в год, в день рождения фюрера. Сигара выпала из рук командира. Минный офицер инстинктивно хотел было ее поднять, но удержался и не поднял, сделав вид, будто перечитывает записку. Капитан Лоренц сам поднял окурок и, смеясь, раскурил его; руки у него сильно тряслись.
X
«Капиталистический мир вновь потрясен империалистической войной. В кровавую бойню втянуто больше половины населения земного шара. В ожесточенных боях на суше, на море и в воздухе участвуют миллионные армии, сотни военных кораблей, броневиков, самолетов.
Среди этого бушующего океана разрушений, уничтожения миллионов человеческих жизней, как несокрушимый утес, стоит могучая страна социализма. Благодаря мудрой сталинской политике она избавлена от ужасов войны и страданий...
Хитро и коварно плели свои преступные замыслы поджигатели войны. Планы английских империалистов сводились к одному: столкнуть Советский Союз и Германию, втянуть эти две крупнейшие европейские страны в войну, а потом, когда воюющие стороны ослабеют, продиктовать им свою волю. Такова исконная политика Англии – воевать чужими руками, а самой при этом извлекать выгоды. Однако на этот раз замыслы английских империалистов потерпели полный провал; они были разоблачены перед всем миром гениальным вождем большевистской партии и народов Советского Союза – товарищем Сталиным».
Коммандэр читал по-русски свободно, но медленно. Прочитав передовую статью «Морского Сборника», он немного удивился – впрочем, не слишком, – заглянул на первую страницу и кивнул головой вполне удовлетворенно: «Номер седьмой, 1940 год...» Тогда понятно: русский капитан дал ему старый журнал. Тем не менее у него прошла охота читать дальше. Мистер Деффильд взял со столика каюты другую книгу, с которой расставался редко. Это было очень старое, перешедшее к нему от предков издание с длинным названием «A report of the troth of the Fight about the Isles of Azores this last summer. Betwixt the Revenge, one of her Majesties Shippes, and an Armada of the King of Spaine. Penned by the Honorable Sir Walter Ralegh, knight.
Because the rumors are diversely spread, as well in England as in the low countries and elsewhere, of this late encounter between her Majesties Shippes and the Armada of Spaine; and that the Spaniardes according to their usual maner, fill the world with their vaine glorious vaunts, making great apparence of victories: when on the contrary, themselves are most commonly and shamefully beaten and dishonoured; thereby hoping to possesse the ignorant multitude by anticipating and forerunning false reports: It is agreeable with all good reason, for manifestation of the truth to overcome falsehood and untruth; that the beginning, continuance and successe of this late honourable encounter of Syr Richard Grinvile, and other her Majesties' Captaines, with the Armada of Spaine; should be truely set downe and published without parcialtie or false imaginations...
The names of her Majesties shippes were these as followeth: the Defiaunce, winch was Admiral, the Revenge Viceadmiral, the Bonaventure commanded by Captaine Crosse, the Lion by George Fenner, the Foresight by Mr. Thomas Vavisour, and the Crane by Duffield...»{8}
Эта строчка, которую он знал наизусть с детских лет, утешала его во всех огорчениях жизни. Но теперь, когда он был ближе к смерти, чем когда-либо бывал прежде, коммандэр Деффильд с особенным чувством читал о том, что его предок принимал участие в боях с Великой Армадой. На «Розе Люксембург» пока, впрочем, все шло хорошо. Море по-прежнему, уже четвертый день, было спокойно. Они приближались К. водам, где, по сведениям английской и русской разведки, находилась подводная лодка U-22. Капитан Прокофьев больше почти не сходил с мостика. Сигнальщики ни на минуту не покидали постов.
«... Finding himselfe in this distresse, and unable anie longer to make resistance... and perswaded the companie, or as manie as he could induce, to yeelde themselves unto God, and to the mercie of non els; but as they had like valiant resolute men, repulsed so manie enimies, they should not now shorten the honour of their nation by prolonging their own lives for a few hours, or a few daies…»{9}
Удивительней всего ему казалось то, что необыкновенный человек с необыкновенной судьбой, написавший это 350 лет тому назад, с такой точностью, так хорошо, так просто выразил его собственные чувства. «Да, никакой разницы нет», – с гордостью подумал коммандэр Деффильд. Он не считал свою жизнь счастливой. Не слишком удачной была и его служебная карьера: некоторые из его сверстников уже были коммодорами, – обмолвка Прокофьева, назвавшего его коммодором при первом знакомстве, была ему неприятна. Неудачи по службе были косвенно связаны с увлечениями его частной жизни. «Перед смертью полагается оглянуться на все прошлое, но нет ни охоты, ни необходимости, да может быть, все-таки до смерти еще далеко? Во всяком случае, я всегда готов…»
«…What became of his bodie, whether it were buried in the sea or on the lande wee know not: the comfort that remaineth to his friends is, that he hath ended his life honourably in respect of the reputation wonne to his nation and country, and of the same to his posteritie, and that being dead, he hath not outlived his owne honour…»{10}
В дверь постучали. Он догадался, что это стучит лейтенант Гамильтон: русские почти никогда к нему не заходили. Этот восторженный юноша, теперь влюбленный – вероятно, » двадцатый раз и в десятый без толку, – немного раздражал коммандэра Деффильда, как его раздражал удалой тон русских, всего нынешнего русского – книг, газет, разговоров, как его раздражало почти все: именно эту общую раздраженность прикрывала частью природная, частью выработанная невозмутимость Деффильда. Однако Гамильтон был несомненно милый, хорошо воспитанный, очень образованный, даже слишком образованный, молодой человек. «The Yanks are coming»{11}, – подумал коммандэр (от песенки у него оставались в памяти только эти слова: он не мог запомнить даже мелодию национального гимна и узнавал ее лишь тогда, когда все вставали). Действительно, в каюту вошел лейтенант. Коммандэр Деффильд пододвинул ему свой складной стул, а сам пересел на койку.
– О нет, вы нисколько мне не помешали. Я очень рад, – сказал он с вполне достаточной, но не чрезмерной дозой приветливости в голосе. Гамильтон взглянул на него не без робости и пожалел, что пришел.
Марья Ильинишна покинула его в девять вечера, сославшись на то, что ее начинает укачивать. Он проводил ее до каюты и вернулся на нижнюю палубу. Не сговариваясь, они теперь гуляли почти всегда по нижней палубе, хотя коммунальная, над которой возвышался капитанский мостик, была лучше. Гамильтон еще погулял, любуясь морем, небом, рассеянно придумывая эпитеты для северных звезд: «мохнатые?» «пушистые?» – все давно использовано. Внезапно мысль о том, что любоваться морем и звездами придется в одиночестве весь долгий вечер, привела его в ужас. Ему не хотелось ни читать, ни писать стихи. Ему хотелось только говорить: говорить о своей любви, о своих новых планах жизни. Коммандэр Деффильд был, собственно, последний человек, которому можно было бы сказать об этом, но он, по крайней мере, говорил по-английски: четыре дня разговоров на русском языке вызвали у Гамильтона умственную усталость, совершенно ему не свойственную.
Однако как только он увидел этого старого лысого холодного человека, который и у себя в каюте сидел, вытянувшись на неудобном стуле, вместо того чтобы лежать на койке, задрав ноги на чемодан, лейтенант Гамильтон подумал, что приходить сюда никак не следовало. «Он сейчас спросит: «Чем могу вам служить?..» Гамильтон сам улыбнулся при мысли, что хотел было рассказать все коммандэру Деффильду, и тотчас перевел свое сообщение на язык мыслей коммандэра: «Американский мальчишка влюбился в русскую большевичку, сделал ей предложение и собирается на ней жениться».
XI
– Эти русские изумительный народ! – сказал лейтенант Гамильтон. – Я от них в полном восторге. Какое радушие! Какая сердечность, какая простота! Кажется, они и моряки прекрасные? Об этом я судить не могу.
– Очень хорошие моряки, – подтвердил коммандэр Деффильд. – Капитан-лейтенант Прокофьев и его штурман – знатоки дела. Матросы работают исправно. Если комендоры не хуже других, то у нас есть маленькие шансы на успех.
– Маленькие шансы? – спросил лейтенант с удивлением. – Так вы не считаете успех обеспеченным?
Мистер Деффильд посмотрел на него и усмехнулся.
– Эта старая калоша пойдет ко дну не то что от торпеды, а от единого выстрела самого легкого орудия, – сказал он. – Вы составили завещание?
– Завещание? – так же озадаченно переспросил лейтенант. Мысль о завещании никогда не приходила ему в голову. Он хотел было ответить, что ему нечего завещать, так как все имущество принадлежит отцу, но не сказал этого, чтобы коммандэр не считал его мальчишкой. – Нет, я не составлял завещания.
– Я составил, хотя я небогатый человек и хотя у меня нет очень близких людей. Русские, конечно, не составляют, так как им нечего завещать. «Разумеется, он презирает тех, у кого ничего нет», – неуверенно пожаловался было себе на Деффильда Гамильтон, но, по своей честности, тотчас признал, что коммандэр сказал это без малейшего «презрения», да и самого себя только что назвал небогатым человеком.
– Я служил в прошлую войну на кью-шипс, на судах-ловушках, – пояснил Деффильд. – Это еще опаснее, чем служить на подводной лодке, хотя и далеко не так противно. На подводной лодке вы, вступая в бой, всецело зависите от своего искусства и хладнокровия. Здесь вы вначале зависите только от настроения врага. Если он пожелает пустить в вас торпеду, он вас потопит, хотя бы вы были самим Нельсоном. Против этого вы бессильны... Тем не менее у нас есть некоторые шансы. Первый: торпеды стоят дорого, их у капитана Лоренца, верно, всего несколько штук в запасе, он их, конечно, бережет. Второй: он пожелает захватить наши судовые документы, чтобы представить своему начальству. Третий: судя по тому, что я о нем слышал, он пожелает предварительно над нами поиздеваться. Поэтому он торпеды в нас, должно быть, не пустит, а прикажет нам остановиться, чтобы потом потопить нас выстрелом. Тогда начинается игра. И тут, кажется, мы можем положиться на капитан-лейтенанта Прокофьева.
– Я и не думал, что это так опасно. – Гамильтон сказал это без страха (он и теперь не представлял себе, что может погибнуть), но с полным недоумением: возможность смерти расстраивала все его планы. – Но ведь если он нас и потопит, то мы сядем на лодки?
– Или не сядем. А если и сядем... Баренцево море одно из самых пустынных и страшных мест в мире, особенно эта его часть... Если вы останетесь в живых, вы напишете о нас прекрасную поэму.
– Очень сожалею, что сообщил вам о своих стихах, – сказал Гамильтон, – вы, наверное, считаете полуидиотами людей, которые в трезвом состоянии пишут стихи?
Коммандэр Деффильд засмеялся.






