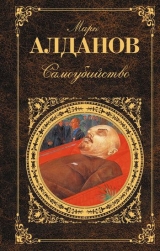
Текст книги "Самоубийство"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 37 страниц)
III
Люда подумала, что и этот ресторан, и переполнявшая его публика живут эксплуатацией рабочего класса. Но сильных угрызений совести не почувствовала. Все тут, столики с белоснежными скатертями, мягко и уютно освещенные лампочками с одинаковыми абажурами, туалеты дам, так не походило на дешевенькие грязноватые ресторанчики, в которых они иногда обедали с Рейхелем, обсуждая цену каждого блюда. По привычке Люда и тут взглянула на правую сторону обеих карт, но никаких цен не нашла.
– Вы любите шампанское, Людмила Ивановна? – спросил Тонышев. – Я не люблю, это у меня какая-то аномалия. Но здесь есть превосходное красное бордо. С вашего разрешения, мы с него начнем: вместо рыбы я вам предложил бы лангусту, а ее отлично можно запивать и красным вином. Вообще все эти правила гастрономов очень условны и часто казались мне неверными.
– А вы гастроном? И знаток вин? – спросила Люда, беспокойно вспомнив о банюильсе.
– Нет, просто люблю хорошо поесть. Гастрономам плохо верю, а уж тем знатокам, которые говорят, что различают год вина, не верю совершенно.
По тому, как он заказывал обед и как ел, Люда видела, что еда занимает немалое место в его жизни. «И без рисовки человек», – думала она. Ей понравилось, что после красного вина он заказал только полбутылки шампанского, очевидно не боясь потерять уважение лакея. «Джамбул тоже не рисуется, но он полбутылки не заказал бы».
– Я ведь пить не буду, а вы целой бутылки не выпьете, – пояснил Тонышев.
– Без вас и я не буду пить, – сказала Люда. Ей очень хотелось шампанского.
– Тогда выпью бокал и я.
Разговор он вел очень приятно, слушал внимательно, говорил о себе в меру. Ее спрашивал только о том, о чем можно было спрашивать при первом знакомстве: любит ли она импрессионистов, что думает о Дебюсси, предпочитает ли Малый театр Александринскому?
– О Художественном я вас не спрашиваю. На нем у нас коллективное умопомешательство. Театр хороший, и артисты есть талантливые, но нет гениальных артистов, как Давыдов. Он величайший актер из тех, кого я видел, а я видел, кажется, почти всех. Да и актрис таких, как Ермолова или Садовская, у них нет. Книппер или Андреева, если говорить правду, артистки средние. И ничего не было уж такого умопомрачительного в постановке «Федора Иоанновича». Не говорю о Станиславском, он большой талант. Но Немирович-Данченко мало понимает в искусстве: достаточно прочесть его собственные пьесы, это просто макулатура, и вдобавок макулатура à clef[30]30
Списанная с натуры (франц.).
[Закрыть]: выводил своих знакомых!
– Ось лихо!
– Вы не украинка ли? По вашему говору не похоже.
– Нет, я коренная великоросска. Но я обожаю украинцев! И еще кавказцев, особенно осетин, ингушей. Малорусского языка я и не знаю, но ужасно люблю вставлять украинские слова, обычно ни к селу ни к городу как только что. И ругаться чудно умею. Вы не верите? «Щоб тебя пекло, да морило!..» «Щоб тебя, окаянного, земля не приняла!..» «Щоб ты на страшный суд не встал!..»
– Да это все великорусские слова плюс «щоб». Так и я умею, – сказал Тонышев. Обоим было весело.
– А вы говорите «сиверко». Разве вы вологодский? Или где это у нас так говорят?
– Нет, это моя мать была родом из северо-восточной России, и у нас в семье осталось это слово. А я родился в Петербурге.
– Я тоже.
– Но возвращаюсь к театру. Я когда-то видел в Киеве малороссийскую труппу. Они тоже ставили макулатуру, такую же, как та, что преобладала и в наших столичных театрах. Но как ставили и как играли! Заньковецкая могла дать нашей Комиссаржевской «десять очков», как говорится в чеховской «Сирене».
Люда горячо вступилась за Комиссаржевскую:
– Я ее обожаю! – сказала Люда. Она по-особенному произносила это слово: «Аб-ба-жаю!». – Комиссаржевская наша, она понимает чаянья нашего времени. Божественная артистка!
– Едва ли «божественная». Конечно, и она очень талантлива, хотя тоже мало смыслит в литературе.
– Уж очень вы строгий судья, Алексей Алексеевич! Да вы сами не пишете ли?
– Только докладные записки. Правда, веду дневник.
– Вот как! О чем же?
– Не о мировых проблемах. Просто о том, что вижу и слышу. И, разумеется, только для себя.
– Так говорят все авторы дневников, а потом печатают. Но вы любите литературу?
– Чрезвычайно. Имею библиотеку тысячи в две томов. Я немалую часть своего дохода трачу на книги и на переплеты. У меня слабость к переплетам, есть даже работы самого Мишеля.
– Но ведь как дипломат вы часто переезжаете. Неужели все с собой перевозите?
Он вздохнул.
– Вы попали в больное место. Да, перевожу и книги, и обстановку. Я думал, что в Париже пробуду долго, и устроился прочно. Нашел квартиру с собственным садиком в Пасси, где еще мало кто живет. На отделку потратил все свои сбережения, даже влез в долги магазинам. Теперь, конечно, все уже выплатил. Так вот, переезжай в Вену!
– Хорошая у вас квартира?
– Не сочтите за хвастовство: чудесная! И картины есть. Поверите ли вы, что я купил Сезанна за сто франков? А он по гению равен величайшим художникам Возрождения. Отчего бы вам не взглянуть? Сделайте одолжение, побывайте у меня.
«Однако! – подумала Люда. – Темп берет уж очень быстрый! Даром стараешься!»
– Как-нибудь с удовольствием.
– Отчего же «как-нибудь»? Поедем ко мне хоть сегодня, отсюда, – предложил он и сам опять смутился. «Прямо мопассановский вивер[31]31
Прожигатель жизни (франц. viveur).
[Закрыть] с гарсоньерками!» – подумала она. Другому ответила бы: «Отстань, нет мелких». – Вот и отдадите мне визит, – пошутил Тонышев. – Или вы по вечерам не выходите?
«Это значит: «Или вы замужем?» – перевела она его вопрос. Ей не хотелось говорить ему о Рейхеле, особенно об их гражданском браке; в своем кругу она об этом сообщала новым людям с первых слов, но там на это никто не обращал внимания.
– Отчего не выхожу? В самом деле можно было бы куда-нибудь еще поехать после обеда. Разве в театр?
– В театр уже поздно.
– Значит, вы меня сегодня «вывозите»? Если так, то знаете что? Мне давно хочется взглянуть на ночной Париж. Вы его видели?
– Разумеется, видел. Но Монмартр с его кабачками уж очень банален. Хотите побывать на «Bal d’Octobre»?
– Какой «Bal d’Octobre»?
– Это одна из самых популярных трущоб Парижа. Я всюду бывал: и у Fradin, и в «Ange Gabriel», и в «Le Chien qui fume»[32]32
«Собака, которая курит» (франц.).
[Закрыть]. «Bal d’Octobre» самая жуткая. Не пугайтесь, никаких убийств там не бывает, есть много апашей, но сидят и полицейские. Туда ездят наши великие князья. Недаром в Париже все такое теперь называется «la tournée des Grands Ducs»[33]33
«Прогулка великих князей» (франц.).
[Закрыть]. Только туда в одиннадцатом часу ехать еще рановато. И уж на минуту мне все равно пришлось бы заехать домой. Переодеваться ни вам, ни мне не нужно, а вот мой цилиндр там был бы принят недружелюбно.
– Ваш цилиндр не только в трущобах, но и на мою консьержку, верно, произвел сильное впечатление, – сказала Люда. – «Где наша не пропадала! Вернусь к часу. Аркадий беспокоиться не будет, привык».
– Я и сам не люблю этот странный головной убор. Ничего не поделаешь, все носят.
– Не в моем ученом квартале, – сказала она. Говорила бессознательно в единственном числе: «Мой квартал, моя консьержка». «Так она ученая? Надеюсь, хоть не медичка?» – подумал он. – Но вы были верно еще элегантней в мундире. Вы имеете придворное звание? – спросила Люда. «Точно я ему все учиняю допрос! Тогда необходимо сказать хоть что-либо и о себе». Ей не хотелось говорить и о том, что она социалистка.
– Никакого придворного звания не имею… Вы верно меня считаете человеком из романа какого-нибудь Болеслава Маркевича? – спросил он, засмеявшись. – Это неверно. Уж если говорить на политическом жаргоне, то я просто либерал, разве с легким уклоном в сторону… Как сказать? Не славянофильства, а в сторону нашего покровительства балканским странам с целью объединения славян. Видите, я жаргон знаю. И, само собой, я сторонник введения в России конституции. Мы к этому и идем со времени убийства Плеве.
– Значит, вы сочувствовали его убийству? – насмешливо спросила Люда.
– Я не могу сочувствовать убийствам, как не могу сочувствовать и казням. Но если говорить совершенно искренне, то мое первое чувство, когда я узнал о смерти Плеве, была радость.
– Довольно неожиданно для царского дипломата.
– Мне самому было совестно, да что ж делать, это было именно так. Вы говорите: «царский дипломат». Да, я царский дипломат и монархист. Вы еще больше удивитесь, если я скажу, что убийству Плеве рады были многие «царские дипломаты». Он, помимо прочего, был одним из главных виновников этой бессмысленной и несчастной войны с Японией. Дипломат по самой своей природе не должен стоять за войну… Не должен, хотя часто стоит. По-моему, наша единственная задача, даже наше ремесло, в том, чтобы предотвращать войны. Офицеры другое дело, хотя и из них немногие сознаются, что в глубине души хотят воевать… А вы очень левая? – весело спросил он.
– Очень. Но я не хочу говорить о политике.
– Признаться, и я не хочу. Понимаю, что мы во взглядах не сходимся. Не все ли равно, каких вы взглядов, если…
– Если что? – спросила Люда. «Вот теперь для него прекрасный случай сказать какую-нибудь галантерейность о моем уме или о моем очаровании», – подумала она.
– Если можно говорить о чем угодно другом, о том, что людей не разъединяет, – докончил он. Люда смотрела на него чуть разочарованно. Ее несколько разочаровали и его либеральные взгляды. Почему-то с самого начала она его представила себе «холодным аристократом»; между тем он на «холодного аристократа» не походил, и ей было досадно расстаться со своим представлением. «Уж не просто ли бесцветная личность? Впрочем, симпатичный. В старости верно будет носить великолепную окладистую бороду à 1а… Не знаю à 1а кто»… И это его испортит. Он недурен собой».
– Шампанское очень хорошее. Вы обещали выпить бокал, – сказала она. – За что же? Давайте выпьем как запорожцы: «щоб нашим ворогам було тяжко»!
– За это не могу. Я не запорожец – и не революционер. У меня нет врагов.
– Это скорее печально: значит, у вас мало темперамента.
– Выпьем «щоб нам було хорошо».
– Что ж, можно и так.
Квартира у Тонышева была небольшая, всего в три комнаты, действительно очень хорошая. «Ему никак нельзя сказать, что я люблю все красивое. Мебель, разумеется, стильная, но лучше об этом не говорить: можно и напутать». Свойственное ей чутье подсказывало ей, как приблизительно надо с ним говорить. В кабинете у среднего из трех окон стоял большой письменный стол с покатой крышкой.
– Вы верно видели в Лувре похожее бюро, принадлежавшее Людовику Пятнадцатому, – сказал он. – Разумеется, то неизмеримо лучше, но и мое недурное, мне посчастливилось купить на редкость дешево! Я был просто счастлив в тот день!
Люда поддерживала разговор осторожно. Подходя к картинам, старалась незаметно прочесть подписи и очень хвалила, особенно картины новых художников. Это видимо доставляло ему удовольствие, хотя он сразу огорченно заметил, что его гостья мало смыслит в искусстве. У длинной стены были шкапы с книгами. На столах лежали разные издания в дорогих переплетах. «Верно, если капнуть чаем, он сойдет с ума от горя…» На шкапах стояли бюсты Пушкина, Тургенева, Чайковского. «А этот кто? Кажется, поэт Алексей Толстой? Он-то почему?»
– Сколько у вас книг! Завидую, – сказала она. Тонышев улыбнулся.
– Помните у Гоголя обжору Петра Петровича Петуха. Каждый из нас на что-нибудь Петух, если можно так выразиться. Он на еду, я на книги. А вы на что Петух?
– Ни на что, – подумав, ответила Люда с досадой. – У вас на шкапу Пушкин и Чайковский. Я очень люблю их сочетание. «Евгений Онегин» моя любимая опера.
– Хоть тут мы с вами вполне сходимся.
– Не удивляйтесь, в искусстве я люблю не только революционное.
– И слава Богу!
– А вы играете на рояле?
– В молодости учился.
– «В молодости»! Значит, теперь вы «стары»?
– Мне тридцать три года, Людмила Ивановна. Все главное уже позади. На что новое может надеяться тридцатитрехлетний человек? Ведь это уже почти старость, а? Играть же я перестал, когда впервые услышал Падеревского. Сделалось совестно, что я смею играть на рояле. Тогда начал интересоваться живописью.
– Почему, кстати, у вас эта вещь над диваном в двух экземплярах?
– Это мой трюк! – сказал Тонышев. – Та, что слева, это моей работы: подделка под сангину восемнадцатого века. А рядом оригинал. Не удивляйтесь, подделывать нетрудно. Я нашел в лавке старьевщика очень старую бумагу, подверг ее действию дыма, чуть обжег где-то концы, намалевал и ввожу в заблуждение знакомых. Кажется, похоже?
– Очень похоже! Так вы умеете и «малевать»? Вы, я вижу, эстет?
– Знаю, что так называются не одаренные творческими способностями люди и что быть «эстетом» очень гадко.
– Я этого и в мыслях не имела!
– Будто?.. В эту трущобу ехать еще рановато. Посидим немного у меня. Я вас ничем не угощаю?
– Помилуйте, после такого обеда!
«Никаких мопассановских намерений у него, очевидно, и не было. Просто хотел мне показать свои сокровища. Ну, и слава Богу! Да я, конечно, и не допустила бы», – подумала Люда.
Она действительно никогда никаких похождений не имела и порою сама этому удивлялась: «Все-таки несколько «страстных слов» мог бы из себя выдавить. Джамбул был предприимчивее, хотя и с ним не было ничего. Там просто помешал Съезд! Очень он добивался, но уехал из Лондона без большого сожаленья. Правда, на прощанье поцеловались. Он сказал, как будто даже с угрозой: «Мы скоро встретимся», но, должно быть, думал: «Не хочешь – не надо, найду другую». Где же мы встретимся? Писал он из Женевы довольно мило», – вспоминала Люда с улыбкой. Думала о Джамбуле и поддерживала разговор с Тонышевым. «Этот царский дипломат по-своему тоже мил, но он чужого мира, и какое же сравнение с Джамбулом!»
– …А вы скоро переезжаете в Вену?
– Сначала должен еще съездить в Россию. Побываю на Певческом мосту, увижу начальство, сослуживцев. Надо людей посмотреть…
– И себя показать? – спросила Люда. «На Певческом мосту»! Конечно, чужой мир!
– И себя показать, совершенно верно.
– Вы в Москве не будете?
– Только несколько дней, проездом в имение. Я в Москве почти не имею знакомых. А вы в России будете скоро?
– Очень скоро! В Москве остановлюсь у родных, у Ласточкиных, – ответила Люда, не уточняя «родства». – Может быть, слышали? Дмитрий Анатольевич Ласточкин? Его в Москве все знают. У них музыкальный салон, они очень гостеприимны, тотчас вас, конечно, позовут, послушаете хорошую музыку.
– Я был бы чрезвычайно рад.
– Позвоните с утра, я буду вас ждать. Номер найдете в телефонной книге. Они будут вам очень рады… А все-таки не пора ли нам ехать в этот ваш Bal d’Octobre? Почему оно так называется?
– Не знаю, в самом деле странное название. В нем есть что-то зловещее. – Тонышев посмотрел на часы. – Да, теперь уже можно. Я сейчас надену более подходящую шляпу, – сказал он, вышел и тотчас вернулся в другом пальто, впрочем тоже элегантном, держа в руке мягкую шляпу и другую палку.
– Это палка с лезвием внутри, но вы не беспокойтесь. Апаши там театральные… Едем.
У Люды екнуло сердце, когда она увидела полицейского в тускло освещенной комнатке около входной двери, над которой снаружи красными буквами горело одно слово «Бал». Из залы доносились звуки вальса, смех, гул. Полицейский хмуро оглядел новых посетителей. Они явно принадлежали к знакомой и малопонятной ему породе искателей сильных ощущений. Он буркнул, что палки надо оставлять в раздевальной. Тонышев поспешно отдал палку сидевшей в каморке мрачной старухе.
– Еще не составили бы протокола за незаконное ношение оружия, – сказал он Люде. Видел, что она взволнована, и пожалел, что привез ее в такое место.
В зале со сводчатым низким потолком было накурено и очень душно. Почти все грязные, не покрытые скатертями деревянные столики были заняты плохо одетыми, полупьяными людьми. За одним из столиков с тремя пустыми бутылками два человека спали, опустив головы в каскетках на скрещенные на столике руки. Спавший около них бульдог залаял было на вошедших, но раздумал и снова положил голову на лапы. В средине зала в небольшом круге танцевала одна пара: молоденькая, миловидная, пьяная женщина и мужчина в блузе, с папиросой в зубах. «Апаш! Куда мы попали! Хорошо, что там ажан!.. Все женщины без шляп!» – еле дыша, подумала Люда. Впрочем, у стены сидела компания туристов, в ней дамы были в шляпах. Рядом с ними был свободный столик. Тонышев и Люда направились к нему. Публика их провожала насмешливыми взглядами. Кто-то зафыркал, кто-то зааплодировал, все же большого интереса они не вызвали. Тонышев заказал абсент подошедшему к ним сонному человеку, тоже очень похожему на апаша.
– Вот это и есть «ночной Париж», – сказал негромко Тонышев Люде. Видел, что она очень взволнована. – Вы удовлетворены?
– Удовлетворена.
– Будьте спокойны, с нами ничего случиться не может.
– Я совершенно спокойна!.. Так это и есть апаши?
– Во всяком случае, подонки общества. Тут и ночлежка. Кажется, двадцать сантимов за ночь, а «с женщиной за франк». Я по крайней мере сам видел такую надпись на домах страшной средневековой рю де Вениз.
– Не может быть!
– Забавно, что здесь играют сентиментальный вальс из «Фауста». Знаете ли вы, что в двух шагах от этой трущобы в Сент-Этьен-дю-Мон похоронены Паскаль и Расин? В этом есть некоторый символизм, правда? Вершины и низы рядом. Так, у подножья Синая ведется теперь торговля опиумом и гашишем.
Люда с жадным любопытством смотрела на все в зале. Танцевавшая женщина вдруг вскрикнула, грубо выругалась и ударила по руке своего партнера. Он обжег ее лицо папиросой. Все засмеялись, смех перешел в хохот, бульдог опять залаял. Еще две пары пошли танцевать.
– Вы не жалеете, что пришли?
– Не жалею. Надо увидеть и это.
– Пожалуй, хотя особенно необходимости я в этом не вижу.
Лакей налил им абсента.
– Два франка. Деньги вперед, – сказал он умышленно грубым тоном. Знал, что и это производит впечатление на посетителей трущоб: «чем грубее с этими болванами говорить, тем больше они оставляют на чай».
– Эти страшные социальные контрасты! После того ресторана и вашей музейной квартиры этот притон «с женщиной за франк»! – сказала Люда. Ей было очень не по себе и не хотелось начинать в притоне умный разговор, но нельзя было и молчать. Она залпом выпила абсент. – Вот с такими явленьями мы и боремся.
– Кто мы?
– Социалисты. Я социал-демократка.
– Я не знал, что вы боретесь с этим. Что же вы можете тут сделать?
– Создать такие общественные условия, при которых никому не надо будет продаваться.
– Я с этим совершенно согласен, – сказал Тонышев. «Уж очень obvious[34]34
Очевидно (англ.).
[Закрыть] то, что она говорит. Мы с ней и люди разных миров», – подумал он. – То есть согласен с этой общей целью. Но это, по-моему, дело медленного совершенствования нравов. Тут религия гораздо важнее, чем самые лучшие партии.
– Какая уж религия! Я атеистка.
Он вздохнул:
– Боюсь тогда, что вы будете несчастны, как три четверти нашей левой интеллигенции. Последствие атеизма: человек не может быть счастлив.
– Это в политике можно и нужно думать о последствиях, а в философии, в религии они ни при чем.
Он тоже подумал, что глупо и даже неприлично говорить в притоне о Боге. «Très russe!»[35]35
«Очень по-русски!» (франц.).
[Закрыть] – сказал себе он и хотел свести разговор к шутке:
– Вот вы социал-демократка, но признайтесь, вы рады, что внизу сидит полицейский… Не гневайтесь. Мне так хотелось бы, чтобы вы были счастливы, Людмила Ивановна… Как кстати ваше уменьшительное имя?
– Люда.
– Вы так молоды. Можно вас называть Людой?.
– Можно.
К ним подошла, держась за щеку, женщина, которую только что обожгли. Она была совершенно пьяна. Тонышев смотрел на нее с тревогой, а Люда с ужасом.
– Милорд, можно к вам подсесть?.. Нельзя? Тогда угости меня, здесь недорого, – сказала она. Тонышев поспешно сунул ей деньги. Женщина отошла, с ненавистью взглянув на Люду.
– Вы расстроены? Если хотите, пойдем?
Люда, отвернувшись от него, вдруг достала носовой платок и поднесла его к глазам. Он смотрел на нее растерянно. «Что с ней? Надо поскорее увести ее. Еще может случиться истерика! Вот не ожидал!» – подумал он. В конце зала около пианино кто-то вынул фотографический аппарат и навел его на публику. Послышались крики и брань. Апаш рванул аппарат из рук фотографа. Говорившая по-английски компания туристов сорвалась с мест и направилась к выходу. Поднялся сильный шум. Упала и разбилась бутылка. Залаял бульдог. У пианино началась драка.
– Они правы, что уходят. Это, верно, полицейский фотограф. Пойдемте и мы, – поспешно сказал Тонышев и поднялся первый. Люда встала, не отвечая и не отнимая от глаз платка. Он все больше жалел, что привел ее сюда. За дверью полицейский, неторопливо шедший в зал, окинул искателей сильных ощущений еще более угрюмым взглядом и что-то пробормотал. Старуха отдала Тонышеву пальто и шляпу, с любопытством поглядывая на Люду.
На улице им протянул руку с шапкой дряхлый старик, его поддерживала женщина, тоже очень старая. Люда открыла сумку и дала старику свою единственную золотую монету. Тонышев смотрел на нее все более растерянно. Он тоже что-то дал старику.
– Мы найдем извозчика у церкви, это налево, – сказал он. С минуту они шли молча.
– Извините меня, я глупо разнервничалась, – сказала наконец Люда.
– Это вы меня, ради Бога, извините. Совсем не надо было нам сюда ездить.
– Отчего же?
Они нашли извозчика.
– Нет, верно, фотограф был не из полиции, она и без того всех их знает. Должно быть, просто любитель или репортер, – сказал Тонышев. – Да он и не успел нас снять. У него тотчас вышибли аппарат.
– Да, вышибли аппарат… А хотя бы и снял, мне совершенно все равно.
Тонышев решительно не знал, о чем говорить. У крыльца ее дома он сказал:
– Когда я могу быть у вас, Люда?
– Будем вам очень рады. Мы обычно принимаем по воскресеньям, но можно и в любой будний день, только предупредите… И еще раз спасибо за вечер, – сказала она и отворила дверь ключом. Тонышев смотрел на нее с недоумением… «Так она замужем? И сообщила об этом под занавес! И социал-демократка! И так дешево-гуманно расплакалась в притоне!» – думал он разочарованно; сразу потерял к Люде интерес.








