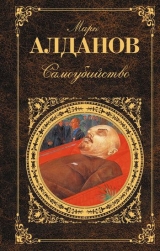
Текст книги "Самоубийство"
Автор книги: Марк Алданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 37 страниц)
VI
Бельгийская полиция чинила всякие затруднения съезду и даже, как писал не очень ясно один из видных социал-демократов, «приняла свои меры». Скоро было решено перенести съезд в Лондон, несмотря на лишние расходы и на потерю времени. Это еще усилило общую нервность и раздражение. Отправились из Бельгии в Англию не все вместе; да и бывшие на одном пароходе избегали разговоров друг с другом или старались не говорить о партийных делах.
В Лондоне, напротив, полиция делегатам не препятствовала, лишь приставила к помещению городового на случай, если бы был нарушен порядок. Впрочем, он на улице не нарушался. Только мальчишки с радостными криками ходили по пятам за особенно живописными «проклятыми иностранцами».
Съезд длился долго и прошел очень бурно. Социал-демократы разделились на две фракции. Одни назвались «большевистами», другие «меньшевистами» (несколько позднее стали говорить о «большевиках» и «меньшевиках»). Но и революционерам в России эти обозначения были вначале не совсем ясны, тем более, что участники съезда, которые, с Лениным во главе, получили большинство голосов по важному вопросу о редакции «Искры», остались в меньшинстве по столь же важному делу об уставе. Вдобавок, соотношение сил, то есть голосов, скоро после съезда изменилось. Предпочитали говорить о ленинцах и мартовцах. Очень многие всю ответственность за раскол возлагали на Ленина. «На втором съезде российской социал-демократии этот человек со свойственными ему энергией и талантом сыграл роль партийного дезорганизатора», – писал вскоре после того Троцкий.
Протоколы Второго съезда были опубликованы в Женеве. Вероятно, они были очень смягчены. Одну речь Ленина авторы сочли возможным воспроизвести лишь с некоторым сокращением. Во всяком случае, того, что обычно называется «атмосферой», протоколы не передают, да это и не входило в задачу авторов. Правда, в скобках иногда отмечались: «всеобщее движение», «протесты» и даже «угрожающие крики». На одном из заседаний сам Ленин попросил секретаря занести в протокол, сколько раз его речь прерывали. Другой делегат просил отметить, что «товарищ Мартов улыбался». На 27-м заседании съезд покинули бундовцы, на 28-м – акимовцы. Страсти все раскалялись. «Они» (меньшевики) все еще руководятся больше всего тем, как оскорбительно то-то и то-то на съезде вышло, до чего бешено держал себя Ленин. «Было дело, слов нет», – говорил в частном письме Ленин тремя месяцами позднее.
Он выступал с речами, заявлениями, оговорками, поправками сто тридцать раз. По некоторым вопросам терпел поражения, и от этого его бешенство еще усиливалось. Но главная цель была достигнута: для устройства революции создалась его фракция, которая должна была со временем превратиться в его партию.
Никто на Западе на это событие не обратил ни малейшего внимания: оно было газетам совершенно не интересно. Вследствие стечения бесчисленных случайностей событие стало историческим – в гораздо большей степени, чем все то, о чем тогда писали газеты. Могло и не стать. Разумеется, и сам Ленин не предвидел всех неисчислимых последствий своего дела. Как ни странно, был как будто немного смущен партийным расколом. Другие предвидели очень мало; некоторые прямо говорили, что ничего не понимают в причинах раскола, и переживали его как душевную драму: разочаровались в Ленине, скорбели о партии.
Люда не пропустила ни одного заседания. Вначале не все понимала, потом освоилась и волновалась с каждым днем больше. Страстно аплодировала Ленину, восхищалась его ораторским талантом. Действительно, он был настоящим оратором: достигал речами своей цели. Троцкий ей не понравился, хотя она «восклицания» вообще любила. При его столкновении с Либером Джамбул, сидевший рядом с ней, шепнул: «Сцепились нервные евреи».
Джамбул, к ее огорчению, бывал в Брюсселе на заседаниях не часто. Говорил о съезде по-прежнему иронически, да и действительно часто недоумевал:
– Главный бой ожидается об уставе. Ради Бога объясните, если понимаете, в чем я, впрочем, сомневаюсь: не все ли равно, будет ли там «личное участие» или «личное содействие», зачем они только по-пустому ссорятся? – спрашивал он Люду.
– Неужели вы не видите? Это имеет огромное значение, – отвечала она, хотя и сама не совсем понимала, почему этот вопрос так важен. – Но еще важнее то, чтобы Ильич ужился с Плехановым.
– Пусть их обоих называют «великими государями», как царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Впрочем, те отчасти именно из-за этого рассорились… Обожаю историю, особенно русскую и восточную.
– История интересна только в освещении экономического материализма. Да вы верно ее не знаете, Джамбул.
– Плохо. Но зато больше ничего не знаю, как, впрочем, и вы.
Разговор с Джамбулом, часто по форме грубоватый, развлекал Люду и нравился ей. Без него на съезде было бы скучно, тем более что ни с кем другим из участников съезда она близко не познакомилась.
Люда условилась с Джамбулом ехать в Англию вместе. На пароходе они сидели рядом на палубе. Немного боялась, что заболеет, но море было совершенно спокойно.
– …Вот видите, и вы решили пробыть на съезде до конца. Я ни минуты в этом и не сомневалась, – сказала Люда.
– Еду больше для того, чтобы увидеть Англию. Давно хотел.
– Неправда, не только для этого. Что вы вообще делали бы в жизни, если б не занимались революционной деятельностью?
– А правда, что я тогда делал бы? – спросил он простодушно, точно впервые задавая себе этот вопрос. – Но какая же на вашем съезде революционная деятельность?
– То есть как «какая»! Самая настоящая.
– Даже не похоже, – сказал он, засмеявшись. – Один Ленин настоящий человек. А все остальные – Деларю.
– Что за Деларю?
– Разве вы не помните? Это запрещенная баллада Алексея Толстого. Ужасно смешно. Вот вчера напали и слева и справа на того бедного бундиста, а он только приятно улыбался на обе стороны. Совсем Деларю:
«Тут в левый бок ему кинжал ужасный
Злодей вогнал,
А Деларю сказал: «Какой прекрасный
У вас кинжал».
Тогда злодей, к нему зашедши справа,
Его пронзил.
А Деларю с улыбкою лукавой
Лишь погрозил.
Истыкал тут злодей ему, пронзая,
Все телеса,
А Деларю: «Прошу на чашку чая
К нам в три часа»…
Он читал забавно, с выразительной комической мимикой. Люда смеялась.
– Баллада остроумная, но при чем тут съезд? Сами же вы говорили, что мы на съезде слишком много ругаем друг друга.
– Да дело не в ваших отношениях друг с другом. Но вы и правительство приглашаете на чашку чаю в три часа. И вот, поверьте мне, это скоро кончится. На Кавказе уж наверное скоро не останется ни одного Деларю. – Лицо у него стало вдруг очень серьезным. – Пойдет совсем другая игра. Надеюсь, и у вас в России тоже.
– Какая же?
– Много будете знать, скоро состаритесь. Вот с Лениным я поговорю, если будет случай.
– А мне не скажете? – обиженно спросила она.
– Не скажу. Это не бабьего ума дело.
– Грубиян! Где вас учили? И какой вы социал-демократ, если вы против «баб»!
– Напротив, я в высшей степени за баб. И даже за их равноправие. Но против их участия в революции. У нас на Кавказе революционерок очень мало.
– Кавказ отсталая страна. А если же вы хотите поговорить с Ильичом наедине, то он верно назначит вам свидание только после окончания съезда. Теперь у него более важные дела.
– Сколько же надо будет ждать до окончания этого несчастного съезда? По-моему, они перестанут здороваться уже через неделю, а недели через две-три произойдет раскол.
– Типун вам на язык! Подождем – увидим. Пока можете осматривать Лондон. Найдете и здесь разные Гюдюли, – сказала Люда. Он поморщился.
В Лондоне он стал бывать на заседаниях чаще. Страсти разгорались. Это его веселило. Ему нравилось бешенство Ленина в спорах, то, что у него лицо часто искажалось яростью: он точно готов был своими руками задушить противника. Но окружавшие Ленина, всегда голосовавшие с ним люди показались Джамбулу ничтожными. «Только с ним и можно здесь разговаривать о деле».
Накануне закрытия съезда он пригласил Люду во французский ресторан. Она приняла приглашенье с радостью. «Жаль, что он не серьезный человек, а то я, чего доброго, в него влюбилась бы. Куда же он дел тех своих двух дам?»
Они много выпили и еще повеселели.
– Я «склонен к чувственному наслаждению пьянства», – как говорит кто-то у Пушкина. Мне случалось выпивать за вечер три, а то и четыре бутылки вина. У нас на Кавказе есть вековой обычай. Когда у князя рождается сын… Почему вы улыбаетесь, Люда?.. Ах, да, эти ваши вечные русские шуточки: «На Кавказе все князья»… «Если у кавказца есть сто баранов, то он князь», да?
– Вы тоже князь, Джамбул?
– Нет, хотя мой отец производит наш род чуть не от Полиоркета.
– Кто такой Полиоркет?
– Древний македонский принц. Один его потомок будто бы переселился на Кавказ и там принял ислам, очень хорошо сделал. Впрочем, в Македонии всегда было самое смешанное население, не только христианское: были осетины, сербы, болгары, цинцары, греки, евреи, цыгане.
– Не называть ли вас «Джамбул Полиоркетович»?
– Полиоркет был действительно герой. По-гречески его прозвище, кажется, значило: «Покоритель городов».
– Это хорошо: «покоритель городов». Вы тоже покоритель городов. И, верно, сердец?.. Я все стараюсь понять, что вы за человек, и пришла к выводу, что вы романтик революции!
– Я очень простой человек, – сказал Джамбул, довольный. – Вы и представить себе не можете, какой я простой! Первобытный… Вы английский язык знаете?
– Нет.
– Я тоже не знаю. Но знаю, как и вы, слово «хобби». У серьезных людей есть главное дело и есть «хобби», то есть дело второстепенное, развлечение. А вот я не серьезный человек. В моей жизни: политика и женщины, но что из них у меня «хобби», а что главное, ей-Богу, сам не знаю.
– Примем к сведению. Кстати, фиолетовый шрам у вас на лбу – это от главного или от хобби?
– Это не ваше дело, – ответил он, улыбаясь. Был вообще учтив, с дамами особенно, и употреблял грубоватые выражения как бы в кавычках: произносил их так ласково, что рассердиться было невозможно.
– Я заметила, что этот шрам у вас бледнеет и обесцвечивается, когда вы волнуетесь.
– Вы необыкновенно наблюдательны. Только я никогда не волнуюсь.
– Вот как?.. Ну, хорошо, вы над всем насмехаетесь. Какие же ваши собственные идеи? Едва ли вы испытали сильное влияние Маркса?
– Действительно, едва ли, хотя бы уж потому, что я почти ничего его не читал.
– Так кто же оказал влияние на ваше мышленье?
– На мое «мышленье»? – переспросил он с комически-испуганной интонацией. – Я и не знал, что занимаюсь «мышленьем». Кто оказал влияние? Дайте подумать… Руставели, «Тысяча и одна ночь», летописи царя Вахтанга Шестого, Майн-Рид, Купер, Лермонтов, балет, передвижники, гедонисты… Да, я гедонист.
– Какой еще гедонист! И что за каша!.. Но вы не кончили. Какой же на Кавказе вековой обычай?
– Когда у кавказца рождается сын, то отец закапывает в землю бочку лучшего вина. Ее выкапывают к совершеннолетию сына. Ах, какое вино! Какой аромат!.. Вот мы с вами здесь пьем бордо…
– И какое!
– Но где ему до кахетинского!
– На Кавказе ведь все «самое лучшее в мире», правда?
– Не говорю все, но очень многое. Начиная с природы. Мне на прославленные швейцарские виды просто смешно смотреть, так им далеко до наших. И люди у нас по общему правилу хорошие.
– Это правда. Я очень люблю кавказцев. Ильич тоже их любит.
– Будто? По-моему, никого не любит ваш Ильич.
– «Мой» Ильич? Значит, он не ваш?
– Я отдаю ему должное. Конечно, выдающийся человек и со временем станет совершенным типом революционера.
– Со временем?
– Возьмите, Робеспьер, Дантон, Марат были революционерами три-четыре года, а до того были черт знает кто. Ленин же будет им всю жизнь. По-моему, он уже теперь второй революционер в мире.
– Вот как! А кто первый?
– Первый: Драгутин.
– Какой «Драгутин»? Отроду о нем не слышала.
– Обычно он остается в тени, но о нем еще много будут говорить в мире. Больше, чем об Ильиче.
– Да кто он? Что он сделал?
– Между прочим, организовал недавно в Белграде убийство короля Александра. К несчастью, они заодно убили Драгу. Этого я им простить не могу. Женщин не убивают, хотя бы они были королевами. Но мы говорили не о Драгутине, а о Ленине. Все же он на этом нелепом съезде слишком ушел в мелочи.
– Да он шел от победы к победе!
– Разумеется, он может подарить Мартову халат. Когда турецкий султан в прежние времена брал крепость, он дарил побежденному противнику халат, вероятно, в насмешку. Только к чему эта победа? Что он теперь будет делать? Ленин, а не султан. Издавать журнальчики? Да и на это верно не хватит денег. Ваше правительство будет очень довольно:
«Он окунул со злобою безбожной
Кинжал свой в яд
И, к Деларю подкравшись осторожно,
Хвать друга в зад!
Тот на пол лег, не в силах, в страшных болях
На кресло сесть!
Меж тем злодей отнял на антресолях
У Дуни честь…»
– Очень похож Ленин на Деларю!
– Я отдаю ему должное. Конечно, он выдающийся человек. Но он еще не созрел.
Люда расхохоталась.
– Однако вы нахал порядочный! Ильич не созрел?
– Или, скорее, не созрело все движение в России. Я еще и не знаю, останусь ли социал-демократом.
– Вот тебе раз! Неужто пойдете к эсерам с их народнической жвачкой!
– Не сваришь каши с русскими вообще. Кажется, так говорят: «не сваришь каши»? Что я вам говорил? Ведь у вас произошел полный формальный раскол.
– Во-первых, это неправда, а во-вторых, не «у вас», а «у нас».
– Я нерусский, да и социал-демократ, повторяю, сомнительный.
Полного формального раскола не произошло. Но многие из участников съезда уже в самом деле не раскланивались, и общее настроение было подавленное. Плеханов произнес заключительное слово и поздравил всех с результатами работы.
– Он, должно быть, насмехается? – спросил Люду Джамбул.
– И не думает насмехаться! Работа все-таки дала большие результаты. Как-никак, теперь у нас есть и программа, и устав.
– Именно «как-никак». Вы примкнете к большевистам или к меньшевистам?
– Я иду за Ильичом. Но, вопреки вашему карканью, раскола нет и не будет. Сегодня все вместе едем на могилу Карла Маркса. На Хайгетское кладбище.
– Едем, – уныло согласился Джамбул. – Вы его читали?
– Многое.
– Знаю, что он был кладезем мудрости. А иногда думаю, что у нас люди были интереснее.
– Может быть, тот Кота Цинтсадзе, о котором вы рассказывали? – насмешливо спросила Люда. – Нельзя человеку серьезно называться «Котой».
– Ладно, ладно, – ответил Джамбул. Теперь несколько обиделся он, к большому удовольствию Люды. – А что мы будем делать на могиле? Петь «Интернационал»? Или служить панихиду? Тогда пусть Троцкий наденет ермолку и плащ, евреи в синагогах всегда носят плащи.
– Вы бывали и в синагогах?
– Бывал. Я вам говорил, что на меня действует всякое богослужение, особенно если оно древнее. Разумеется, наше мусульманское самое лучшее.
– В этом я ни минуты не сомневалась… Будете делать на могиле Маркса то же, что другие.
– Буду смотреть на Троцкого и повторять его благородные жесты. Я уверен, что и он, и Плеханов в Париже ходили в театр смотреть Мунэ-Сюлли. Только у того жесты выходят лучше.
VII
Иоганнес Росмер, владелец Росмерсгольма, был несчастен в своей семейной жизни и не очень счастлив в жизни общественной. По рождению он принадлежал к баловням судьбы, но он потерял веру в общественные устои. Как говорил консервативный ректор Кролль, «Росмерсгольм с незапамятных времен был своего рода священным очагом, поддерживавшим порядок, закон, уважение ко всему, что установлено и признано лучшими членами общества». Росмер порвал с традицией предков, это и было одной из главных причин его несчастной жизни.
«Росмерсгольм», с его символом белых коней, был любимым произведением Морозова, но кое-что он читал не без досады. Многое в жизни Росмера совпадало с его собственной жизнью, однако не все. «Верил ли я в традиции моих предков? Когда же я с ними порвал? Каковы мои «белые кони»? Даже внешняя обстановка не очень похожа». Драма Ибсена разыгрывалась в родовой усадьбе Иоганнеса, в гостиной, обставленной в старом норвежском стиле, с портретами предков на стенах. Пять поколений предков, создателей огромного богатства Морозовых, были и у Саввы Тимофеевича, но он их портретов у себя на стены не вешал.
Дом на Спиридоновке был построен талантливым архитектором на месте родового дома Аксаковых. Обстановка была не только более роскошной, но и более «стильной», чем могла быть у прежних владельцев усадьбы или у Росмеров: Морозов купил ее у какого-то лорда и перевез из Англии в Москву. Люди, этого не знавшие, насмехались над ее «аляповатостью». «Конечно, не насмехались бы, если б я был князь или граф». Громадное большинство людей, и парвеню, и аристократы, ничего в искусстве не понимают. «Да, дураки верно говорят «купчик». Сам Чехов насмехался над моим «безвкусием», над фрачными лакеями. Добрые люди так мне рассказывали. Может, и врали. Точно дело во фраках! Все мы живем угнетением других людей, и Чехов тоже, и сам это отлично понимает, он умнее и Немировича, и Максима. Да и он о моем безвкусии не говорил бы, если б я был князь. Впрочем, и в самом деле, незачем было покупать мебель английского аристократа», – думал Савва Тимофеевич, с досадой оглядывая свой кабинет. «Это, тот говорил, подлинный Ризнер». А что он сам смыслил в Ризнерах? Верно и он в этой мебели чувствовал себя почти таким же чужим, как я? А я сюда точно попал по ошибке. «Спальная, сказал, «Victorian»[20]20
«В викторианском стиле» (англ.).
[Закрыть]. Слово значит немного: за царствование Виктории должно было смениться несколько стилей». Об архитектуре и мебели он немало прочел или просмотрел, когда строил свой дом. «Скоро девять часов, пора на завод. А то поехать раньше к грабителю?» – подумал он, разумея знаменитого врача.
В плохие минуты он находил, что все в мире продается, что, со своим огромным богатством, он может купить что и кого угодно – вопрос только в цене. При нем действительно наживались и перед ним лебезили очень многие. В другое же время Морозов признавал, что даже этих многих нельзя называть продажными в точном смысле слова: «Настоящей продажности в России, особенно в интеллигенции, мало: есть общественное мнение, есть моральная граница, через которую переходить почти невозможно и даже невыгодно… Просто не первого сорта людишки». По своей работе он постоянно встречал и людей первого сорта. Эти перед ним не лебезили и на нем не наживались; разве только когда отдавали ему свой труд, то получали несколько больше, чем их труд стоил. Впрочем, при всей своей щедрости, он бывал требователен и слишком уж переплачивать не любил. Если у него просили чересчур много, в нем пробуждались наследственные инстинкты дельца; его быстрые, бегающие и при этом многое замечающие глаза останавливались, он становился очень нелюбезен, даже иногда грубоват.
Как Ленин, Морозов вообще очень плохо верил людям, но, в полное отличие от Ленина, всего меньше верил в себя и себе. Всю жизнь будто бы стремился к освобождению России, но иногда думал, что в сущности освобождение России ему не так нужно: сам он был почти во всем совершенно свободен. Всю жизнь он говорил, что страстно любит искусство, но про себя сомневался – если не в своей любви к искусству, то в своем его понимании; природный ум заменял ему культуру. Сомневался и в том, что искусство хорошо понимают другие, в их числе и многие присяжные знатоки. «Ибсен хотел сказать…» А почем ты знаешь, что он хотел сказать? Может, и вообще ничего не хотел, а просто писал, как все писатели и писателишки, как Максим, который длинно и скучно мне говорил о глубоком смысле своего «Фомы Гордеева», между тем это чепуха с выдуманными и плохо выдуманными, неправдоподобными купцами…» Савве Тимофеевичу все больше казалось, что в нем сидит какой-то другой человек, за него говорящий и во многом ему совершенно чужой. «Все не так, все не так!» – неясно думал он в последние годы, знал только, что нервы у него совершенно издергались, что он, как будто без причины, боится воображаемых, даже неправдоподобных, несчастий, что в сущности он ничего особенно не хочет, что жить ему все тяжелее с каждым днем. «Жизнь не удалась… Впрочем, кому же она по-настоящему удалась, когда есть умиранье, смерть?» Да еще он знал, что душой всегда, хоть не так уж напряженно, искал добра и смысла жизни; но добра нашел немного, а смысла жизни не нашел никакого.
К тому, что он обозначал словами «не так», он относил и Художественный общедоступный театр. Теперь этот театр существовал почти исключительно на его средства, он выстроил и новое здание в Камергерском переулке. Деньги дал по своей собственной инициативе, сам их первый предложил; давно стал в театре своим человеком, давал советы о пьесах, о подробностях постановки, о распределении ролей; все выслушивалось внимательно и с интересом; режиссеры и артисты успели оценить его чутье. Но про себя он иногда думал, что, например, Станиславский, состоятельный человек, мог бы и не получать жалованья, мог бы даже сам давать на дело свои деньги. Никогда этого не говорил, но думал, что артисты в большинстве гораздо менее образованные люди, чем он сам (он много читал и знал наизусть «Евгения Онегина»). «Пьесам Немировича грош цена, да и пьесы самого Максима немногим лучше».
Савва Тимофеевич в последний год болел, хотя как будто и не опасно. Был еще далеко не в том возрасте, когда чуть ли не главные мысли человека сосредоточиваются на починке разрушающегося понемногу тела. Врачей вообще не любил. Почти машинально называл их грабителями. Отлично знал, что они бедных часто лечат бесплатно и что было бы очень странно, если б они брали мало денег с богачей. Свое нездоровье он приписывал в значительной степени расстройству нервов: неврастения усиливала болезнь, болезнь усиливала неврастению. Теперь ему нужно было повидать трех докторов по разным специальностям, и ни один из них к нему на дом приехать не мог; у всех в кабинетах были сложные приспособления, особенно у терапевта, который умел по новому способу просвечивать людей при помощи не так давно открытых Рентгеном лучей. «Видит тело насквозь. Хорошо, что хоть души не просвечивает».
Раз в неделю он ездил в Орехово-Зуевскую мануфактуру (в Москве ее называли несколько иначе, похоже и совершенно непристойно, но это относилось преимущественно к заводам Морозовых-«Викулычей»). Проводил там два дня, а то и три. В этот день ему уезжать не хотелось, был в особенно плохом настроении духа. «Хоть бы дождь пошел…» Савва Тимофеевич чувствовал себя бодрее в дурную погоду. В поезде он просмотрел газету, – скука. Подумал, что все редакторы газет, верно, либо циники, либо очень незлобивые, благодушные люди: слишком много ерунды и пошлости каждый из них принимает и печатает, зная, что это ерунда и пошлость.
Постройки на его заводах, в отличие от других в городке, были новые, каменные, очень хорошие. Таковы были и дома, выстроенные им для рабочих с лекционными залами, с театром, – другие фабриканты только пожимали плечами, а иногда в разговорах о нем многозначительно постукивали пальцем по лбу. На улицах все ему кланялись. Это было и приятно и нет: «Все-таки кланяются больше моему богатству, чем мне. Если б у меня не было капиталов, кто бы я был? И люди перестали бы ко мне шляться, что было бы впрочем очень хорошо».
В сортировочной он взглянул на новую партию хлопка, она была не «fine», а только «good»[21]21
«Высшего качества», «хорошего» (англ.).
[Закрыть]. «Что ж, для Азии и это необходимо». Ему очень хотелось, чтобы русская хлопчатобумажная промышленность вышла с четвертого места на первое; азиатский рынок имел огромное значение. Затем он побывал в других колоссальных зданиях. Общее благоустройство заводов, порядок, чистота доставляли ему удовлетворение. Рабочие кланялись почтительно-ласково; одни служащие спрашивали: «Как поживаете, Савва Тимофеевич?», другие: «Как изволите поживать?».
В одной из мастерских он остановился у машин, которые главный инженер предлагал заменить новейшими, хотя и эти были выписаны из Англии не очень давно. Он знал свое дело для владельца хорошо. Говорил, что «знает у себя каждый винт». Это было очень преувеличено; инженеры порою чуть улыбались, когда он спорил с ними о технических делах. Но названия машин и их назначение действительно были ему известны. Спросил о машинах и старших рабочих. Их мнение очень ценил. С ними он говорил ласково, почти как с равными и на их языке. Думал, что владеет им в совершенстве, как либеральные, да и не только либеральные, помещики думали, что в совершенстве владеют крестьянским языком. Рабочие любили и ценили его простоту в обращении, заботу об их интересах, то, что он к свадьбам дарит деньги, принимает на свой счет похороны, помогает вдовам; знали, что он женат на красавице «присусальщице», еще не так давно стоявшей за фабричным станком. Он первый ввел одиннадцатичасовой рабочий день; ввел бы, пожалуй, и десятичасовой, но знал, что тогда Никольская мануфактура едва ли выдержит конкуренцию с такими же огромными предприятиями, в частности с теми, что принадлежали Викулычам и Абрамычам.
В Москве издавна ходили шутливые преувеличенные рассказы о распрях между разными ветвями морозовской династии, впрочем, довольно обычных в больших семьях. К другим династиям, даже наиболее старым, тоже имевшим по несколько поколений богатства, к Бахрушиным, Рябушинским, Щукиным, Третьяковым, Найденовым Морозовы относились чуть свысока, хотя и роднились с ними; к новым же, вроде Второвых, относились и просто иронически.
После недолгого совещания с управляющим расчет инженера был признан правильным, и новые машины заказаны, хотя это означало большой расход: на машины Морозов денег не жалел; русская техника должна была сравняться с западной.
Затем он позавтракал в одной из столовых с главными служащими. Обед был не такой, как у него дома, – вместо его любимого рейнского вина пили калинкинское пиво, – но и не такой, как в других столовых фирмы. Везде все было чисто, свежо, сытно, однако администрация не могла не считаться с рангом обедавших. Так и он сам, при всем желании, не мог держать себя одинаково со всеми. В столовой тон разговора был демократический. Тем не менее все тотчас замолкали, когда владелец раскрывал рот. Он все время чувствовал неловкость, – точно играет, почти так же похоже, как Станиславский играл доктора Штокмана или Москвин царя Федора Иоанновича. Этих своих артистов он прежде особенно любил, нередко угощал их ужинами, радовался их обществу, восхищался ими и думал, что уж очень, просто до удивления, они непохожи в частной жизни, один на царя, другой на норвежца. «Тем больше, конечно, их заслуга».
В столовой поговорили о политике, поругали правительство, коснулись и промышленных дел. Один из видных служащих говорил «смело, всю правду в глаза», – вроде как Яков Долгорукий Петру Великому. Савва Тимофеевич слушал со слабой улыбкой; думал, что и этот служащий играет, только у него свое амплуа.
Погода стала хуже. Морозов почувствовал прилив энергии и решил тотчас вернуться в Москву; на заводах было еще скучнее, чем дома, да в сущности и нечего было делать. Он понимал, что от его присутствия большой пользы нет, что мастерские работали бы точно так же, если б он их и не обходил. Сказал главному управляющему, что должен побывать у врача, но про себя решил, что сегодня ни к одному из врачей не пойдет: «Только наводят тоску, и все, конечно, запретят и никакой пользы не будет».
Со стены очень просто обставленного кабинета на правнука хмуро смотрел основатель династии, Савва Васильевич. Администрация давно заказала его портрет обладавшему воображением художнику. «Верно обо мне думает нехорошо: в кого ты, голубчик, пошел? От нас отстал, к другим не пристал. Черт тебя знает, что ты за человек!..» Морозову захотелось поскорее уехать. Он вспомнил, что по делу надо побывать у очень высокопоставленного лица. «К нему следовало бы надеть сюртук? Ничего, обойдется». Сунул в ящик письменного стола револьвер: к этому лицу являться с револьвером в кармане было неудобно.
Во дворце все было ему неприятно: пышность, мундиры, охрана; но все это производило и на него некоторое впечатление. Хотя он имел репутацию революционера, высшие власти (до 1905 года) были с ним любезны; не хотели ввязываться в истории с владельцем заводов, на которых были заняты десятки тысяч рабочих. По выражению лица у чиновника, взявшего его карточку, можно было увидеть: сила приехала к силе. Высокопоставленное лицо приняло его тотчас, не в очередь. С ним, как впрочем и со многими высокопоставленными людьми, Морозов говорил опять по-другому: старым, делано-купеческим языком, с обилием «слово-ериков», – ни один богатый купец в Москве давно так не говорил. В Риме старая знать, разные Гаэтани, Колонна, Орсини, да и сам король говорили между собой всегда на народном римском диалекте, но у них это выходило естественно; у Саввы Тимофеевича якобы купеческая речь звучала странно, и он сам не знал, означает ли его «слово-ерик» повышенное или пониженное уважение к собеседнику.
Высокопоставленное лицо тотчас исполнило его желание и лишь про себя подумало, что левому социальному реформатору не полагалось бы иметь дворец и ездить на кровных рысаках. Впрочем, Савва Тимофеевич и сам часто думал о себе то же самое. «Умный все-таки монгол!» – сказало адъютанту высокое лицо. Морозов был и по крови чисто русский, но вид у него в самом деле был скорее монгольский. Сердцеведы недоброжелательно говорили, что он в делах готов раздавить человека, называли его глаза «хищническими» и «безжалостными», приписывали ему разные изречения, подходившие Сесилю Родсу или коммодору Вандербильту. В действительности, он никого не «давил», был в делах честен и никак не безжалостен. Напротив, был скорее добр, хотя и не любил людей, даже тех, кому щедро помогал.
Вернувшись домой, он переоделся: при осмотре машин чуть запачкал концы манжет. «Переоделся не до визита к нему, а после», – с некоторым удовольствием подумал Савва Тимофеевич. На Спиридоновке его в этот день еще не ждали. Жены и детей не было дома. В гардеробной костюм, белье, обувь не были приготовлены. Камердинер все принес с виноватым видом. «Виноват в том, что «барин» передумал и вернулся раньше, чем сказал».
Ему было совестно и перед прислугой, как перед рабочими и служащими на заводах. Но он сам себе отвечал, что с такими упреками совести можно спокойно прожить долгую жизнь. Раздражали его и самые слова «гардеробная», «камердинер». Костюм у него был даже не от Мейстера, недорогой, и белье не голландского полотна, а простое: ему было не совсем ясно, почему одевается он дешево, тогда как дом, мебель, лошади стоят огромных денег. Но он не понимал в своей жизни и более важных вещей. Отпустил камердинера, одевался всегда без чужой помощи. Перекладывая вещи из одних брюк в другие, вспомнил, что револьвер остался на заводе. «Не забыть в следующий приезд». Не имел ни малейших оснований опасаться какого бы то ни было нападения, но револьвер под рукой всегда его успокаивал: что бы в жизни ни случилось, выход есть.








