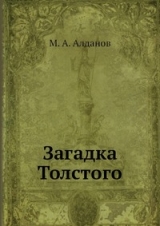
Текст книги "Загадка Толстого"
Автор книги: Марк Алданов
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
VI.
От «Смерти Ивана Ильича»« переход к «Хаджи-Мурату» кажется несколько странным. Между этими двумя произведениями, которые разделены десятилетним промежутком времени, пропасть еще глубже, чем между «Анной Карениной» и «Крейцеровой сонатой». Толстой создал поэму жизни после поэмы смерти! Он писал «Хаджи-Мурата» очень долго. Черновой список повести закончен 14 августа 1896 года, но, как свидетельствуют выдержки из дневника Льва Николаевича, приводимые в издании графини А. Л. Толстой, автор думал и работал над этим своим произведением в 1897, 1898, 1901, 1902, 1903 и 1904 году. Так долго Толстой не вынашивал ни «Войны и мира», ни «Анны Карениной»; а между тем вся повесть занимает менее десяти печатных листов. В конце концов Толстой так-таки бросил «Хаджи-Мурата», который, как известно, появился лишь в посмертном издании. Легко понять эти мучительные колебания великого писателя. Логическая концепция «Хаджи-Мурата» совершенно не вязалась с толстовским учением, а, напротив, решительно шла с ним вразрез; при всем желании Толстой не мог подогнать эту прекрасную поэму ни под один из своих любимых моральных догматов. Я говорю: при всем желании. В своем дневнике (от 4 апреля 1897 года) Лев Николаевич пишет: «Вчера думал очень хорошо о Хаджи-Мурате, – о том, что в нем, главное, надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман». Приходится заключить, что главного Толстой не сделал: обмана веры в его повести нет, потому что и веры, в сущности, нет никакой. Хаджи-Мурат до последней минуты строго придерживается религиозных обрядов, аккуратно прочитывает молитвы и совершает намаз. Но если отвлечься от обрядовой стороны жизни, то он, конечно, не имеет никакой религии. Хаджи-Мурат – не более религиозная натура, чем Лукашка в «Казаках» или Долохов в «Войне и мире».
«Как он был бы хорош, если бы не этот обман». Чем же он был бы хорош? Признаюсь, мне чрезвычайно трудно представить себе Хаджи-Мурата толстовцем или заметить в нем хотя бы зачатки идей религиозного самоотречения. Это Наполеон, перенесенный в обстановку, где людям легче и естественнее быть Наполеонами, где для этого не нужно шагать ни через будуар Жозефины, ни через подготовительную кухню 18 брюмера{80}80
Перед государственным переворотом Наполеон одновременно вёл тайные переговоры со своими «товарищами» по заговору, с якобинцами, с приверженцами Лафайета, с агентами Бурбонов, одним словом, с кем угодно. «Самые различные партии, – рассказывает Альберт Вандаль, – возлагали на него надежды... а он всеми ими пользовался и всех обманывал ради пользы Франции и собственного честолюбия; и это колоссальное недоразумение... как волна, несло его к власти».
[Закрыть]. Если употребить известное сравнение Тэна, Хаджи-Мурат – чистый кондотьер, и, как кондотьер, он, быть может, даже типичнее Наполеона, благо существует некоторая разница между аулами Кавказа и парижскими дворцами. Какова бы ни была настоящая натура Бонапарта, условия места и времени связывают его по рукам и ногам. Он должен отпускать каламбуры госпоже Сталь, говорить исторические фразы, спорить о геометрии с Монжем, кокетничать с Шатобрианом и Гёте. Хаджи-Мурату это совершенно не нужно. Шашка и темперамент одни сделают его цезарем дюжины чеченских аулов. Он верен себе в своей свирепости и в своей детской улыбке, в наивно-хитрой дипломатии и в традиционной верности кунакам. Основное и доминирующее его свойство – неукротимая энергия, что автор подчеркнул красивым образом вступления. Хаджи-Мурат, как куст татарина, отстаивает жизнь до последнего вздоха. Можно, конечно, думать о том, «как бы он был хорош», если б эта неукротимая энергия ушла не наружу, на вражду к Ахмет-ханам и Шамилям, а обратилась внутрь, на борьбу со страстями и с грехом. Но тогда Хаджи-Мурат не был бы Хаджи-Муратом. Всякие мечтания на тему о том, что в другое время, в другой среде, в других условиях жизни такой-то человек был бы совсем, совсем другим, не далеко ушли от польской поговорки: «Если бы у тети были усы, так был бы дядя». Мы не можем себе представить Печорина народным учителем или Андрея Болконского земским врачом и не имеем никакой возможности решать вопрос, что Печорины станут делать в то время, когда им нельзя будет быть Печориными...
Хаджи-Мурат неотделим от той поэтической обстановки, в которой вывел его Толстой. Стоит мысленно применить к нему наши европейские критерии, и мы принуждены будем осыпать его бранью. Он – политический ренегат, многократный изменник, он, если угодно, даже провокатор. Любопытно, что европейский критерий приложил к нему сам Толстой, задолго до того, как стал писать свою повесть, и даже раньше, чем вступил на путь литературной деятельности. Это было в 1851 году. Лев Николаевич в письме сообщал своему брату: «Ежели хочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость». Если, читая поэму Толстого, мы не только не чувствуем отвращения к подлости, а, напротив, любуемся необузданным героем Чечни, то это лишь означает, что Толстой – гениальный исторический романист и распоряжается симпатиями читателя как хочет, легко перенося его в атмосферу каких угодно этических понятий. Впрочем, раза два на протяжении повести автор нерешительно отмечает в Хаджи-Мурате такие черты, которые и с точки зрения толстовства составляют моральный плюс. Так, например, на вечере у князя Воронцова, где «молодые и не совсем молодые женщины в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и груди, кружились в объятиях мужчин», Хаджи-Мурат испытывал чувство, близкое к отвращению. В данном случае кавказский джигит оказывается, по-видимому, единомышленником Позднышева; но, разумеется, толькопо-видимому. С точки зрения «Крейцеровой сонаты», восточное узаконенное многоженство не хуже, но и не лучше, чем европейское многоженство, черпающее силу в обычном праве; гарем не имеет больших преимуществ перед веселым домом.
В сущности, единственное, чем Толстой законно мог восхищаться в Хаджи-Мурате, это его простота, первобытные и близкие к природе условия его обычной жизни, особенно подчеркнутые сопоставлением с роскошной праздной жизнью князей Воронцовых и петербургской придворной знати. Здесь Толстой лишний раз развил свою любимую тему, использованную в «Казаках», в «Анне Карениной», в «Воскресении», в «Плодах просвещения». Однако, простота у Хаджи-Мурата далеко не та, что у какого-нибудь старца Акима, который занимается чисткой ям и о котором жена его Матрена говорит: «Приехал намедни, так блевала, блевала... тьфу!» Когда Хаджи-Мурат во главе своей свиты въезжает в русскую крепость, «на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии»», он менее всего похож на старца Акима или на опростившегося русского интеллигента из толстовцев. Когда он входит в приемную наместника князя Воронцова, на него обращаются все глаза. Да и есть на что посмотреть: «Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску, на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же чувяки, как перчатки обтягивающие ступни; на голове – папаха с чалмой... Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая всех присутствующих». Одним словом – хоть картину с него пиши. У этого чеченца тот естественный воинский «шик», под который старательно и тщетно подделывались и Печорин, и Dolochoff le Persan{81}81
Долохов-перс (фр.).
[Закрыть], и Кавказский пленник.
В «Хаджи-Мурате» Толстой безуспешно борется с основной трудностью своего учения, – с проблемой естественного состояния человеческого рода. В. Г. Короленко совершенно правильно заметил, что взыскуемый град Толстого – простая, обыкновенная русская деревня, где только все любили бы друг друга{82}82
В. Г. Короленко. Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., изд. Маркса, т. I, Стр. 309.
[Закрыть]. Но в этом непреодолимая трудность доктрины великого писателя. Его социально-экономический идеал весь позади; это – пройденная человечеством ступень, к которой возврат невозможен. Его нравственный идеал бесконечно далеко впереди, и один Бог знает, суждено ли осуществить его биологическому виду, называемому homo sapiens.
Ж.-Ж. Руссо, проповедовавший возвращение к первобытным формам жизни, в смысле знания человеческих отношений – ребенок по сравнению с Л. Н. Толстым. Руссо мог верить в моральное совершенство первобытного человека, которого он никогда не видал. Недаром же так едко посмеялся над этой стороной его учения Наполеон. Великий завоеватель говорил, что египетская экспедиция выбила из него последние остатки культа Руссо: там он воочию убедился, что первобытный человек недалеко ушел от скота. Толстой в данном случае должен занять срединную позицию. В споре великого утописта с великим практиком он принужден оставаться нейтральным. Лев Николаевич жил среди первобытных людей; он любил кровной любовью все первобытное – бедную великорусскую избу, убогий шалаш башкира, стан кавказского казака, дымный аул чеченца. Но идейной любви быть не могло; Толстой отлично видел, что не здесь надо искать нравственный идеал человечества. В «Хаджи-Мурате» он не склонен идеализировать быт первобытных горцев в ущерб исторической истине. Как, например, ни мрачно описано в «Воскресении» современное уголовное «право» цивилизованных народов, это дитя противоестественного сочетания насилия с моралью, своеобразное судопроизводство горцев оставляет его далеко за собой. На заседании суда Шамиля, картину которого мы находим в XIX главе «Хаджи-Мурата», «двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство»; а сыну Хаджи-Мурата, красавцу Юсуфу, Шамиль за измену отца пригрозил выколоть глаза, так что несчастный юноша тут же хотел покончить с собой. Простота оказывается хуже воровства и читателю несколько неожиданно приходится пожалеть о жрецах столичного правосудия, которые невинную Маслову осудили все-таки лишь на четыре года каторжных работ. По сравнению с шестью стариками Шамилева совета кажутся весьма безобидными они все: и внушительный председатель с бакенбардами, непременно желавший поскорее окончить дело, чтобы поспеть к рыженькой Кларе Васильевне, и сердитый член суда, оставленный женой без обеда, и прокурор Вреде, который, проведя ночь в доме разврата, на утро так хорошо говорил, грациозно извиваясь тонкой талией, о жгучих лучах печального явления разложения и о доверчивом богатыре Садко – Ферапонте Смелькове, – загипнотизированном Масловой при помощи таинственного свойства, в последнее время исследованного наукой, в особенности школой Шарко.
Да что правосудие! Вся жизнь Хаджи-Муратов есть отрицание толстовских принципов: здесь нет непротивления злу насилием; здесь люди одинаково противятся добру и злу, почти их не различая, и не знают другой формы противления, кроме простого физического насилия. Здесь все бессознательно принесено в жертву честолюбию и неукротимой жажде жизни; религия служит покровом, который каждый тянет к себе, который в конце концов попадает в руки сильнейшего. Одним словом, это подлинная жизнь – не подрумяненная, не завитая парикмахерами английского толка. Вся ее философия выражена в любимой песне Хаджи-Мурата, которую «необыкновенно отчетливо и выразительно» пел его брат Ханефи:
«Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, моя родная мать. Порастет кладбище могильной травой, заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.
Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.
Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».
Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:
– Хорош песня, умный песня.
Но Хаджи-Мурат – толстовец – должен сказать обратное:
– Дурной песня, глупый песня.
«Лучше умереть во вражде с русскими, – провозглашает Шамиль, – чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкой приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским». Здесь что ни слово, то острый нож в самое сердце доктрины Толстого. Не он ли призывал людей не противиться воле насильников? Не его ли детища обращались к грабителям с пресловутой просьбой: «Коли вам, сердешны, на вашей стороне житье плохое, приходите к нам совсем» (XVI, 74)... Читая «Хаджи-Мурата», мы не можем отделаться от мысли, будто старые, давно похороненные элементы постепенно воскресают в вечно юном сердце Толстого. Яснополянский моралист забыл свою проповедь, отдавшись чарам поэзии Кавказа. Это своеобразная поэзия. Это не классический Восток Шахерезады, Гёте, Лермонтова, Виктора Гюго, исполненный неги, сладострастия и философской лени. В кавказском Востоке, отраженном поэзией Толстого, эти элементы сочетаются со свойствами светлоголового хищника, тревожившего северную фантазию Фридриха Ницше. Здесь Сарданапал сочетался с Наполеоном, и художник не чувствует в себе силы преодолеть это странное сочетание, как повелевает ему долг моралиста. Здесь, как в «Войне и мире», как в «Казаках», вопреки воле автора, появилась наружу бодрящая поэзия войны и суровой боевой жизни... «По всей линии цепи, – описывает Толстой стычку русских с чеченцами, – послышался непрерывный, веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор...» и т.д. Здесь даже «прелесть семейной ласки любимейшей из жен Шамиля, 18-летней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет» является в старых толстовских тонах, точно художник позабыл на минуту мрачное обличение Позднышева. Великий писатель снова во власти чар внелогичной красоты, и бесцветная проповедь старца Акима заглохла в мощных звуках свободной песни Хаджи-Мурата. Книга эта точно написана назло биографам и комментаторам.
VII.
Перед нами поистине загадочное явление. Толстому были даны природой глаза, которым равных по остроте не имеет в настоящее время ни один другой человек, быть может, не имел никто и прежде. Этот избранник судьбы мог видеть все – и напрягал силы к тому, чтобы свести до минимума горизонт своего зрения. Ни один другой мыслитель не был так глубоко, как Толстой, убежден, что в огромном здании жизни под мысль отведена лишь одна небольшая комната, что жизнь не укладывается целиком ни в какие логические и моральные догмы, что она полна явлений, недоступных пониманию человека, стало быть не имеющих вовсе смысла, – если отречься от банальных, ничего не значащих фраз старой богословской метафизики{83}83
Последнего вывода Толстой однако не делал. Напротив, он мог сказать, как самую естественную вещь, следующее: «Жизнь мира совершается но чьей-то воле, – кто-то этою жизнью всего мира и нашими жизнями делает свое какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее, делать то, чего от нас хотят» («Исповедь»). Сначала – исполнять, а донять можно потом!
[Закрыть]. И вместе с тем никто другой в современной философии не приложил столько усилий, чтобы подчинить жизнь логике, чтобы заслонить внелогичное от себя и от других, чтобы втиснуть бытие человека в рамки простейших прописных начал. Ведь толстовство – крайняя ступень рационализма, дальше которой, пожалуй, некуда идти. Читая догматические произведения Толстого, мы испытываем иллюзию необыкновенной ясности и простоты. Как стройно выводятся всевозможные «упряжки», посвященные сну, общению с людьми, умственному, физическому труду, как математически ясно определено, что нужно делать и чего не нужно делать! Пункт первый... пункт второй... пункт третий... Кажется, никогда христианская доктрина не излагалась в такой, почти бюрократической форме. «В чем моя вера» – своего рода свод законов{84}84
Невольно является мысль: может быть, известное изречение Вовенарга: ceux qui craignent les homes aiment les lois (законы любит тот, кто боится людей (фр.).– Пер. ред. – относится не только к писанному, но и к моральному закону.
[Закрыть] наизнанку написанный анархистом.
Не в этом ли коренном дуализме следует искать истинную причину антипатии Толстого к науке? Настоящий грех последней не в том, что она «научная», а не «истинная»; Толстой ненавидит ее не за то, что она вместо ушата и топорища, занимается лейкоцитами и Млечным Путем. Он ненавидит ее почти мистической ненавистью, не отдающей себе ясного отчета. Наука означает для Толстого строй мысли, страдающий неизлечимой слепотой. Она ведь игнорирует внелогичное или просто его не замечает. И свою бессознательную слепоту хочет выдать за высшую степень зоркости, осмеливается навязывать себя людям, которые вечно видят перед собой то, о чем она не подозревает! Все творчество Толстого, не только догматическое, но и художественное (и второе гораздо больше, чем первое), заключает в себе скрытый вызов науке. Что-то она ответит на «Смерть Ивана Ильича»? как отделается от воинственной песни Хаджи-Мурата? чем она сокрушит Позднышева? Науке ответить нечего. Верная завету великого провидца, она отыскивает «маленькую правду» и не заботится о «большой лжи»{85}85
«Еmeglio la piccolo certezza che la grande bugia» (Leonardo da Vinci.Frammenti e pensieri).
[Закрыть]. Для большинства ученых внелогичное есть нелогичное (то есть ложь), хотя из вежливости они носят удобный и достойный костюм позитивизма... Вильгельм Оствальд говорит, что в нем первое чтение «Крейцеровой сонаты» вызвало некоторую тревогу; но затем, подумав над тезисами книги, знаменитый ученый скоро успокоился. Это очень характерно. «Крейцерова соната» вызвала в Оствальде то же чувство, которое она вызывает в нас всех, – смутный безотчетный страх перед грозным призраком внелогичного. Но, разумеется, идеи «Послесловия» ни на минуту не могли затруднить такого логика, как Оствальд. Он прочел «Послесловие», проверил его и себя и с радостью убедился, что может ответить Толстому по всем пунктам, не делая вдобавок большого усилия мысли: десятки пасторов до Толстого выступали с проповедью добрачного целомудрия, десятки врачей и социологов отвечали им «с одной стороны» и «с другой стороны». Какую бы сторону ни выбрать, ответ Толстому готов. Беда лишь в том, что «Послесловие» не выражает одной сотой сказанного в «Крейцеровой сонате». Оно даже выражает нечто совсем другое. «Формулы Максвелла гораздо глубже, чем Максвелл». На «Послесловие» легко ответить, Позднышеву ответить невозможно.
В этом смысле Толстой остается победителем в своем споре с наукой, что бы ни говорили самодовольно Петцольдты насчет «eine gewisse Verk?mmerung des logischen Bestandes»{86}86
«Ослабление логического мышления» (нем.).
[Закрыть] у автора «Крейцеровой сонаты». Но победа Толстого – Пиррова победа. Разбивая науку, он разбил и самого себя. Наука ничего не может ответить Анне Карениной, Позднышеву, Ивану Ильичу. Но и Толстой ничего не может им ответить. Он на внелогичное дает рационалистические ответы, которые ничуть не более ценны, чем великолепное молчание науки. К тому же все эти ответы находятся в вопиющем противоречии один с другим. В «Анне Карениной» дана апология брака; в «Крейцеровой сонате» брак смешан с грязью{87}87
Как мучительно путался в этом вопросе Толстой, видно хотя бы из непосланного письма его к Н. Н. Страхову от 19 марта 1870 г. Защищая брак против «пустобрехов», Лев Николаевич дошел здесь до апологии проституции, которую отстаивал доводами вроде следующих: «Эти несчастные (Магдалины) всегда были и есть и, по-моему, было бы безбожием и бессмыслием допускать, что Бог ошибся, устроив это так» или «то, что этот род женщин нужен, нам доказывает то, что мы выписали их из Европы». (Толстовский музей, т. II, стр. 10).
[Закрыть]. «Смерть Ивана Ильича» призывает людей жить по-божески, чтобы спокойно умереть. «Хаджи-Мурат» показывает, что жизнь хороша, даже если не жить по-божески; а умирает Хаджи-Мурат, во всяком случае, и легче, и красивее, чем раскаявшийся Иван Ильич... Эти противоречия неустранимы, потому что они – противоречия самой жизни. Их можно не изгладить, конечно, а прикрыть ярлыком скептического миропонимания. Но Толстой слишком ясно чувствовал, что скептицизм так же легко разбивается о жизнь, как любая положительная догма.
Гюйо говорит в «L’art au point de vue sociologique»{88}88
«Искусство с социологической точки зрения» (фр.).
[Закрыть], что некоторые из образов, созданных фантазией великих художников слова, (как Альцест, Гамлет, Вертер) одновременно являются реальными и символическими, чему, по его мнению, они обязаны своей неумирающей славой. Толстой мало заботился о символике в своих художественных произведениях. Из Стивы Облонского, Кити, Николая Ростова или адъютанта Дубкова, конечно, никакого символа не выкроишь. Тем не менее некоторые фигуры, созданные Толстым, вполне удовлетворяют требованию Гюйо. Я бы отнес сюда Каратаева и Нехлюдова. Об разы эти в данном случае меня интересуют потому, что символизируют именно те начала, о которых выше шла речь. Они, впрочем, и сами по себе напрашиваются на сопоставление, так как взаимно исключают друг друга. Один – сама удовлетворенность, другой – воплощенное искание. Один весь – радость жизни, другой весь – недовольство. Один купается во внелогичном, как сыр в масле, другой хочет весь мир втиснуть в формы логического мышления. Это тоже своего рода Ормазд и Ахриман, только jenseits des Gute und B?se{89}89
По ту сторону добра и зла (нем.).
[Закрыть], и любитель абстракций мог бы изобразить всю жизнь Толстого как борьбу этих двух начал.
Каратаев – не эллин и не иудей. Русский человек с головы до пят, он символизирует непонятный оптимизм народа, который, перенеся татарское иго и крепостное право, Батыев и Биронов, Аракчеевых и Салтычих, ухитрился создать кодекс практической мудрости, удивительно сочетающий Эпиктета с Панглосом. Как ни трогателен великолепный образ, созданный Толстым, но от него до вольтеровской сатиры только один шаг. «Час терпеть, а век жить», – говорит Платон Каратаев. Когда же он «живет» и что он называет – «терпеть»? Запертый французами в балаган из обгорелых досок, он, сидя на соломе, радуется: «Живем тут, слава Богу, обиды нет». Рассказывая Пьеру, «как его секли, судили и отдали в солдаты», он «изменяющимся от улыбки голосом» добавляет: «Что ж, соколик, думали горе, ан радость!». Глядя на пожар Москвы, философски утешается: «Червь капусту гложе, а сам прежде того пропадае». Да ведь и капуста «пропадае»? Но Каратаев оптимист и на чужой счет. В знаменитом рассказе он передает ужасную историю, которая в своем роде стоит повести Ивана Карамазова о затравленном ребенке, но лицо его блаженно сияет «особенно радостным блеском». Чему он радуется? Тому ли, что невинному купцу вырвали ноздри «как следует по порядку»? Тому ли, что объявился настоящий виновник, которому за минуту умиления, за принесенное сознание, вероятно, тоже по порядку вырвут ноздри? Тому ли, что «пока списали, послали бумагу, как следовает», невинный купец отдал Богу душу? Что скрывается в глубине этого таинственного явления? Для Каратаева, как для всего русского народа, преступник и несчастненький – одно и то же. Но еще вопрос, как создалась эта ассоциация понятий: видит ли Каратаев несчастье в преступлении или преступление в несчастье? Его веками воспитанное смирение тесно сплелось с культом поддерживающей status quo физической силы; но оно, по-видимому, исчезает, как дым, в дни общественных потрясений. Велика объединенная сила косности ста пятидесяти миллионов Каратаевых, но стоит пробежать искре и вспыхивает «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Бессмысленное смирение, бессмысленный бунт... Да и для чего Каратаеву смысл? Он живет вне логики и не знает, что такое логика. Он способен любоваться чем-то в несправедливости, но борьба с ней не вяжется в нормальное время с его понятиями о благообразии. Он видит «порядок» в вырванных ноздрях купца, но та деятельность, которой в эпилоге «Войны и мира» отдается Пьер Безухов, по признанию самого Пьера, не нашла бы одобрения Каратаева. В нормальное время для него все действительное разумно, а он сам бессознательный русский гегельянец 40-х годов. Я боюсь даже, что он и в толстовстве не найдет своего любимого благообразия, по крайней мере, до тех пор, пока толстовство не завоюет мира. Каратаевщина – большое личное счастье и огромное социальное зло. И если Толстой порою видел в ней высшую мудрость жизни, то носитель этой мудрости, русский Папглос в сермяге, не заплатит той же монетой великому рыцарю духа.
Нехлюдов, общий Нехлюдов многочисленных произведений Толстого, тот, что сердится в «Люцерне» и умиляется в «Утре помещика», кончает самоубийством в «Записках маркера» и воскресает в «Воскресении», не несет в себе ни национального, ни религиозного начала. Он не русский: в нем голос рассудка заглушает голос крови; и не из той он породы русских отрицателей родины, которые всего ближе России в те моменты, когда они ее отрицают как Кириллов, «gentilhomme-s?minariste russe et citoyen du monde civilis?»{90}90
«Русский дворянин-семинарист и гражданин мира» (фр.)»
[Закрыть]. Нехлюдов принадлежит к другой породе космополитов. Тихо де Браге на угрозу изгнанием гордо ответил: мое отечество всюду, где видны звезды. Родина Нехлюдова всюду, где человек может стремиться к правде и грызть самого себя при ее вечном ускальзывании. Если для Каратаева Наполеон и декабристы – непорядок, то для Нехлюдова демократический деспот Франции и аристократические революционеры России – слишком «порядок», Слишком terre ? terre{91}91
Будничный, приземленный (фр.).
[Закрыть]. Нехлюдов не христианин: для него христианство – временное dada{92}92
Конёк (фр.).
[Закрыть], как для Вронского постройка сельской больницы. Воскресший Нехлюдов несет в потенциальном состоянии новые падения и новые воскресения, несет в себе длинный ряд самых различных возможностей. Легко допустить, что он кончит самоубийством; ведь заставил же его однажды Толстой застрелиться после случайного и довольно невинного «падения». Нет ничего невозможного и в том, что, вернувшись из Сибири, Нехлюдов соединится узами законного брака с какой-нибудь Мисси Корчагиной, – не сразу, конечно, а годика через два-три, причем брак этот легко может закончиться так, как идиллия «Крейцеровой сонаты» (но, вероятнее всего, без убийства, – семейным адом без кинжала и крови). Можно, наконец, предположить, что Нехлюдов займется рано или поздно деятельностью общественной, как Кознышев или Крыльцов, и скорее как Крыльцов, чем как Кознышев. Только одной возможности я никак не могу представить себе для Нехлюдова: перманентную святость. Эта последняя у Толстого облекается либо в форму святости мнимой, – святошества, как у коротконогой «пиетистки», госпожи Шталь, либо в форму прозаической святости, черпающей силу в особенностях природного темперамента, как у Сони «Войны и мира», либо, наконец, в форму святости трагической, пример которой долгое время являет отец Сергий; но для последней, кроме личных особенностей, необходимо экстренное и случайное обстоятельство, которого не было в истории жизни Нехлюдова. Святость же перманентная, святость любимцев Достоевского, Толстому никогда не удавалась; он предпочитал разъяснять ее сущность в своих нравоучительных рассказах, о которых можно сказать, перефразируя слова Паскаля: «On s’attendait de voir un auteur, et on ne trouve qu’un homme»{93}93
«Мы ожидали увидеть писателя, а увидели только человека» (Фр.).
[Закрыть]. И потому занавес опускается над Нехлюдовым в самый момент духовного воскресения.
Характерный для Каратаева эпизод, относящийся к последнему году жизни Льва Николаевича, мы находим в воспоминаниях В. Г. Черткова. Толстому случилось в Кочетах вести философский спор со стариком-скопцом, который провел в ссылке более 30 лет. Скопец, неожиданно оказавшийся искусным диалектиком, поставил Льва Николаевича в весьма затруднительное положение:
«Л. Н. Нужно прилагать усилие, чтобы воздерживаться от полового общения, в этой борьбе с соблазнами задача жизни.
N. (скопец). Для простого человека, Ваше Сиятельство, ежели он здоровый, это невозможно. Вот духоборы, с которыми мы много виделись в Сибири, говорили, что решили воздерживаться, жить целомудренно. Мы им говорили – вы это говорите теперь, а посмотрим, что будет, когда вы дойдете до Якутска. И что же, через год мы их опять видели, и много у них люлек и младенцев!
Л. Н. Нужно стремиться. Совершенным быть нельзя, но стремиться можно.
N. Ваше Сиятельство, позволите вам сказать?
Л. Н. Пожалуйста, пожалуйста, говорите.
N. Ваше Сиятельство, ведь нужно соблюдать целомудрие, не так ли?
Л. Н. Разумеется, нужно, разумеется.
N. (Спокойно, убежденно и безапелляционно, как нечто совершенно очевидное). В таком случае скажите, Ваше Сиятельство, на что?.. Для чего?.. Не лучше ли освободиться?..
Л. Н. (улыбнувшись). Да, на это трудно ответить вам (после того Л. Н. несколько раз вспоминал этот аргумент скопца и сознавался, что был им озадачен). Но в таком случае можно сказать: на что жизнь? Не лучше ли самоубийство? Ведь если бы все люди последовали вашему примеру, то род человеческий сам себя уничтожил бы.
N. Нет. Самоубийство – этого нам Христос не велел. Нужно страдать.
Л. Н. И тут воздерживайся и страдай. Ведь если пьяница не напивается потому, что у него денег нет или нет поблизости кабака, то заслуга не велика. Нет, ты воздерживайся, когда есть возможность согрешить»{94}94
В.Чертков. Свидание с Л. Н. Толстым в Кочетах. «Речь», от 7 ноября 1913 г.
[Закрыть].
Лев Николаевич бесспорно мог быть озадачен аргументом старого скопца: в сущности, автор «Крейцеровой сонаты» не имеет никакого ответа на поставленный скопцом вопрос. Он то возражает ему ссылкой на прекращение человеческого рода, то есть доводом, который Позднышеву противоставлял его манекен-собеседник (к тому же род человеческий прекратился бы и при общем целомудрии), то доказывает, что без соблазнов не было бы и борьбы с соблазнами. Но этот ответ совершенно схоластичен: если верно сравнение Толстого, то не надо закрывать и кабаков; напротив, необходимо позаботиться, чтоб кабаки находились всюду, дабы каждый пьяница, имея перед глазами соблазн, мог воздерживаться и страдать. Приблизительно такими же аргументами Шопенгауэр опровергал тех, кто считал самоубийство прямым выводом из его мрачной философской системы. Озадаченный Толстой улыбался в ответ на искусный довод скопца, но улыбался типичной, не аргументированной улыбкой непостижимого, круглого и вечного Платона Каратаева.
Скопчество, конечно, отвратительно. Изуверски-последовательная доктрина скопцов покоится на той мысли, что природа человека глубоко уродлива сама по себе, – мысль весьма опасная для односторонне-логических и в то же время религиозных натур; знающие люди говорят, что она не согласуется с истинной верой. Шатобриан, которому в религиозных вопросах, конечно, и книги в руки, отличал верующих людей от атеистов именно по оценке природы человека, – весьма будто бы благосклонной у первых, весьма неблагосклонной у вторых. Он говорит: «La religion ne parle que de la grandeur et de la beaut? de l’homme. L’ath?isme a toujours la l?pre et la peste ? vous offrir. La religion tire ses raisons de la sensibilit? de l’?me, des plus doux attachements de la vie, de la piet? filiale, de l’amour conjugal, de la tendresse maternelle. L’ath?isme r?duit tout ? l’instinct de la b?te, et pour premier argument de son syst?me, il vous ?tale un coeur que rien ne peut toucher»{95}95
(Религия говорит только о величии и красоте человека. Атеизм же обычно предлагает вам проказу и чуму. Религиозные мотивы берут свое начало в душевной чувствительности, в самых нежных привязанностях, в сыновней и супружеской любви, материнской нежности. Тогда как атеизм все сводит к животному инстинкту, и первый аргумент, который он приводит в свою защиту – это бесчувственное сердце» (фр.) – Пер.ред.. Chateaubriand. G?nie du christianisme. Lyon, 1804, vol.11, p.170.
[Закрыть]. Если верить критерию Шатобриана, то Л. Н. Толстой окажется атеистом чистейшей воды! В его изображении человеческой природы ни один мизантроп не найдет недостатка «чумы» и «проказы»:
Мать завидует счастью дочери, сделавшей блестящую партию{96}96
Княгиня Курагина.
[Закрыть]; – la tendresse maternelle{97}97
Материнская нежность (фр.).
[Закрыть].
Жена низводит близящуюся смерть мужа «до уровня... визитов, гардин, осетрины к обеду». Муж «всеми силами души ненавидит её и прикосновение её заставляет его страдать от прилива ненависти к ней»{98}98
Прасковья Федоровна и Иван Ильич.
[Закрыть]; – l’amour conjugal{99}99
Супружеская любовь (фр.).
[Закрыть].
Мальчик-сын разыгрывает утонченную комедию скорби на похоронах нежно любимой матери{100}100
Николенька Иртенев.
[Закрыть]; – la pi?t? filiale{101}101
Сыновняя любовь (фр.).
[Закрыть].
Добродушный штабс-капитан задушевно мечтает о том, чтобы скорее случилось умереть его товарищу, женатому на хорошенькой женщине{102}102
Михайлов (Севастополь в мае 1855 г.).
[Закрыть];– les plus doux attachements de la vie{103}103
Самые нежные привязанности (фр.).
[Закрыть].








