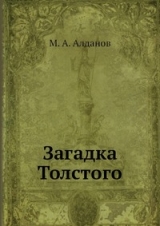
Текст книги "Загадка Толстого"
Автор книги: Марк Алданов
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
От автора
В 1914 году мною была закончена книга «Толстой и Роллан», первый том которой вышел в свет в самом начале войны. На его долю выпал у критики незаслуженный и неожиданный успех. Второй том, почти готовый в рукописи, не был сдан в печать. Я в ту пору не имел возможности заниматься литературными делами, да и цензурные условия военного времени крайне затрудняли появление в неурезанном виде книги, посвященной мысли Ромена Роллана. В 1918 году я уехал за границу. Библиотека моя, разумеется, осталась в России и там погибла; погибли с нею и мои рукописи. Таким образом, я и теперь не могу напечатать свою работу в том виде, в каком она была задумана в 1912 – 1914 годах.
Из первого тома книги, по самому ее плану, сравнительно нетрудно было выделить часть, посвященную Л.Н.Толстому. Она и перепечатывается в настоящем издании без существенных изменений. Если б я теперь стал наново писать книгу об авторе «Войны и мира», я написал бы ее иначе. Но общую концепцию «загадки Толстого», данную в моем труде, я продолжаю считать правильной, несмотря на ряд сделанных в печати возражений. Не появилось за истекшие десять лет и новых, относящихся к Толстому материалов, которые шли бы с ней вразрез.
Я предполагаю скоро выпустить в свет также монографию о Р.Роллане; некоторые главы ее будут мною восстановлены по памяти, другие – большая часть – написаны заново. Последнее было бы неизбежно даже в том случае, если бы в моем распоряжении имелась старая рукопись: Ромен Роллан с 1914 года написал шесть новых книг, и некоторые из них занимают в его творчестве совершенно исключительное место.
Мне приходится, таким образом, отказаться от первоначального замысла, по которому мысль Л.Н.Толстого и Ромена Роллана рассматривалась формально в параллели. Но параллель эта и по первоначальному замыслу не имела узкоспециального характера: в работе моей были две монографии, объединявшиеся третьей, заключительной частью. Да и теперь в книге о Ромене Роллане мне не раз придется возвращаться к загадке Толстого.
Я выпустил из настоящего издания несколько страниц, из которых одна относилась к В.В.Розанову, недавно скончавшемуся в России, другие – к И.Ф.Наживину, давно переставшему быть толстовцем. Требовала бы теперь выпуска, по архаичности темы, и значительная часть X главы книги. Но, повторяю, я не имел в виду выпускать «переработанное издание».
Тu voyais sous tes pas un gouffre se creuser
Qu’?largissaient sans fin le douteetl’ironie;
Et, pench? sur cette ombre, en ta longue insomnie,
Tu sentaisun frisson mortel te traverser.
Al’abime vorace, alors, sans balancer,
Tu jetas ton grand coeur brise, ta chair punie,
Та rebelle raison, ta gloire et ton g?nie,
Et la douceur de vivre et I’orgueil de penser.
Ayant de tes d?bris combl? le pr?cipice,
Ivre de ton sublime etsanglant sacrifice,
Tu plantas une croix sur ce vaste tombeau.
Mais sous l’entassement des ruines vivantes
L’ab?me se rouvrait, et, prise d ‘?роuvantes,
La croix du R?dempteur tremblait comme un roseau.
Jules Lemaitre. Pascal{1}1
В пропасть, что разверзлась пред тобою,
Ты бросал тревоги и сомненья
И, бродя ночами тихой тенью,
Холод смерти чувствовал порою.
Сердце, тело, славу, ум и гений
Ты ронял в зияющую бездну.
Счастье, честолюбие и беды
Отдавал, не ведая сомнений.
И, насытив пустоту до грани,
Кровью жертв залив ее до края,
Ты поставил крест, как Искупленье,
Но земля под ним зашевелилась
И под гнетом плоти обвалилась,
Пошатнув знак высшего прощенья.
Жюль Леметр «Паскаль» (фр.).– Пер. И.Ю.Наумовой.
[Закрыть]
I.
Часто цитируют слова Канта: «две вещи наполняют мой дух вечно новым и все большим благоговением: звездное небо надо мной, нравственный закон во мне». Эта знаменитая формула, выражающая идею совершенного, гармонического человека, может быть разделена, как в теории, так и в жизни: откиньте ее второй член, оставьте одно «звездное небо», она вплотную приблизится к учению язычника Гёте:
Freudig war vorvielen Jahren
Eifrig so der Geist bestrebt,
Zu erforschen, zu erfahren,
Wie Natur im Schaffen lebt.
Und es ist das ewig Eine,
Das sich vielfach offenbart;
Klein das Grosse, gross das Kleine,
Allesnach der eignen Art.
Immer wechselnd, fest sichhaltend,
Nah und fern und fern und nah,
So gestaltend, umgestaltend—
Zum Erstaunen bin ich da.{2}2
Довелось в былые годы
Духу страстно возмечтать
Зиждущий порыв природы
Проследить и опознать.
Ведь себя одно и то же
По-различному дарит,
Малое с великим схоже,
Хоть и разнится на вид;
В вечных сменах сохраняясь,
Было – в прошлом, будет – днесь.
Я и сам, как мир, меняясь,
К изумленью призван весь. – Пер. с нем.. Н.Вилъмонта. Впрочем, Гёте порою высказывался и в другом духе. В разговоре с Эккерманом 11 марта 1832 г. он почти буквально повторяет формулу Канта (I.P.Eckermann. Gespr?che mit Goethe, T. III, S. 692). Здесь и далее прим. авт., если это не оговорено особо.
[Закрыть]
Напротив, для Толстого-мыслителя существует только «нравственный закон». То «dasewig Eine»{3}3
«Вечно одно» (нем.).
[Закрыть], которому всю жизнь «удивлялся» Гёте, «звездное небо» Канта – в толстовстве не находят места. Ученые выдумали, правда, «туманные пятна», «спектральный анализ звезд», «химический состав Млечного пути», но все это – никому ни для чего не нужный профессорский вздор. Боги звездного неба, Кеплеры, Ньютоны, Леверье, для Толстого в лучшем случае – маньяки, напоминающие Пфуля, Вейротера и других немецких стратегов «Войны и мира», – только более безобидные, благодаря своей штатской профессии. Как Пфуль и Вейротер, они не лишены, быть может, специальной, ограниченной гениальности. Немецкие стратеги всю жизнь проводят за составлением диспозиций: «die erste Kolonne marschiert... die zweite Kolonne marschiert»{4}4
«Первая колонна марширует... вторая колонна марширует» (нем.).
[Закрыть]. Кеплеры весь свой век думают о том, как «der erste Planet marschiert... der zweite Planet marschiert»{5}5
«Первая планета марширует... вторая планета марширует» (нем.).
[Закрыть]. Пфуля и Вейротера считают гениями другие немцы-стратеги; точно так же Кеплерам поклоняются другие безобидные маньяки, а за ними публика, находящаяся во власти научного суеверия.В худшем же случае, который, Конечно, встречается гораздо чаще, небесные Пфули лишены даже ограниченной гениальности.Тогда это просто дюжинные профессора, Шмидты и Майеры, выдумавшие себе занятие, «чтобы получать больше жалованья», нестерпимо самоуверенные и чрезвычайно глупые»{6}6
В Ясной Поляне одно время держалась поговорка: «глуп, как профессор» (Ив. Наживив. Из жизни Л.Н.Толстого. Москва, 1911, стр. 34).
[Закрыть]. Когда в «Плодах просвещения» профессор Алексей Владимирович Кругосветлов тягучим, мерным голосом говорит о «пертурбациях невесомого эфира», об «энергии динамической, термической, электрической и химической» и о ее «соллицитированных проявлениях», нам совершенно ясно, что Толстому он представляется гораздо глупее, чем Вово Звездинцев и Коко Клинген, достойные члены общества поощрения разведения старых русских густопсовых собак. Профессорский жаргон «научной науки», как презрительно выражался Толстой, стоит приблизительно на том же уровне, что косноязычный вздор полуидиотического дипломата, князя Ипполита Курагина. В этом своем совершенном презрении к представителям «научной науки» Лев Николаевич идет вслед за Шопенгауэром, но гораздо дальше последнего. Немецкий философ тоже сердито удивлялся, когда слышал о необычайной гениальности Ньютона, тоже терпеть не мог профессоров и, как Толстой, не стесняясь в выражениях, говорил, что ученые вне своей специальности (а иногда и в ее пределах) сплошь и рядом оказываются настоящими ослами.
Толстой сражается с наукой, как опытный искусный полемист: он старательно выискивает слабые места своего противника и на них сосредоточивает нападение. С особенной охотой он избирает мишенью для своих нападок медицину. Как радостно отмечает он, что знаменитые доктора не лечат, а обманывают Наташу Ростову, Кити Щербацкую. Толстовские врачи не уступают в невежественном апломбе спиритам-профессорам и немецким стратегам, но сверх того Толстой награждает их еще порядочной долей полусознательного цинизма: «к обеду приехал доктор и, разумеется, сказал, что, хотя повторные явления и могут вызывать опасения, но, собственно говоря, положительного указания нет, но так как нет и противупоказания, то можно, с одной стороны, полагать, с другой же стороны, тоже можно полагать. И потому надо лежать, и хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимайте, и лежать... Получив гонорар, как и обыкновенно, в самую заднюю часть ладони, доктор уехал» («Дьявол»). Нечего сказать: и невежда, и шарлатан, и дармоед. Кругосветловы за свои откровения хоть гонорара не берут (по крайней мере, при читателе). Для посрамления медицины Толстой выдумывал даже особые болезни, которых врачи не только не могут прекратить, но не могут и распознать: нам так-таки остается неизвестным, от чего умер Иван Ильич – от блуждающей ли почки, от хронического ли катара или от болезни слепой кишки. Великий писатель не мог, однако, не знать, что существуют недуги более послушные воле и знанию человека; к тому же в семье точных наук практическая медицина является чем-то вроде Австрии по определению Тютчева: это Ахиллес, у которого всюду пятка.
Но и в других областях знания Толстой мастерски выбирает для атаки наиболее уязвимые места. В политической экономии он подвергает расстрелу теорию Мальтуса, в социологии – органическую теорию общества. Его аргументация местами сильна, почти всегда остроумна. Правда, она в значительной своей части не нова. Так, например, в критике шатких социологических построений Герберта Спенсера Толстой на каждом шагу повторяет известные аргументы Михайловского. Великий писатель доводил свое отвращение к научному педантизму до того, что нисколько не считал себя обязанным изучать детально литературу вопросов, о которых писал: для него эти аргументы были новы; он приходил к ним самостоятельно. Впрочем, ему случалось выдвигать против тех или других научных положений и оригинальные доводы, в которых резкая, парадоксальная, несправедливая форма порою прикрывает долю несомненной истины. «Теория эволюции, – замечает, например, Толстой, – говоря простым языком, утверждает только то, что по случайности в бесконечно долгое время из чего хотите может выйти все, что хотите. Ответа на вопрос нет. А тот же вопрос поставлен иначе: вместо воли поставлена случайность, а коэффициент бесконечного переставлен от могущества ко времени»(XVII, 140){7}7
Все цитаты из произведений Л.Н.Толстого приводятся мною по 24-томному Сытинскому изданию под редакцией П.И.Бирюкова.
[Закрыть]. Или еще:«Люди современной науки очень любят с торжественностью и уверенностью говорить: мы исследуем только факты, воображая, что эти слова имеют какой-нибудь смысл. Исследовать только факты никак нельзя, потому что фактов, подлежащих нашему наблюдению, бесчисленное (в точном значении этого слова) количество. Прежде чем исследовать факты, надо иметь теорию, на основании которой исследуются факты»(XVII, 136). Современный научный критицизм, обосновывая философские понятия рабочей гипотезы и объяснения, высказал мысли, довольно близкие к этим. Рамки настоящей работы не дают возможности сопоставить некоторые научные предвидения автора «Войны и мира» с подлинными мыслями знаменитых ученых нашего времени. В этих предвидениях, как почти в каждой странице наследия Толстого, ясно виден его несравненный ум, с одинаковой легкостью вникающий в сложные вопросы науки, в дебри отвлеченной метафизики, в глубины сердца человека, в мельчайшие подробности социальных отношений.
Но все же Толстой говорит о науке не как философ, а как полемист, притом как полемист, исполненный крайнего раздражения. Резкость его отзывов часто переходит всякие границы: для него «дарвинизм – образец глупости», «чем ученее человек, тем он глупее», «представление мужика о том, что Бог сотворил мир в 6 дней, гораздо правильнее, научнее, чем учение об эволюции», «слава Богу, что наука в Индии не развивается», люди, занимающиеся наукой, «умственно вывихивают себе мозги, становятся скопцами мысли, по мере оглупения приобретают самоуверенность»... и т.д. В пылу полемического увлечения Толстой иногда говорит явно несообразные вещи, вроде следующей: «в чем разница дедуктивного от индуктивного, никто никогда понять не мог» (XVII, 164), или же сообщает о науке сведения, просто фактически неверные: «Выдумали, – говорит он, например, – торпеды, приборы для акциза, для нужников, а прялка, ткацкий бабий станок, соха, топорище, цеп, грабли, журавель, ушат все такие же, как были при Рюрике» (XVII, 156).
В ответ на весь этот полемический задор, на мастерскую, блестящую кампанию Толстого, наука великолепно молчала. Толстым везде увлекаются, как художником, еще больше интересуются его религиозными воззрениями, о которых пишут университетские диссертации (Maffre.Le Tolsto?sme et le Christianisme{8}8
Маффр «Толстовство и христианство» (фр.). – Здесь и далее переводы текстов на иностранных языках даны редакцией, если это не оговорено особо.
[Закрыть]); знаменитые историки (Альбер Coрель, Н.И.Кареев) посвящают специальные исследования историческим воззрениям Толстого; заслуженные генералы (Драгомиров) старательно изучают его философию войны{9}9
Воззрения Толстого на войну и ее науку незаметно проникли в те углы европейского мышления, где они, казалось бы, всего менее могла рассчитывать на сочувствие. Нередко они преподносятся европейскому читателю, как нечто новое и самостоятельное; см., например, у Леметра (Les Contemporains», 3-me s?rie) заметку об истории Конде, написанной герцогом Омальским.
[Закрыть]. Но кампания великого писателя против науки со стороны представителей последней не удостаивается никакого ответа. Впрочем, Петцольдт вскользь замечает, что у Толстого, как у других религиозных реформаторов, нет научного органа: «kein Organ f?r die Wissenschaft». Отрицанию великого писателя представитель науки ставит бесцеремонный диагноз: «eine gewisse Verk?mmerung des logischen Bestandes»{10}10
«Известное ослабление логического мышления» (нем.).
[Закрыть]. Лев Николаевич считал ученость и глупость синонимами; в благодарность за этот комплимент Петцольдты зачисляют Толстого в число калек. Конечно, долг платежом красен; но платеж в данном случае вышел весьма сомнительный. «Органы» у Толстого были все в целости, – дай Бог каждому! – и «научный орган» отнюдь не составлял исключения.
В 1847 году 19-летннй Л.Н.Толстой занес в свой дневник следующий небольшой проект, который трудно прочесть без улыбки:
«Цель жизни в деревне в продолжение двух лет: 1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университет. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство, как теоретически, так и практически. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математику – гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть высшей степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила и 10) получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать»{11}11
П.Бирюков. Л.Н.Толстой, т. I, стр. 145.
[Закрыть].
В 1910 году 82-летний Л.Н.Толстой переезжал как-то из Кочетов в Ясную Поляну. В.Г.Чертков описывает следующую сцену из этого переезда:
«В отделении я остался один со Львом Николаевичем; Душан и Булгаков уселись в соседнем отделении. Я прилег отдохнуть, но мне не спалось. Л.Н., полулежа на противоположном сиденье, стал читать книгу. Встав, чтобы откинуть упавший на него шнур с опущенного верхнего дивана, он загляделся в открытое окно на красный закат. Долго выделялась на фоне окна его несколько согнувшаяся вперед сутуловатая фигура. Он, видимо, любовался зрелищем. Немного погодя, он, не двигаясь с места, посмотрел на свои часы и затем стал поминутно их вынимать. Очевидно, он хотел проследить, сколько времени потребуется для того, чтобы диск солнца скрылся за горизонтом. Когда перед окном поднимался густой лес или насыпь, он нетерпеливо высовывал из окна голову, чтобы узнать, долго ли протянется это препятствие, мешавшее его наблюдению»{12}12
В.Чертков. Свидание с Л.Н.Толстым в Кочетах. «Речь», 1913 г.
[Закрыть].
Эта сценка весьма характерна для Толстого, как ни маловажен излагаемый эпизод. Глубокий старец, одной ногой стоящий в могиле, должен зачем-то знать, сколько времени потребуется диску солнца, чтобы скрыться за горизонтом. Люди гораздо моложе его прилегли отдохнуть, а он стоит с часами в руке и что-то нетерпеливо изучает. Это вот жадное любопытство к явлениям внешнего мира создает Пасторов и Лавуазье, когда оно не создает Толстых и Гёте.
«Я почти невежда, – пишет в дневнике Толстой в 1854 году, – что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку и то так мало». Полвека спустя, он, вероятно, готов был бы повторить то же самое, но не с огорчением, а с истинной радостью: ведь по Толстому неученье – тьма, но и ученье – тоже тьма; единственный из современных людей, он был склонен гордиться «невежеством», хотя меньше, чем кто-либо другой, имел на это право: Толстой был несомненно одним из наиболее разносторонне ученых людей нашего времени. Он знал «немного обо всем», что, если верить Паскалю, гораздо лучше, чем знать «все о немногом»{13}13
Необыкновенная разносторонность умственных интересов Толстого весьма ясно сказалась в его переписке с Н.Н.Страховым. XVIII век несколько отучил нас от такого стиля писем, и книга, превосходно изданная Толстовским музеем под редакцией Б.А.Модзалевского, своим настроением точно переносит читателя в умственную атмосферу XVII столетия, вызывая в памяти переписку Декарта с Мерсенном и Спинозы с Ольденбургом. За Н.Н.Страховым, независимо от его достоинств и недостатков, навсегда останется прочная заслуга в литературе: он один из первых понял, что такое Толстой.
[Закрыть]. Впрочем, в своем главном «ремесле», в литературе, он знал «все», – древнее, новое, новейшее; здесь он был специалистом глубокого, исчерпывающего знания. Толстой владел множеством культурных языков, вплоть до греческого и еврейского. Он в разное время жизни интересовался, со всей своей способностью страстного увлечения, то философией, то естествознанием, то богословием, то теорией искусства, то педагогическими науками. В 1870 году Толстой, по собственным словам, «с утра до ночи» занят изучением греческих классиков в подлинниках{14}14
П.Бирюков. Цитир. соч., т. II, стр. 170
[Закрыть], в 1884 году он, как мы случайно узнаем, интересуется астрономией{15}15
Там же, т. II, стр. 480.
[Закрыть], в 1910 году почти пристает ко всем своим посетителям с каким-то неизвестным доказательством Пифагоровой теоремы»{16}16
В.Булгаков. У Л.Н.Толстого, стр. 45, 67, 161 и др.
[Закрыть]. Что ему Гекуба? Для чего нужна Пифагорова теорема тому, кто так жестоко издевается над наукой? Эти внезапные периодические увлечения сказывались в Толстом в течение всей его жизни, и люди, видевшие два десятка книжных шкафов в Яснополянском доме{17}17
О библиотеке, составленной Толстым и насчитывающей 14 тысяч томов, см. интересные статьи А.Е.Грузинского (Толстовский ежегодник, 1912 г., стр. 133) и В.Ф.Булгакова (Толстовский ежегодник, 1913 г., стр. 67). Поля книг часто испещрены рукой Толстого, что несомненно сделает эту библиотеку богатым материалом для изучения мысли великого писателя.
[Закрыть], знают, что такое – невежество Л.Н.Толстого. А между тем мало ли у нас иронизировали на счет этого невежества! Сам Чехов, наверное, не прочитавший одной десятой части книг, известных Толстому, прохаживался на эту тему. Для современного интеллигента наука – то же самое, что твердыня великого Рима для римского гражданина на чужбине: вместо «civis romanus sum»{18}18
«Я римский гражданин» (лат.).
[Закрыть] достаточно произнести магические слова «научно обосновано», и перед обаянием грозной силы, имеющей столько известных каждому реальных проявлений, почтительно расступятся недруги. Но на Толстого слова эти не производили ни малейшего впечатления. Его универсально-анархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как суверенитет государственной власти.
Причины этого загадочного явления всем известны: по крайней мере Толстой дал очень простое, так сказать, официозное объяснение своей антипатии к науке нашего времени. «Я не только не отрицаю науку, то есть разумную деятельность человеческую, – замечает он, – но я только во имя этой разумной деятельности и выражений ее говорю то, что я говорю» (XVII, 161). Во имя «истинной науки» Толстой отрицал «научную науку» нашего времени. Истинная же наука есть то, что «действительно необходимо людям». Все это очень просто. Остается только выяснить, действительно ли должно здесь искать настоящую и единственную причину антипатии Толстого к науке. Что-то уж слишком элементарно это соображение, а мысль великого писателя почти всегда далеко не так проста, как она хочет казаться.
Наука, говорит Толстой, должна была бы объяснить народу, «каким топором, каким топорищем выгоднее что рубить; какая пила самая спорая; как месить лучше хлебы, из какой муки, как ставить их, как топить, как строить печи; какая пища, какое питье, какая посуда, какие грибы можно есть и как их удобнее приготовить» (XVII, 156). Упрек Толстого очевидно несостоятелен: какая посуда лучше, как удобнее приготовить грибы, – это и без науки известно всякой бабе. Да и проблема «полезной» науки разрешается далеко не так легко. В настоящее время теоретическое знание тесно сплелось с практическим и нет никакой возможности отделить то, что полезно, от того, что только интересно. Размышление инженера Сади Карно о двигательной силе огня приводит к созданию отвлеченнейшего из отвлеченных принципов – второго закона термодинамики. Утилизация этого положения производит переворот в технике, отдельные отрасли которой столь прочно связаны между собой, что изменения парового двигателя не могут не отразиться на цене, если не на устройстве орудий первой житейской необходимости. Так, общеполезные изобретения, как телеграф, телефон, вся современная электротехника, покоятся на чисто теоретических исследованиях Ампера и Фарадея. Лабораторные работы Пастера спасают от гибели виноделие и шелководство, то есть достояние миллионов французских крестьян. В рабочем кабинете Либиха зарождается идея дешевого мясного супа. А сама несчастная медицина? Какими доводами сражается с ней Толстой? «Защитники науки... – говорит он, например, – почему-то полагают, что вылеченное от дифтерита одно дитя из тех детей, которые без дифтерита нормально мрут в России в количестве 50% и в количестве 80% в воспитательных домах, должно убедить людей в благотворности науки вообще. Строй нашей жизни таков, что детские болезни, чахотка, сифилис, алкоголизм захватывают все больше и больше людей, что большая доля трудов людей отбирается от них на приготовления к войне, что каждые десять – двадцать лет миллионы людей истребляются войною, и все это происходит от того, что наука... занимается, с одной стороны, оправданием существующего порядка, а с другой – игрушками» (XIX, 240).В этом аргументе, несмотря на его кажущуюся простоту, разберешься далеко не сразу: здесь, в сущности, не один аргумент, а целых четыре: 1) медицина не вылечивает всех детей, больных дифтеритом; 2) люди мрут в России не только от дифтерита; 3) наука оправдывает существующий общественный строй; 4) не велика радость, если и вылечишь ребенка: ведь все равно рано или поздно помрет.Первые три аргумента, очевидно, науке не страшны, ибо врачи могут победоносно ответить: сегодня вылечиваем немногих, завтра научимся вылечивать всех, сегодня – от дифтерита, завтра – от других болезней; в этой «плоскости» спорить с наукой невозможно. Далее, что целый ряд весьма видных ученых пристроился на содержание к владыкам существующего порядка, – это, разумеется, святая истина. Но она так же мало свидетельствует против науки an und f?r sich{19}19
Самой по себе (нем.).
[Закрыть], как дела Торквемады и Лойолы – против учения Иисуса Христа. Если Вольта ответствен за американский электрический стул, тогда надо поставить в вину Гутенбергу публицистику Булгарина и поэзию Баркова. Тогда крестьянин, посеявший лен, из которого сплели веревку для казни Пестеля и Рылеева, виновен в их гибели. Все это так очевидно, что даже несколько совестно противопоставлять Толстому доводы подобного рода: он их знал гораздо лучше, чем кто бы то ни было другой. Это ясно уже из того, что в нужную минуту он умел мастерским движением руки перебросить спор совсем в другую плоскость, ставя вопрос совершенно иначе: «Вы изобрели противодифтеритную сыворотку, вылечили ребенка, – говорит он ученым, – ну, а дальше что?»
«Зачем все это? – спрашивал когда-то Толстой у Мопассана, разумея под «всем этим» красоту и любовь в понимании французского писателя, – ведь это хорошо бы было, если бы можно было остановить жизнь. А она идет. А что такое значит: идет жизнь? Идет жизнь – значит: волосы падают, седеют, зубы портятся, морщины, запах изо рта. Даже прежде, чем все кончится, все становится ужасным, отвратительным, видны размазанные румяна, белила, пот, вонь, безобразие. Где же то, чему я служил? Где же красота? А она – все. А нет ее – ничего нет. Нет жизни. Но мало того, что нет жизни в том, в чем казалась жизнь, сам начинаешь уходить из нее, сам слабеешь, дуреешь, разлагаешься, другие па твоих глазах выхватывают у тебя те наслаждения, в которых было все благо жизни» (XIX, 227).
Что и говорить, в этом Толстой был слишком прав и его слова звучат особо горькой насмешкой именно в отношении великого французского писателя. К зловещей странице Толстого существует еще более зловещая иллюстрация. Это записки Франсуа, верного камердинера Мопассана. Автору «Bel Ami»{20}20
«Милый друг» (фр.).
[Закрыть] была уготована участь неизмеримо страшнее обычной. Он сошел в могилу заживо. Он знал, что болезнь, вонзившаяся в него в те минуты наслаждения{21}21
Louis Thomas. La Maladie et la Mort de Maupassant. Paris, 1912, p. 41.
[Закрыть], о которых говорит Толстой со скорбным презрением состарившегося эллина, медленными, но верными шагами ведет его к скотскому состоянию. Нет ничего страшнее, чем рассказ Франсуа о ночи 2 января 1892 года, когда Мопассан, стоя над краем бездны, тупым ножом пытался перерезать себе жилы: «Его широко открытые глаза уставились на меня, как бы моля хоть о нескольких словах утешения, надежды». Но не было ни утешения, ни надежды. На следующее утро богатырь, любимец женщин навеки стал паралитиком; вместо гениального писателя был идиот, наводивший бесстыдными речами ужас на близких и чужих людей. Самые скорбные страницы Экклесиаста, Паскаля, Толстого не могут подействовать сильнее, чем короткая, отвратительная в своем бесстрастии фраза медицинского отчета: «Monsieur de Maupassant est entrain des’animaliser»{22}22
«Господин Мопассан превращается в животное» (фр.).
[Закрыть]...
Но и обычная людская участь, участь маленького Ивана Ильича, разумеется, тоже не сладка. Против этого довода, которым так искусно умел пользоваться Толстой, наука совершенно бессильна. Ей не приличествует философия Панглоса или оптимизм а 1а Альфред Капюс. Наука не возлагает особенных упований ни на жизненный эликсир грядущих алхимиков, ни на мечниковскую простоквашу; она плохо верит в возрождение века Мафусаила и не очень утешительна, когда обещает человеку бессмертие в виде формы энергии или материи: кого может утешить вечность материально-энергетических процессов, тот и без того достаточно спокоен. Да, вылеченный от дифтерита ребенок не уйдет от той участи, которую мрачно развертывал Толстой перед глазами непокорных читателей. Да, и гениальный ум «слабеет, тупеет, разлагается»: дряхлеет Ньютон, впадает в старческое слабоумие Фарадей. Да, и гений мысли подвержен бессмысленным случайностям судьбы: в корзину Сансона падает голова Лавуазье, Пьер Кюри гибнет под колесами ломовой телеги. Да, sub specie aeterni{23}23
С точки зрения вечности (лат.).
[Закрыть] наука не нужна, бесцельна, нелепа. Но с этой точки зрения отнюдь не более прочно все то, что может быть противопоставлено науке. Где дует ветер вечности, там любое человеческое построение рассыпается, как карточный домик, и само толстовство в первую очередь: «Le silence ?ternel de ces espaces infinis m’effraie»{24}24
«Меня страшит вечное молчание бесконечного пространства» (фр.)
[Закрыть]. Это старая песня.
Но как значителен тот факт, что для преодоления пауки Толстой решился привлечь на помощь «точку зрения вечности». В его философской системе этот довод – козырный туз, который бьет все, что угодно. А в полемике против науки это вместе с тем единственный козырь. Конечно, Толстой прекрасно видел, что его аргументация о науке истинной и «научной», о науке полезной и бесполезной не может никого убедить. Если есть наука полезная, то нет ни вредной, ни ненужной, ибо все отрасли знания тесно сплетены одна с другой. Кто берет у науки что-нибудь, должен взять и все остальное. Кто признал «грабли и топорище», должен признать и Карно, и Ньютона, и Лавуазье. Все эти аргументы, эти данные дифтеритной статистики, пятьдесят процентов, восемьдесят процентов как-то не идут Толстому. Они будто взяты из арсенала профессоров теологии и церковных проповедников, по вековой практике которых не мешает при случае пристыдить гордыню науки ad majorem ecclesiae gloriam{25}25
Для вящей славы церкви (лат.).
[Закрыть] и напомнить, что без молитвы врачи все-таки не спасут. В самом деле, если медицина может вылечить хотя бы одно дитя из тысячи, значит, она не совсем бесполезна. Если дарвинизм только бесполезен, зачем же говорить, что он сверх того – «образец глупости»? Если ученость – синоним тупоумия, то следует ли корить представителей науки безнравственностью, эксплуататорством и т.д. – ведь с дурака нечего взять, на то он и дурак...








