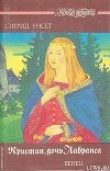Текст книги "В свете старого софита"
Автор книги: Мария Романушко
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
И дальше – стихи.
Например – эти. Я их только вчера написала:
. Шуты смеются сквозь слёзы.
. Но что увидишь под гримом?
. Шутам не бросают розы
. К ногам – а хохочут в спину.
. Такая у них работа.
. Они выбирают – сами.
. Но только, о ради Бога,
. Не нужно завидовать славе.
. Работа – каких не много.
. Ей жизнь отдана – до капли…
. Но только, о ради Бога,
. Не нужно над ними плакать,-
. Когда увидишь без грима
. Шута…
Но кто меня выпустит, кто?
Пожалуй – никто. С дефектом речи? Ха-ха!
А я бы их заставила плакать. Не только от смеха…
Но вот не знаю – нужно ли это цирку? Ведь цирк – это праздник! Музыка, улыбки, аплодисменты…
Нужен ли цирку трагик? Второй трагик? Один уже есть – Енгибаров.
Ездила бы, писала – и рассказывала людям. Сама! Своё!
А иссякла бы – ушла с арены…
По-моему, цирку необходим психологический элемент – как и любому другому виду искусства. В противном случае он перестанет удовлетворять запросы зрителей. И в цирк будут ходить только дети. И цирк превратится в ЦЮЗ – цирк юного зрителя. Где только хи-хи да ха-ха».
…А за окном всё падал и падал снег, густой, мохнатый… Несмотря на то, что уже наступило 15 марта. День рождения Моего Клоуна. Но я об этом пока не знала.
«Томбэ ля нэжэ…»
В СВЕТЕ СТАРОГО СОФИТА.
ЕЖЕНОЩНОЕ
Глава третья
…Океан памяти выносит на берег маленький чёрный потрёпанный портфель, с которым я бегала на лекции в Полиграфический институт. А портфель этот набит драгоценностями. Тут столько всего!…
1. Программка Сочинского цирка, осень 1967 года. (Это когда мы с ним познакомились).
2. Несколько школьных тетрадок – дневники сочинской осени.
3. Тонкая школьная тетрадка в синей обложке – рассказ «Зависть», черновик. (Чистовик находится в Архиве литературы и искусства в фонде Енгибарова).
4. Журнал «Волга» за 1970 год с его новеллами.
5. Несколько журналов «Театральной афиши» весны-лета 1970 года, когда он выступал в Московском цирке, и в «Афише» порой печатали его фотографии – эпизоды его номеров. Поэтому я охотилась за этими «Афишами».
6. Плотная стопочка билетов в Московский цирк на Цветном бульваре на спектакль «Весенние дебюты» – 22 билета! Но на самом деле в цирке (в ту весну и лето) я была больше двадцати двух раз: потому что ещё ходила по контрамаркам с Дюшенами, Катей и Наташей, Игорь Борисович устраивал нам такой праздник. А ещё я изобрела хитрый способ: как по одному билету ходить дважды!
7. Дневники весны 1970 года – толстые общие тетрадки, но не в цельном, а в разодранном виде: какие-то страницы я из них вырывала в последующие периоды жизни. (Мне не хотелось, чтобы мои потомки сочли меня чересчур сентиментальной). А между страниц дневника – клочок афиши, сорванный 18 марта 1970 года на Садовом кольце, неподалёку от Красных ворот. Маленький клочок, сухой и жёсткий от клея, жёлтый, как осенний листок… Этому клочочку-листочку уже тридцать пять лет.
«Весь вечер на арене
заслуженный артист Армянской ССР
ЛЕОНИД ЕНГИБАРОВ
с партнёрами Завеном Мартиросяном
и Альбертом Миносяном»
8. Ещё в портфеле – пакет с фотографиями. Это я его снимала. Тогда же – летом 1970 года. Хотя фотографии не высшего качества, потому что снимать в цирке трудно, всё время ослепляют прожектора… Но мне эти мутные, нечёткие изображения говорят очень много. Глядя на них, я могу мысленно восстановить его номера.
9. «Вечерняя Москва» с заметкой о спектакле «Весенние дебюты».
9. Пригласительный билет в ЦДРИ на его Творческий вечер.
11. Черновик киносценария «Алле!» Это я для него написала.
12. Черновик моего разгневанного письма к нему. (По поводу того, что он кое-что изменил в своих номерах, а я считала, что это – неправильно).
13. Два его письма из Еревана (по поводу моего сценария «Алле!»).
14. Квитанции от моих телеграмм, отосланных ему в Ереван, когда мы собирались делать вместе фильм, и целую зиму шли переговоры: где снимать, с кем снимать…
Да, в этом портфеле, в основном, черновики. Потому что в те далёкие времена у меня даже пишущей машинки своей не было. Всё писалось от руки, чистовик отсылался адресату, а черновик оставлялся себе – на память.
15. Ещё в портфеле живут белые перчатки – это его перчатки, в которых он выступал (в некоторых номерах). Мне их подарила спустя много лет одна художница, а к ней они попали довольно причудливым путём.
16. Здесь же – пригласительный билет на Вечер, посвящённый его памяти. (Это уже 1982 год. Я готовила этот вечер пол года. Как-нибудь расскажу про эту эпопею.)
А ещё… ещё на стене в моей комнате висит Скрипка. Его Скрипка! Та самая, с которой он выступал в манеже. На которую я молилась, которая была для меня зримым образом души Моего Клоуна. Эта Скрипка вот уже пять лет живёт в моём доме. Висит над диванчиком моей дочки, которая обожает Клоуна и считает его своим другом. Хоть и родилась через семнадцать лет после его ухода. Как она оказалась у нас, его Скрипка? Её нам подарили в благодарность за фильм о Клоуне, который мы сделали вдвоём с дочкой. (Это – уже 2000 год, и это – отдельная история, в своё время расскажу и об этом.)
А рядом со Скрипкой висит старая-престарая енгибаровская афиша, которую я ободрала когда-то (в марте 1971 года), ночью на Самотёчном бульваре, с круглой афишной тумбы… Я обдирала её, а в это время – мимо, со звоном, роняя на чёрную, мокрую мостовую синие искры, пролетали красные трамваи – красные сверкающие иглы, сшивающие времена и эпохи моей жизни…
Ещё в портфеле – журнал «Литературная учёба» за 1984 год с моей повестью «Не прощаюсь с тобой». Она посвящается Леониду Енгибарову.
* * *
Да, о той весне – весне 1970 года – я уже написала книгу. Она называется «Не прощаюсь с тобой». Хотя я не собиралась рассказывать миру нашу историю. Но другой клоун, который называл себя его учеником, взял и украл многое из енгибаровских клоунад и изуродовал их, лишил их смысла. И когда я сказала ему об этом, он нагло так заявил, что «у мёртвого украсть нельзя». А ещё он сказал слова, которые ученик об учителе сказать не может. Если он действительно ученик, а не просто вор. Он сказал: «Если бы Енгибаров был жив, он бы никому уже не был нужен». Меня потрясли эти слова.
И я написала книгу.
Но в то время я ещё не могла назвать Енгибарова его именем. Опять же, как и в истории с рассказом «Зависть», я боялась, что скажут: это – мемуары. А я мемуары никогда не любила. Мне всегда казалось – это что-то вроде гербария: что-то такое навсегда засушенное, пожелтевшее, бывшее живым КОГДА-ТО, очень давно… Отжившая, облетевшая в Лету жизнь…
Для меня же вся эта история – история дружбы с Моим Клоуном – была живой. Дружба продолжалась, углублялась.
Я хотела, чтобы в моей книге Клоун продолжал жить, и выходить на манеж…
Когда я писала «Не прощаюсь», мне необходимо было разобраться во многом, понять, что с ним происходило в какие-то минуты жизни, что он думал и чувствовал… Я настроилась на него, как музыкальный инструмент настраивается на музыку. Я настолько погрузилась в его жизнь, что временами мне казалось: я – это вовсе не я, я – это он. Случалось, со мной что-то происходило, и я пронзительно чувствовала в эти мгновения: ТО ЖЕ САМОЕ было с ним когда-то… А теперь ЭТО произошло со мной, чтобы я поняла, ЧТО он когда-то чувствовал.
…Помню свои блуждания по осенней Москве, когда я блуждала как будто бы с ним, точнее – в нём… Это он мне диктовал, куда идти, и даже темп этих блужданий диктовал он: я не могла по своей воле идти быстрее или медленнее. Я шла так, как шёл бы он. Как шёл он когда-то…
Часто меня пронзало, будто острой иглой, ощущение: то, что сейчас со мной – ЭТО БЫЛО С НИМ КОГДА-ТО. Я шла по осенней Волхонке, загребая листья ногами, и абсолютно точно знала, что это идёт он, и в голове моей звучали его мысли, и в сердце ныла его тоска…
Я помню цыганского младенца на руках у цыганской мадонны – я смотрела на него и чувствовала, что это ОН смотрит… и я слышу его мысли в своей голове…
…Помню, как я бродила по пустырю в Марьиной Роще, где когда-то был его дом, на пустыре цвела мать-и-мачеха… старого деревянного дома уже не было… но я видела этот дом внутри у себя… слышала его скрипы, слышала его запахи… Единственное, что на тот момент сохранилось – это чугунная колонка, к которой он всю жизнь бегал за водой… зимой и летом… Я взялась за холодный рычаг колонки, и почувствовала, что это не моя рука лежит на рычаге – это его рука…
…Помню осеннюю ночь восьмидесятого года… мой сынишка очень болел тогда, три ночи я совершенно не спала, но вот ему стало получше, я упала на подушку в полном изнеможении – но спала всего несколько минут… проснулась почти тут же – с ясной, свежей головой, и в мозгу пульсировало: «Театр! театр!» И я поняла, что всё это – не со мной, всё это – с ним, с Моим Клоуном (я как раз в ту осень писала книгу о нём). И в ту минуту мне стало ясно, как родилась в нём идея театра, и что предшествовало этому – и я услышала запахи той, далёкой – его – осени, и увидела звёзды над крыльцом его старого дома в Марьиной роще…
…А ещё помню чёрную точку напротив слова «Астрахань». Это была весна 81-го года, уже девять лет, как Моего Клоуна не было на свете… Я работала в Центральном архиве литературы и искусства с его архивом. Никто ещё к ним не прикасался – к этим папкам, туго набитым черновиками, фотографиями, письмами… Архив был до сих пор не обработан. Я была первым человеком, кому позволили прикоснуться к этим драгоценностям. Помню его гастрольный дневник: «Города, годы». Казалось бы, просто перечисление мест, где и когда выступал. Просто перечисление… Но меня почему-то зацепила точка у слова «Астрахань». Это была не просто точка в конце предложения. Она была какая-то особая. Чернее всех остальных. Какая-то значительная. С подтекстом. Не просто точка – ОТМЕТИНА. Как напоминание себе о чём-то. О чём не хотел писать открыто.
Меня эта точка завораживала, буквально засасывала внутрь себя, как тёмный водоворот, как воронка… О чём она – эта отметина? что стоит за нею?…
И вот однажды, когда я вглядывалась в эту чёрную таинственную точку… я почувствовала жар и невыносимую духоту, мне стало трудно дышать… и я ощутила себя в летней Астрахани (в которой никогда в жизни не была), увидела цирк с раскалённым на солнце куполом… и Моего Клоуна, бледного, с испариной на лбу… увидела доктора с чемоданчиком… почувствовала запах лекарства… и услышала страшный приговор: «При такой нагрузке – пять лет, не больше…» Вся картина происшедшего в Астрахани, происшедшего много лет назад, встала передо мной – как будто я присутствовала там. Сосредоточившись на чёрной точке, я – через эту точку – вошла в ту минуту… Разгадала, что было в ней зашифровано…
…Потом, когда повесть была опубликована, тётя Женя, его крёстная, позвонила мне, и первым её вопросом было: «Откуда ты знаешь про Астрахань?» Я рассказала про чёрную точку. Тётя Женя была потрясена. И в ответ рассказала мне про девушку из Астрахани. Эта девушка пришла к ней уже потом, после… после Лёниного ухода. И рассказала, что Лёня, когда был на гастролях в Астрахани, жил у них на квартире, и была в то лето страшная жара, а у него почти каждый день по два спектакля… и однажды ему стало плохо, и вызывали «скорую», и врач сказал: «Пять лет при такой нагрузке».
К сожалению, астраханский доктор не ошибся. Прошло ровно пять лет – и его страшное предсказание сбылось.
Многое в жизни и в характере Моего Клоуна я постигаю чисто интуитивно.
Чтобы рассказать чужую жизнь – нужно войти с ней в унисон.
Нужно переболеть и перестрадать теми же болями.
Это значит – удостоиться.
Чтобы удостоиться – надо заслужить.
Чем заслужить? Только одним – любовью.
И при этом я не могла, не решалась назвать в своей повести Моего Клоуна его настоящим именем. Я долго придумывала ему псевдоним. Не знаю, насколько его «книжное имя» оказалось удачным, но интересно вот что: некоторые читатели говорили мне потом: «А я и не знал, что настоящее имя Енгибарова, оказывается, Нико Варданян!» То есть – читатели приняли это как должное. И даже его родственники, и друзья – никто не задал мне вопроса: «А почему клоуна в твоей книге зовут Нико?»
Моя повесть, вышедшая в 1984 году – это история романтической дружбы Безымянной Девочки и Великого Клоуна. Из-за сокращений текста история дружбы оказалась вынута из той жизни, которая её питала (и продолжает питать).
С повестью «Не прощаюсь с тобой» произошла такая история. Журнал «Литературная учёба», где её захотели опубликовать, этот журнал выходил раз в два месяца, и большие сочинения, с продолжением, они не печатали. А для одного номера моя повесть была слишком велика. В редакции мне сказали: «Сокращайте! На три печатных листа». – «Но это же невозможно!» – «Тогда мы не сможем её напечатать. Выбирайте: или в сокращённом виде – или никак». Страдая, я согласилась на сокращения. Выхода ведь не было.
Я кромсала её целую ночь – резала, как по живому. Где – целые страницы, где – отдельные фрагменты, где – куски фраз, где – выкидывала эпитеты… Надо было сократить почти в два раза. Это было ужасно!
…Потом, через много лет, когда стало возможным издать повесть отдельной книгой, мне не удалось найти её полный вариант. (Компьютеров ведь в то время ещё не было). Повесть была распечатана мной в трёх экземплярах на пишущей машинке, и два экземпляра сразу же ушли из дома: их читали мои друзья, затем передавали своим знакомым, те – своим знакомым… Ну, как обычно, как всегда. И ко мне эти два экземпляра уже не вернулись. А третий экземпляр, на котором производились сокращения, был отдан в редакцию «Литературной учёбы». Вот и всё.
Как восстанавливать утраченное, спустя годы?… Да, кое-что я всё же дописала по памяти – несколько последних страниц: постскриптум и концовку, которые помнила наизусть. Но, в остальном, повесть вышла в журнальном варианте. А вычеркнутые когда-то фрагменты фраз, абзацы, отдельные слова и страницы восстановить (на тот момент жизни) оказалось невозможно. Ведь для этого нужно было бы опять войти в ту же реку… А одного желания для этого – мало.
Для этого необходимо, чтобы многое СОШЛОСЬ. Чтобы спираль жизни вынесла тебя на следующий виток, который на каком-то крутом изгибе вновь пересекается с ТОЙ ЖЕ рекой… Да, есть реки, которые текут ВДОЛЬ всей жизни. Их исток – в далёком прошлом, а вот устье… – в необозримом будущем… И хоть очертания берегов с годами меняются, но сами воды… – это ведь ТЕ ЖЕ САМЫЕ воды!
Одна из рек, текущих вдоль всей моей жизни – это мощный поток по имени Енгибаров. Сколько раз я входила в эти воды! Воды всё те же, но я – каждый раз другая, и поэтому моё переживание этой реки каждый раз новое…
И вот сейчас это случилось вновь. Я вновь вошла в эти воды… Но не потому, что «дата». Хотя и дата тоже – тридцать пять лет с ТОЙ ВЕСНЫ – много это или мало?… По сравнению с вечностью – мгновение. Кстати: моему Клоуну в ту весну было именно тридцать пять. И вот, прошло ещё столько же…
То, что я не могла понять и принять когда-то, я поняла со временем, когда настало время понять, – пришёл другой возраст. С возрастом я сама стала другим человеком, и теперь совершенно иными глазами смотрю на нашу историю, с совершенно иными чувствами перечитываю свои стихи того времени и дневники той, далёкой весны…
Наша история продолжается, в ней пишутся новые главы.
Да, есть повесть «Не прощаюсь с тобой», написанная и опубликованная давно. Это – взгляд на весну семидесятого – из восемьдесят второго года…
И есть книга, которая пишется сегодня. Это – взгляд из третьего тысячелетия.
Одна книга дополняет другую.
* * *
…Когда-то я страдала из-за того, что я младше его. Намного младше.
…Но вот, я уже намного старше его. И когда теперь оглядываюсь на ту весну, мой Клоун уже не кажется мне взрослым дядей, которого я называла когда-то по имени-отчеству, и никак не иначе. Теперь он мне кажется… мальчишкой! Я давно уже с ним «на ты», как он и хотел того, и я говорю ему просто «Лёня», как он и просил меня когда-то.
Почему я уже не боюсь называть его по имени? Почему я уже не боюсь называть многие вещи своими именами?… Да, видимо, настало такое время – не бояться. Настало время выловить из океана памяти заветные волшебные картинки, на которых (наконец-то!) проявился до мельчайших подробностей весь рисунок и все оттенки… И если не я, то кто же расшифрует эти рисунки? Кто опишет смысл причудливых линий? Кто, если не я? Ведь это – моя жизнь. Моя судьба.
И всё же эта книга – не исповедь. Нет.
(Исповедь – это только наедине с Богом. В другом месте и в другое время).
Моя книга – благодарственная молитва. А ещё – урок понимания. Должны быть такие уроки. На которые никто нас не водит. Только мы сами можем туда отправиться, если дорастём.
Успеть дорасти до понимания своей собственной судьбы…
Думаю, что мне повезло.
* * *
…Когда перечитываю свою повесть «Не прощаюсь с тобой», вижу, что из-за сокращений текста исчезли многие, дорогие моему сердцу подробности. Какие-то штрихи, нюансы… И многие мои переживания, и мысли, которые казались мне на тот момент очень важными. Они мне кажутся важными и сейчас.
История-то на самом-то деле была объёмнее. История была не отделима от жизни, а в жизни много сюжетных переплетений…
К счастью, кое-что сохранилось в пожелтевших дневниках…
Ещё больше – в сердце.
Да!…А ещё в старом портфеле лежит мой старый пропуск в Старый цирк на Цветном бульваре – в тот цирк, который давно сломали… Цирк сломали, а пропуск в него – остался!
И поэтому мне не составит труда вновь войти в него – в мой любимый старый цирк… Стоит только захотеть. Ведь пропуск-то остался! И в старый цирк, и в тот мартовский вечер…
* * *
…18 марта 1970 года. Наша встреча, о которой я мечтала два с половиной года.
Подробности того вечера можно перебирать в памяти, как обжигающие звёздные пылинки, осыпавшиеся с хвоста пролетевшей кометы… Кометы по имени Юность…
…Как я прибежала к нему за кулисы, с букетиком фрезий и рассказом «Зависть», и как он удивился, и в первую минуту ничего не понял, потому что не узнал меня.
Да, да, он меня не узнал… И это было настоящим шоком для меня. Мне хотелось в ту минуту провалиться сквозь землю. Но он сказал (видимо, из вежливости): «Заходите после спектакля». Добрый. Бросил соломинку утопающей…
Ну, и пусть не узнал, не вспомнил, ну и пусть! Главное – я опять вижу его на манеже.
Я ЕГО ВИЖУ! Есть в жизни счастье. Мечты – сбываются!
Худая фигура в смешных чёрных башмаках, те же брюки на одной лямочке, знакомая полосатая футболка, тёмно-синий платок в белый горошек на шее, чёрная шляпа на чёрных, прямых волосах. Всё – на месте. А главное – глаза. Говорящие глаза молчаливого, молчащего клоуна… И его скрипка, не издающая ни звука. Но своим молчанием говорящая больше, чем иные звучащие скрипки. Говорящая об одиночестве человека, не похожего на других. Говорящая о несбывшемся и о несбыточном… Говорящая мне – обо мне…
О, зонтики! Здравствуйте, знакомые зонтики в руках Моего Клоуна! Я так соскучилась по вас! Соскучилась по вашему стремительному верчению, по вашему полёту, по вашей сплочённости и поддержке друг друга, как бывает только в настоящей дружбе. Могут ли дружить зонтики? Можно ли дружить с зонтиками? И чем они отличаются от людей? Наверное, тем, что не умеют предавать… Своего Клоуна.
А вот и канат, расстеленный на ковре, по которому идти весело и страшно, как если бы он висел над пропастью… Весело и страшно. Как всегда на канате. Да ещё с завязанными глазами! Да ещё с пританцовкой и с комическими прискоками. Так что можете смеяться. Вы – которые сами не пробовали…
…Странно, почему я раньше не видела «Тарелки»? Наверное, это его новая клоунада. Смешная и грустная одновременно. Это – целый клоунский спектакль, который развивается по законам драмы. Ах, как хочет партнёр научить Клоуна жонглировать тарелками, быть ловким, удачливым. Но нет – это не его путь. Ах, как хочет партнёр, чтобы он, Мой Клоун, был похож на него! Был таким же правильным, таким же ходящим по струнке, с такой же выправкой, с такими же движениями робота… Но Мой Клоун – живой человек, не похожий ни на кого! Он не боится быть неправильным. Он не боится всё делать по-своему. Он – НЕ БОИТСЯ! Но что-то ещё кроется в этой клоунаде… надо подумать… надо расшифровать… отчего-то щемит сердце, и хочется плакать, а все вокруг ржут… Да, действительно смешно: мимический диалог Белого и Рыжего, правильного и неправильного, умелого и неловкого, вышколенного и ершистого, чеканного и нелепого… Но какой-то ещё один смысл, а может, и много смыслов кроется за всей этой весёлой и грустной кутерьмой… я разгадаю, обязательно разгадаю… нет, я не буду его спрашивать, я – сама…
А какая потрясающая клоунада со скакалкой! Пожалуй, самый смешной его номер. Это надо же: столько всего напридумывать с этой скакалкой! Он буквально выжимал из каждого предмета, с которым работал, всё возможное. И – невозможное!
…Ведущий гонит Клоуна с манежа, а тому хочется прыгать через скакалку. Ведущий отбирает скакалку – и уходит. А Клоун вынимает другую. И начинает прыгать. И вторую отбирает строгий ведущий. И третью! И требует показать, что ещё там в карманах. О, это целая феерия – этот мимический разговор: выверни карман, покажи, что там! И бесконечные увёртывания Клоуна от необходимости вывернуть карман. Но, в конце концов, вывернул. А скакалки там и нет… А она – под шляпой! Вот она, припрятанная на такой случай. Но почему-то совсем коротенькая. Обычным образом через неё не попрыгаешь. И тогда Клоун… начинает прыгать через неё… лёжа! Лёжа спиной на манеже, он прыгает через коротенькую скакалку. (Сложнейший акробатический номер, между прочим!)
Смешно? Смешно. Но не только. Потому что, если задуматься: о чём эта клоунада? – то проявится её философский, глубинный смысл. И смысл этот предельно ясен: делай, делай СВОЁ дело – даже при минимуме возможностей, даже если тебя гонят, даже если отбирают твои возможности, но ведь всегда остаётся с тобой ТВОЁ – затаённое, САМОЕ-САМОЕ, которое у тебя не отнимут, не могут отнять. Потому что никто даже не догадывается, где это – самое-самое – скрывается. И пусть ты выглядишь нелепо и смешно, делая своё дело, без которого ты не можешь жить, – пусть! Но те, которые ржут над тобой, вдруг задумаются… промелькнёт в их головах такая мысль: «А я смог бы? а мне по силам так выкладываться? так не щадить себя? только чтобы сделать СВОЁ дело, которое, если не я, то никто другой не сделает…»
…И когда после спектакля я зашла за кулисы, он смотрел на меня, всё ещё не узнавая. Но – улыбался приветливо. И спросил как-то по-детски, доверчиво и нетерпеливо:
– Ну, как я сегодня работал?
– Великолепно! Но Вы страшно много работаете! И так будет каждый вечер?
– Да.
– Это невозможно – так много.
– Это не страшно, – улыбнулся он устало. И вдруг спросил: – Послушай, а… как тебя зовут?
Вот как я его запутала своим рассказом! На обложке стояло имя автора – моё, а в рассказе героиня названа другим именем. Таким образом, я раздвоилась на двух людей, вернее – даже на троих! На некую Ксанку, которой я «подарила» свою историю знакомства с клоуном, и на безымянную «я», пассивно выслушивающую Ксанкины восторги в адрес клоуна. И на автора. Вот такой я была скрытной и застенчивой в то время, вот так мне приходилось шифровать свои чувства! Конечно же, он был совершенно запутан, и не мог понять: кто же в настоящий момент стоит перед ним?…
…А потом мы шли по Цветному бульвару… По ночному, хрустящему тонким ледком, Цветному бульвару, по которому я неслась днём, разбрызгивая оранжевые, полные солнца лужи… и мечтая отчаянно, дерзко… – но даже в мечтах не было ночной Москвы, редких прохожих и мы – вдвоём…
Я не могла обращаться к нему просто по имени.
– Как Ваше отчество? – спросила я.
– Называй меня просто Лёня, – сказал он.
– Я так не могу.
– Ну ладно, для тебя – Леонид Георгиевич. Хотя никто меня по отчеству не называет, ты будешь первая. Послушай, я прочёл твой рассказ. Ещё в антракте. Спасибо!
– Я не знаю, насколько это о Вас. Ведь я Вас почти не знаю. Но Вы поняли, насколько это – Вам?
– Конечно, понял, миленький. Спасибо тебе.
Меня бросило в жар: он назвал меня «миленький!»
– Но… прости, – сказал он, – я не помню тебя в Сочи.
Я похолодела. Из огня – да в полымя… А я-то думала: он помнит меня. Я ведь ему ещё и письмо в Сочи послала, со своими стихами. Я считала, что наше знакомство продолжается. Мне даже казалось, что это не просто знакомство, а хорошая дружба – такой маленький чудесный росточек, который растёт в глубину… Я именно так это ощущала – эти два с половиной года. Не было дня, чтобы я не вспомнила о нём. И мне казалось, что… ну, конечно, не так часто, но всё же… хотя бы изредка… он меня тоже вспоминает. И – вот!… на тебе! чтоб не была такой самонадеянной!
Стараясь не показать виду, что я убита его признанием, говорю как можно безразличнее:
– Ничего удивительного. Напротив, было бы странно, если бы вы помнили меня.
И тут он взглянул на меня так пристально… вгляделся, как будто вчитался в моё лицо… И – радостно улыбнулся:
– Ой, а не ты ли – та девочка, которая встретила меня на улице и дала почитать вырезку из газеты?
– Угу.
– Так я помню тебя! Я тебя очень хорошо помню. Только ты была тогда посветлее…
– Просто выгорела на солнце.
(Ну, надо же! Он даже помнит, что я была посветлее… А это действительно так: на южном солнце мои каштановые волосы сильно выгорают, и я становлюсь почти блондинкой).
– Я даже помню, откуда ты была тогда, – сказал он. – Из Днепропетровска, верно?
– Да. Точнее – из маленького степного городка под Днепропетровском.
– А как ты в Москве-то оказалась? Я не ожидал тебя здесь увидеть.
– Переехала. С родителями. Полтора года назад.
– Отлично! Значит, теперь мы с тобой – земляки.
– А вы где живёте?
– В Москве, конечно. Я и родился тут, и всю жизнь живу в Марьиной Роще. Знаешь такое место?
– Знаю!
– Правда, последние годы дома бываю редко – гастроли… Мама скучает одна. Но пятнадцатого и шестнадцатого марта стараюсь обязательно быть дома. Приехать хотя бы на два дня.
– Почему именно на эти два?
– Так это же наши с мамой дни рождения! Мой – пятнадцатое марта, её – шестнадцатое.
– Надо же…
(Выходит, три дня назад у него был день рождения!)
– А ты учишься где-нибудь? – спросил он.
– В институте. Полиграфическом.
– А почему не в Литературном? Тебе в Литературный надо. Ты пишешь хорошо, совершенно профессионально.
– Там творческий конкурс сумасшедший. Говорят: до пятидесяти человек на место. Мне стихи вернули без всяких комментариев.
– Странно… Кого же они берут тогда? Послушай, а ведь я даже помню имя героя твоей новеллы, которую ты мне дала почитать – тогда, в Сочи.
– ?…
– Его звали Романом.
– Верно!
(Мне опять стало жарко! жарко!!)
– Согласись, что у меня отличная память, – улыбнулся он и тихонько сжал мой локоть.
– Потрясающая!
– А книжки у тебя уже есть? – спросил он.
– Пока нет…
– Чтоб были!
И опять я пообещала ему – как тогда, в Сочи:
– Будут!
Помнит, помнит! Всё помнит! Хотя прошло два с половиной года. Значит, я не придумала, не нафантазировала наше общение – на расстоянии… Оно – БЫЛО!
– Кстати, а сколько тебе лет? – спросил он.
Я хотела сказать «двадцать», но я не умею врать, даже в мелочах. Поэтому сказала, как оно есть:
– Двадцатый.
– О, совсем взрослый человек! – сказал он. И вздохнул: – А я уже старый… Мне уже тридцать пять.
…Был странный вечер. Почти нереальный. Один вечер из Несбыточного…
Пустынный Цветной бульвар, пустынная Самотёка с красным оком светофора, и мы пошли на красный свет… и он крепко держал меня под руку. Пустынный Самотёчный бульвар… Мы шли по тёплой, ночной, пустынной планете, которая принадлежала только нам. Воздух тёплый и морозный одновременно, он ласково холодил горячее лицо… Тёмные деревья причудливых форм, светлые сугробы, желтые луны фонарей, вокруг них – туманные, мерцающие облака… Нежный хруст под ногами… мы шли по очень тонкому льду… Облака… хруст… мерцание… нежное переплетение ветвей… упругость мартовского воздуха… тёмные русла пустынных аллей… Он крепко держал меня под руку.
Мы по Цветному в сумерках идём,
На красный переходим Самотёку…
– в ритме наших шагов, сами собой, стали складываться в голове строки…
Мне никогда ни с кем не было так легко. Мне казалось, что мы ходим так с ним тысячу лет, ну минимум – сто. Да и вовсе не с ним я шла. Мне казалось, что я иду сама с собой. Я думаю – а он говорит: мои мысли, моими словами! Просто это была судьба: встреча с родной душой в огромном мире…
Я подумала: «Трогательный номер «Тарелки»… А он тут же сказал: «Я очень люблю «Тарелки». Я подумала: «Зачем весна? Скорей бы сентябрь», А он сказал: «Знаешь, я люблю осень».
– И только осень! – сказала я. – Терпеть не могу весну.
(Хотя эту, ЭТУ весну и ЭТОТ весенний вечер я боготворила! Если только можно боготворить время года и время суток).
– Послушай, отчего ты такая грустная? – спросил он.
– Обычная.
– Обычная?… – и он вдруг тихонько обнял меня. От неожиданности я вздрогнула – и резко отшатнулась. Он негромко засмеялся:
– Сразу видно, что в степи жила.
– Отчего?
– Дикарка.
– Нет, это не то! Это совсем не то!
– Ну, извини, – сказал он и опять взял меня под руку.
И мы пошли дальше… Мы шли и говорили обо всём на свете: он рассказывал, как прожил эти два с половиной года. В прошлом году болел долго, было полное истощение нервной системы, за год дал 637 спектаклей! И плюс семейные неприятности. И много писал. И сделал сценарий. В мае начнутся съёмки фильма с его участием. А в больнице, пока лежал, познакомился с Василием Шукшиным.
– Это гениальный человек! – сказал он. – Я преклоняюсь перед ним. Таких больше просто нет!
Ещё про номер «Медали» рассказывал:
– Этот номер называется «Олимпийские медали». Но никто этого не знает. А ведь это страшная критика на все и всякие медали! В Польше все диву давались: как у нас его пропустили? А наши дураки не поняли! Понимаешь, я нашёл форму. Вроде бы клоун, вроде всё, что нужно соблюдаю и выдерживаю, – НО Я ГОВОРЮ ТО, ЧТО Я ХОЧУ! Наверное, я от природы такой хитрый. Понимаешь, они смеются и не знают, что их бьют.
– Не все смеются.
Он внимательно поглядел на меня.
– Вот для тех, кто не смеётся – я и работаю.
Помолчали.
– Да, неуютно в этом мире… – сказал он.
А потом он, как тогда, в Сочи, прочёл своего «Карманного вора». Точнее, мы вместе его прочли. Он одну строчку, я – следующую…
– Я карманный вор.
– Я король карманных воров.
– Я богат и счастлив.
– Я почти что счастлив…
– Жаль только, что никто в кармане не носит сердце…
Оказывается, я ничего не забыла. Да и можно ли забыть – такое коротенькое и такое пронзительное стихотворение? Потому что, конечно же, это стихи. Самые настоящие! Хоть он и называет их новеллой.